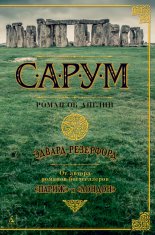Они. Воспоминания о родителях дю Плесси Грей Франсин

Мой отец, как обычно, был прав. В следующие две недели он лечился и постепенно вернулся к работе в министерстве, а немцы стремительно пересекли Бельгию (она капитулировала вскоре после Голландии) и двинулись на север Франции. С побережья Дюнкерка было эвакуировано более 330000 войск союзников. В конце мая немецкие войска вынудили французскую армию обороняться у реки Соммы – в двух часах езды к северу от Парижа. 6 июня они прорвали эту последнюю линию обороны, и во французских войсках воцарилась такая паника, что генералы перестали выполнять распоряжения штаба, а солдаты всех званий побросали свои полки. Дороги наводнили толпы французов. Немецкие войска стремительно подавили оборону армии, которая считалась сильнейшей в континентальной Европе, и стремительно приближались к Парижу. К 8 июня стало ясно, что Верховного главнокомандующего Франции просто-напросто застали врасплох, что французы недооценили мощь немецких танков и не смогли предугадать действия Германии; наконец, что слово dbcle, которое вошло в употребление тем летом, полностью описывает ситуацию – это был полный провал, позор и разгром.
Воскресным вечером 9 июня мой отец вернулся домой из министерства и сказал матери, что утром нам с ней предстоит отправиться в Тур. На рассвете туда эвакуировали правительство, а сам он должен был ночевать на работе. В 8 вечера он стоял на пороге с чемоданчиком в руке. Он обнял меня и сказал: “До скорого”, шепнул маме: “Береги себя и ее” и сбежал по ступенькам.
На следующее утро тетя Сандра пришла проводить нас. Она заливалась слезами, но тем не менее очень нас поддержала. “Боже мой”, – твердила она, беспрерывно вздыхая. Двадцать лет назад она бежала из России и потеряла дочь, мужа и всё, что у нее было. Как бы она нас ни любила, еще одну эвакуацию пережить было невозможно. Она помогла матери упаковаться, послала меня в лавку за едой в дорогу – меня впервые отправили с поручением в одиночестве. Гувернантка моя, едва оправившаяся от бронхита, поддержала тетю Сандру: что угодно, только не эвакуация. Пришла пора прощаться. Муж консьержки снес вниз наши чемоданы. Мама нежно держала меня за руку. Мы спускались по лестнице и слали воздушные поцелуи двум плачущим женщинам, которые вместе с тетей Симоной и бабушкой с самого раннего детства были моими главными наставницами.
Глава 10
Катастрофа
Покинув Париж солнечным утром 10 июня 1940 года, мы с мамой стали частью охваченного паникой каравана. Я по сей день не могу вспоминать об этом без ужаса. Дорогу в Тур, куда устремились парижане, запрудили всевозможные средства передвижения: пожарные машины, кареты “Скорой помощи”, тележки мороженщиков, катафалки, поливальные машины, туристические автобусы (с вывесками “Ночной Париж”), шикарные лимузины, спортивные автомобили, семейные седаны, даже тележки и коляски. Не переставая гудеть, все двигались на юг, к Луаре, где, по слухам, французские войска должны были открыть новый фронт. Движение шло медленно – путь, на который обычно уходило три часа, мы преодолевали за три дня. Набитые детьми, женщинами и стариками автомобили были кроме того под завязку загружены вещами: на крышах громоздились матрасы, одеяла, птичьи клетки, велосипеды, колыбели, швейные машины, кастрюли и другая утварь, палатки и часы с кукушкой. Между автомобилями (порой преграждая им путь) протискивались изможденные солдаты с отчаянными взглядами в поисках однополчан – отступающие войска толпились вперемешку с пешеходами. За последний месяц, после одного из самых сокрушительных поражении в военной истории, в путь отправились полтора миллиона французов.
В этом человеческом потоке не было злобы и почти не было гнева – люди пребывали в отчаянии и каком-то оцепенении. Лишь немногие знали, где теперь их близкие. Будто чудовищный взрыв разметал тысячи семей по всей стране. Люди звонили во все гостиницы подряд и писали в газеты: “Жюль Мойне, твои любящие родители в Осере”. Наш крохотный “пежо” тащился в общем потоке, и мы знали, что по всей Франции сотни тысяч наших соотечественников ищут своих родных и боятся за них. Всем было так же страшно, как и нам.
Матери моей было втройне страшнее. К концу первого дня она поняла, что, учитывая скорость приближения немцев, мы вряд ли успеем добраться до Тура; что правительство, которое выдвинулось в Тур в четыре часа утра, пробивая себе путь через людской поток громкими гудками, к нашему приезду уже наверняка покинет город. Она волновалась из-за Алекса – тот 8 июня покинул город со своей мамашей, надеясь добраться до юга Франции, но русскому еврею с нансеновским паспортом опасно было попадаться французским полицейским, известным антисемитам. Пока мы двигались в Тур со скоростью пять километров в час, мотор наш постоянно глох, и я понимала, что, несмотря на все поцелуи, которыми осыпает меня мама, она боится, что нас догонят немцы. Чтобы подбодрить ее, я пела свою любимую песенку про линию Зигфрида.
Три дня мы спали в машине, ели хлеб и вареные яйца, которые захватили из Парижа, и иногда выпрашивали в придорожных кафе немного фруктов. Мы направлялись в Вилландри, замок эпохи Возрождения в нескольких километрах от Тура, окруженный одним из лучших садов во Франции. Он принадлежал маминой подруге, Изабель Карвалло де ля Буйери, храброй и щедрой женщине, которая работала вместе с мамой в парижском приюте для детей беженцев. Вилландри был построен министром финансов Франциска I, который служил французским послом в Риме, и долгое время считался идеальным прототипом ренессансных замков. С XVI ека он принадлежал двум семьям, а в начале XX его купил богатый испанский офтальмолог, Хоаким Карвалло – он спас замок от разрушения и засадил сад самшитом по образу ренессансных садов. В мае 1940-го, когда начался немецкий блицкриг, его дочь Изабель открыла в Вилландри приют для детей беженцев. В течение последних недель она стала селить у себя в замке знакомых из Парижа – и нам повезло оказаться в их числе.
Прибыв в Вилландри, мама получила первое из отчаянных писем Алекса, которые он напишет ей в июне, не зная наверняка, где она сейчас. Ему тоже пришлось нелегко по пути из Парижа. Они с мамашей уехали двумя днями раньше, запасшись несколькими канистрами бензина, – с главной дороги их прогнал французский офицер, угрожая револьвером, и они пробирались на юг окольными путями. Наконец они добрались до Руана, куда приехала и мамина сестра Лиля – ее замужество было вполне счастливым, но это не мешало ей быть влюбленной в Алекса. Несмотря на всю свою внешнюю обходительность и обаяние, Алекс был настоящим тираном – в тоне этого письма, датированного июня, чувствуется затаенная злоба, которая часто будет звучать в атмосфере нашей семьи. Несмотря на царящий вокруг хаос, он злился, что мама оставила его, движимая любовью ко мне и долгом перед мужем.
Любимая моя,
Ты, конечно, так занята, что тебе некогда и думать обо мне. Лиля такая же умница, как и ты, и благодаря ей нам удалось найти две комнаты на чудесной вилле. Меня постоянно терзает мысль, что я потерял тебя. Беспрестанно думаю о тебе – кажется, тебя совсем не тронуло наше расставание, и мне больно об этом думать. Возможно, я ошибаюсь, и эти мысли происходят от моего одиночества. Любимая, напиши мне скорее, что страстно любишь меня и будешь любить, несмотря ни на что. Это всё мне урок: я понимаю теперь, что нуждаюсь в тебе сильнее, чем ты во мне.
Скорее напиши, что я ошибаюсь. <…> Проводить целые дни с мамашей очень тяжело. С Лилей тоже непросто, потому что она хочет того, чего я ей дать не могу, но она очень мила.
Я, как и остальные беженцы, брожу от кафе к кафе, всё время думая о тебе. Все говорят, что я печален, и это правда. <…>
Я уже не часть твой жизни, и ты строишь свои планы без меня. Любовь моя, обожаю тебя, напиши мне скорее, пока я совсем не отчаялся.
Целую, целую и обожаю тебя.
На следующий день, и июня – за два дня до падения Парижа – он написал снова. Его беспокоили оставленные в мастерской картины.
Каждый миг жду от тебя хоть слова. Что ты делаешь? Ты останешься на месте или отвезешь Франсин в Горж-дю-Тарн? Страдаю от мысли, что бросил все картины – они наверняка пропадут. Если Господь позволит, напишу еще.
Как чудовищно тяжело быть вдалеке от тебя, особенно в такое время. Беженцы приезжают сюда огромными толпами, и я целыми днями слушаю радио – здесь нет ни газет, ничего. Мама немного успокоилась. Напиши скорее, ты единственное окошко в мире, откуда светит солнце.
Обнимаю тебя всю.
Получив его первое письмо, 13 июня, она сразу же ответила – это было на следующий день после нашего приезда в Вилландри. “Как ты можешь сомневаться, я люблю тебя больше жизни и только и думаю, что о нашем будущем”. Дальше она пишет о том, как заботится о детях, как пытается раздобыть купоны на бензин. “Я не могу без тебя жить. Ты для меня всё. Без тебя я несчастна”.
В ту неделю французская почта всё еще работала. Алекс получил это письмо через два дня и 16 июня, через два дня после падения Парижа, написал ей снова.
Только что получил первое твое письмо. Ты не представляешь, как я счастлив. Утираю слезы. Умоляю, прости мне первые письма. Мне было так плохо без тебя, мамаша меня донимала, и т. д. И вдруг снова почувствовать твою страстную любовь! Бесконечно обожаю тебя, думаю о тебе одной день и ночь. <…> Все гостиницы реквизировали. Сердце замирает при мысли, что я снова тебя увижу. <…> Прошлой ночью был налет, и по радио Штутгарта объявили, что нас будут бомбардировать. <…> Умоляю, не задерживайся в Туре, если откроется новый фронт, вы не сможете уехать. <…> Единственная моя любовь. Жизнь моя, пиши и приезжай! Я могу приехать и забрать тебя. <…> Приказывай, я повинуюсь, я люблю тебя.
В эту неделю жители Вилландри узнавали новости из единственного в замке радиоприемника. Каждый день мы собирались в гостиной и слушали пугающие сводки. 16 июня премьер-министр Поль Рейно подал в отставку после того, как его кабинет отверг невероятное предложение Черчилля на время войны объединить силы британцев и французов. Вместо него главой государства назначили маршала Петена. 17 июня – за день до того, как в Тур вошли немцы и нам пришлось собраться в гостиной раньше обычного – восьмидесятичетырехлетний Петен своим высоким дрожащим голосом объявил об окончании Сопротивления:
– Я готов сделать всё, чтобы облегчить страдания Франции. <…> С болью в сердце я прошу вас прекратить военные действия.
Наша комната в Вилландри располагалась в конце крыла замка, выстроенного в форме буквы U. Из окна открывался вид на знаменитый самшитовый сад. Мы смотрели на сельскую дорогу, ведущую из деревни Вилландри в Тур. Утро следующего дня, 18 июня, выдалось солнечным: весь тот ужасный месяц был залит солнечным светом. В седьмом часу нас разбудило чье-то пение. Мама вскочила с криком “Немцы пришли!” Она схватила меня за руку и бросилась к окну. Немецкие солдаты маршировали по саду: юные румяные нацисты со сверкающими касками и штыками. Если меня не подводит память, в тот день они пели “Лили Марлен”:
- Возле казармы, в свете фонаря
- кружатся попарно листья сентября…[80]
Дети, как мне кажется, коллаборационисты по природе своей – мы делаем всё, что можем, чтобы очаровать врага, спасти свою шкуру, выжить. Мне радостно было смотреть на бравых сверкающих немцев, хотя я и понимала, что радости этой надо стыдиться. Не хотелось их убивать, меня, как и любого ребенка, тянуло ко всему блестящему, аккуратному, сильному. Моя вульгарная душонка восторгалась их роскошной формой, всеми признаками силы и власти. Я с жалостью и гневом вспоминала изможденных, отчаявшихся французских солдат, которых мы встречали по пути из Парижа. Глазея на немцев, я пыталась усилием воли вызвать в себе ненависть и чувствовала, что предаю отца, восхищаясь их красотой (а ведь его в любой момент мог убить один из них). Маму подобные сомнения не терзали. Она стояла у окна, подбоченившись, будто готовилась к битве, и тихо, с ненавистью, повторяла: “Quelle merde!”[81]
Речь генерала де Голля прозвучала по радио в 8 вечера того же дня, но ее услышали лишь немногие французы. О ней сообщили только постфактум, вместе с рассказом о его дерзком побеге из Франции, которому тоже не уделили достаточно внимания. Вечером 17 июня, через несколько часов после объявления о прекращении сопротивления генералу Эдварду Спирсу, возглавлявшему британские экспедиционные войска во время падения Франции, приказали покинуть Бордо. Де Голль самолично проводил Спирса в аэропорт – генералы были друзьями. На глазах у французов, которые впоследствии стали ярыми вишистами, де Голль попрощался со Спирсом у крохотного аэроплана на четыре места. В последний момент, когда уже завели мотор, Спирс рывком втащил де Голля в аэроплан. На глазах у потрясенных наблюдателей они скрылись в небе и уже через час были в Лондоне. Вечером следующего дня, после долгих переговоров с британским кабинетом при поддержке Спирса и министра иностранных дел Энтони Эзена, де Голль объявил по радио: “Мы проиграли сражение, а не войну”.
Помню, как наша хозяйка мадам де ля Буайери ворвалась к нам на следующий день после “речи 18 июня” и рассказала: де Голль зовет французов присоединиться к нему в Лондоне и вместе бороться с Германией! Мама притихла. Дождавшись, пока мы останемся одни, она взяла меня за руку и прошептала: – Твой папа наверняка присоединится к де Голлю!
Она была права.
Несколько дней спуся, 22 июня, Петей подписал соглашение о перемирии на совершенно постыдных условиях. Францию разделили на две части – оккупированную территорию (включавшую и наше пристанище, Тур) и так называемую Вишистскую территорию, возглавляемую коллаборационным правительством Петена. Руан был оккупирован немцами, но Алексу удалось преодолеть границу и добраться до Аскена, крохотного городка в нескольких километрах от Сен-Жан-де-Люз: там их с мамашей приютил его друг, Жан-Пьер Фурно. С середины июня мама с Алексом не получали друг от друга писем, и из-за введения цензуры это положение продлилось до июля. Хотя Алекс еще не получил французского гражданства, он глубоко переживал трагедию французского народа и в поисках утешения обратился к протестантской вере своей юности:
23 июня
Любовь моя, жизнь моя,
Пишу тебе в этот ужасный день. Не знаю, где ты, что с тобой. Не знаю, получишь ли ты это письмо, но верю, что Господь смилостивится над нашей великой, верной любовью.
Я столько пережил, так боялся за вас с Франсин. <…> Душа моя болит за нашу страну, и я чувствую себя совершенно беспомощным. Когда происходят такие великие события, личные горести и страхи кажутся такими мелкими…
Что бы теперь ни случилось, я благодарен тебе за наше счастье, и во всех будущих страданиях меня будет укреплять мысль о тебе. Помни, как я люблю тебя и как мы нужны друг другу. Любовь моя, где бы ты ни была, я живу только ради нашей встречи. С тех пор, как мы расстались, твой образ неотступно у меня перед глазами. Порой кажется, что я встречу тебя за первым же поворотом. Верю, что мы встретимся. Молю Господа за Францию, за тебя, за нас. Верь в меня так же, как я в тебя верю. Не покидай меня, как я никогда не покину тебя.
Твой навечно и всецело,
А.
Мою мать тоже тревожила неизвестность. 6 июля она написала ему четыре письма и разослала их по четырем адресам.
Любовь моя [гласило письмо в Сент-Максим], посылаю это письмо в четырех экземплярах. Что, если ни одно до тебя не дойдет?! Схожу сума от тоски по тебе. В понедельник еду в Виши, чтобы устроить нам с Франсин поездку на юг <…> Обожаю тебя, люблю больше, чем прежде. Надеюсь, что ты скоро напишешь мне в Вилландри.
Следующее его письмо на той же неделе явно было предназначено для того, чтобы при необходимости стать завещанием:
Любовь моя,
Снова тебе пишу и не знаю, получишь ли ты мое письмо. <…> Жизнь моя, мы сейчас пытаемся уехать в наш дом на юге и будем там ждать новостей. Где ты? Что с тобой? С тех пор, как мы расстались, жизнь моя остановилась. Если со мной что-то случится, всё, что мне принадлежит – картины, книги, мебель, все средства, – должно остаться тебе во имя того счастья, что ты мне подарила.
Молюсь за тебя, за нас. Навеки твой.
Александр Либерман
Переписка влюбленных возобновилась в середине июля. 14 числа Татьяна получила от Алекса телеграмму из дома в Сент-Максим и сразу же ему ответила. К тому времени в письмах уже следовало соблюдать сдержанность. На всех последующих ее письмах из оккупированной территории стоит штамп: “Проверено военными органами”.
Жизнь моя,
Наконец получила твою телеграмму с адресом. Как мне было плохо без тебя. Любовь моя, я ТАК по тебе скучаю!
Тут у нас свои горести. Вчера 40 детей отправились в Вилландри в карете “Скорой помощи” и до сих пор не прибыли. <…> Места детям не нашлось, и Изабель забирает их себе. Можешь вообразить, что тут творится? Вчера мы четыре (!!!) раза ездили в Тур за кроватями и прочим.
В нетерпении жду твоего письма и гадаю, как ты там справляешься без моих советов. Франсин наслаждается жизнью, а на фоне местных садов она стала еще краше.
Что сделать, чтобы мы встретились? Целую тебя нежно, люблю.
Р. S. Передай привет мамаше.
На второй неделе июля мы с матерью впервые столкнулись лицом к лицу с нацистским режимом. Мы ехали в нашем крохотном “пежо” в Тур, чтобы добыть муки для детей. В нескольких кварталах от префектуры, где разместилось немецкое командование, наш автомобильчик врезался в гигантский “мерседес”, набитый немецкими офицерами. Ветровое стекло разбилось, и нас осыпало осколками – мне досталось сильнее, и следующие несколько минут я ничего не видела, кроме крови. Хотя виной происшествию, скорее всего, было мамино неумение водить, она в ярости вылетела из автомобиля и на ломаном немецком принялась ругать офицеров. Их, видимо, обескуражили ее нападки – в те дни с оккупантами обращались очень любезно, но ее красота и благородный вид заставили их держаться вежливо, и они всего лишь попросили ее предъявить документы. Она дала им документы и визитную карточку. Увидев титул “виконтесса”, офицеры, явно уважавшие социальную иерархию, предложили отвезти нас в больницу.
– Не надо, – отказалась мать. – Я хочу видеть ваше начальство.
Потрясенные офицеры покорились, и мы вслед за немецким “мерседесом” под громкие гудки двинулись в комендатуру.
Моя мать обладала острым и проницательным умом. Последнее время она только и думала, как бы получить Ausweis, пропуск, чтобы попасть на территорию Виши и добраться к Алексу на юг Франции. Как только наши машины столкнулись, она возликовала. Теперь есть шанс попасть в комендатуру! Пока мы ехали, она утешала меня и приводила в порядок – причесывала и вытирала мне кровь с лица. Нас провели в главный кабинет, где еще несколько недель назад царил французский префект. Комендант оказался высоким церемонным мужчиной под сорок, который благодаря аккуратным усам и очкам в роговой оправе напоминал учителя. Офицеры отдали ему наши документы.
– Ваш муж случайно не потомок кардинала Ришелье? – спросил комендант по-французски без малейшего акцента.
– Любой нормальный человек предпочел бы быть потомком дамы с камелиями! – сердито ответила мать.
Комендант широко улыбнулся и приказал своим подчиненным заняться моими порезами, а сам завел с мамой оживленную дискуссию о Дюма-отце и его сыне. Мы узнали, что комендант Геберт преподавал французскую литературу в Гейдельбергском университете. Нас угостили шоколадом и вызвали автомобиль, чтобы отвезти домой.
– Прелестная виконточка, – прошептал он, целуя мне руку на прощание. Никогда не забуду, как он скользнул усами по моему запястью, каким добрым и почти молящим был его взгляд и как лихорадочно я размышляла – позволительно ли считать хорошим человеком представителя вражеских сил.
В середине июля, через несколько дней после нашей первой встречи с комендантом, мама получила Ausweis и письмо с указанием приехать в военное министерство в Виши и оставить меня в Вилландри в качестве заложницы. В обмен ее ждали новости о моем отце. Она оставила меня под опекой Гитты Серени, не по годам развитой семнадцатилетней венгерки, с которой незадолго до капитуляции подружилась в Париже, во время работы в приюте. В Виши какой-то чиновник сообщил ей следующее: правительство Виши вынесло смертный приговор де Голлю за измену родине, и вместе с остальными соратниками генерала моего отца объявили изменником. Мать также узнала, что лейтенант дю Плесси покинул Бордо вскоре после 18 июня и отправился в Касабланку, где организовал эскадрилью свободных французских авиаторов. Его самолет сбили в начале июля над Средиземным морем, когда он направлялся к де Голлю в Лондон, до поступления новой информации его сочли пропавшим в бою. (Весь следующий год мама, не решаясь сообщить мне правду, говорила, что отец выполняет “тайное задание”.)
Как я понимаю, мама в тот же день дала Алексу телеграмму с зашифрованным сообщением о нашей семейной трагедии: поскольку письма перлюстрировались, было небезопасно открыто писать о подвиге лейтенанта дю Плесси. В нарочито бодрых, непринужденных письмах на следующий день после известия о муже нет ни горя, ни боли потери. Ее волнует будто только одно – как собрать побольше купонов на бензин и добраться к Алексу на территорию Виши.
Жизнь моя, жизнь моя, жизнь моя [пишет она в письмах от 15 и 16 июля, во время поездки на территорию Виши]. Было непросто вырваться от немцев, но теперь дорога свободна, и в следующий раз будет легче. Я добралась до “Парк-Отеля” [там заседало правительство Виши] и сразу же дала тебе телеграмму. Пытаюсь собрать бензин, чтобы отправиться на юг, но мне не хватает fo литров. У меня есть 40 литров в Вилландри – этого бы хватило, чтобы добраться до Виши, но на остаток пути нужно больше. В пятницу я возвращаюсь в Вилландри, к Франсин. Надеюсь, что мы с тобой встретимся в начале следующей недели. Вот бы переждать этот кошмар на юге. Сразу же напиши в Вилландри. Я уеду, как только придет твое письмо.
Целую тебя так же крепко, как люблю.
Но как раз в это время возникли обстоятельства, препятствующие нашему отъезду на юг. Маме не удалось достать бензин. (“В Туре всё реквизировали”.) Несколько детей-беженцев сильно заболели, и она не хотела покидать Вилландри, пока не найдутся их родственники. Сама мама слегла с бронхитом и температурой. Кроме того, в ней, возможно, заговорила ханжеская скромность – что подумают люди, если узнают, что она поселилась у любовника с дочерью?
Еще важнее была последняя воля отца – незадолго до смерти он написал ей и супругам Дессоффи несколько писем.
Несмотря на собственные измены, он, оказывается, ревновал мать к Алексу куда сильнее, чем к предыдущим ее любовникам. Теперь же я осталась под маминой опекой, а отцу хотелось, чтобы я спокойно жила на территории Виши, но при этом как можно дальше от Алекса. У него не было выбора: все, кто помогал заботиться обо мне в детстве – моя гувернантка, тетя Сандра, супруги Монестье (последние к тому моменту уже присоединились к Сопротивлению), – решили остаться на оккупированной территории. Остальные близкие друзья родителей вели бурный образ жизни и не стремились его менять ради девятилетней девочки. Такое впечатление, что в переписке по этому поводу (слава богу, я прочла ее только несколько лет назад!) говорится о потерянной посылке. Требуется ваша помощь! Девочка без адреса нуждается в повторной отправке! Куда отправить девочку?
Мама рассказывала, что в последних своих письмах, пришедших уже после того, как его объявили пропавшим в бою, отец настаивал, чтобы она вызвала из Парижа мою гувернантку, Марию Николаевну, и та уехала бы со мной в его домик в Санари. “Мне переслали письмо Бертрана – он просит, чтобы я отправила Франсин в Санари, а в этом домишке даже кроватей нет! – пишет мама Алексу на третьей неделе июня, всё еще в постели. – Он считает, будто она доживет там до конца войны на продуктах, которые будут слать из города, а война якобы вот-вот кончится”.
И на следующий день: “Вчера температура упала – 39,5, и я надеюсь скоро встать на ноги. Франсин нежно обо мне заботится”.
Очевидно, она никак не могла определиться, ехать ли к Алексу.
Меж тем сам Алекс в полной безопасности жил у себя в Сент-Максим и злился на моего отца, который не разрешал привезти меня к нему. Об этом Алексу между делом сообщили супруги Дессоффи – они жили в сорока пяти минутах езды, в Санари, и часто его навещали. Также они рассказали, что мой отец попросил именно их позаботиться обо мне. Судя по письмам моей матери, Алекса тревожила беспечность Дессоффи, то, что они постоянно пребывали под хмельком и явно были не способны кого-либо опекать – как только их назначили моими покровителями, они тут же исчезли с горизонта. Кроме того, писал Алекс, в домике в Санари нет ни мебели, ни водопровода. (Нелепые идеи отца полностью отражали общее безумие, охватившее французов в ту пору.) Алекс, который единственный в тот месяц сохранял здравомыслие, предложил оплатить и проконтролировать ремонт дома, но продолжал настаивать, что это сумасшедшая идея. Единственный выход, писал он, получить еще один Ausweis и приехать со мной к нему.
На третьей неделе июля он пишет маме перед тем, как пришло ее письмо из Виши:
Чувствую, у тебя новая проблема – Франсин. Как же Б. [Бертран] не понимает, что в этот трудный час ей будет лучше здесь? Три недели назад Б. попросил Хелен присмотреть за Франсин, но она сейчас на это не способна, а Жак не знает, что делать. У него лежит последнее письмо тебе от Бертрана. Может, там говорится что-то новое? Что Франсин с Марией Николаевной будут делать в глуши без автомобиля? О деньгах не беспокойся. Пока деньги есть у меня, они есть и у вас с Франсин. Без тебя мне невыносимо – всякий раз, когда мимо проезжает автомобиль, мне кажется, что это ты, и сердце мое замирает. Мы уже купили Франсин велосипед! Приезжай, прочтешь письмо Бертрана и на месте со всем разберешься. Что за ужасная у нас жизнь! Приезжай!!!
P.P.S. Жак только что снова звонил… он открыл письмо Б. Там говорится, чтобы ты поступала как считаешь нужным, но “не привози Франсин в Сент-Максим”. И просит Хелен позаботиться о Франсин.
Неужели у вас нет родственников? Пли других знакомых? Можем заказать вам двоим номер в гостинице, пока не приедет Мария Николаевна.
В этот момент в нашей жизни вновь появился комендант Тура, герр профессор Геберт. Следующий эпизод, в котором он показал свою доброту, я не видела своими глазами, но много раз слышала о нем в пересказе матери. В конце июля, когда она приходила в себя от бронхита и гадала, как бы получить Ausweis на нас двоих, ей пришло приглашение от коменданта Геберта прийти к нему в кабинет, одной. При встрече он усадил ее в кресло и сказал следующее:
– Мне сообщили, что ваш муж присоединился к свободным французским авиаторам и пропал в бою. Вам, должно быть, сейчас непросто. Безопаснее вам будет покинуть эту территорию.
И он вручил ей Ausweis. Они расстались добрыми приятелями, и много лет спустя мама без тени смущения рассказывала, что комендант Геберт был от нее без ума.
Прошло около недели, и в середине августа 1940 года мы вновь уселись в наш маленький “пежо”, который то и дело фыркал и глох (мама так и не научилась пользоваться сцеплением), и двинулись на юг Франции. Не зная, на какие жертвы пошли родители и как они страдали, я в те ужасные месяцы была совершенно счастлива, потому что наконец-то оказалась в центре маминого внимания. Я очень гордилась папиной “секретной миссией” и подолгу разглядывала атлас, который привезла из Парижа, гадая, каким он отправился маршрутом. Узнав, что мы наконец-то едем на юг Франции, я обрадовалась перспективе снова увидеть любезного господина с усиками и попозировать ему для очередного портрета.
Кажется, наш автомобиль сломался в Монтелимар – помню, мама утешала меня знаменитой монтелимарской нугой. Через несколько часов прибыл посланный Алексом водитель и отвез нас в Сент-Максим. Это был очень характерный для него поступок – кто, кроме Алекса Либермана, мог найти автомобиль с водителем в условиях нехватки бензина и всеобщего безумия 1940 года? Тем же вечером мы прибыли в его дом. Алекс ждал нас, выглядывая из кустов, словно фавн, и весь дрожал от восторга.
Помню, как проснулась на следующее утро и бродила по дому, мучимая голодом и одиночеством, а за окном стояла южная жара. С продуктами были перебои, но Алекс вдруг вышел из кухни с роскошным завтраком, купленным на черном рынке: хлопья с яичницей и кетчупом. Пока я жадно поедала это всё, он взглянул на меня своими огромными зелеными глазами и спросил:
– Вкусно тебе, Фросенька?
– Очень вкусно! – ответила я и подумала: этот человек будет обо мне заботиться.
Затем он подарил мне то, что всегда строго запрещала гувернантка – сверкающий бирюзовый велосипед, и за несколько часов научил на нем кататься, а к концу недели с его помощью я умела еще и плавать как рыба.
Это очередная, такая обычная, в сущности, история выживания, очередной пример того, как судьба вдруг проявила милосердие. Я была выносливым жизнерадостным ребенком, обожала путешествовать и легко привыкала к новым обстоятельствам, защитникам, домам и друзьям. От матери, Господа Бога или бабушки мне досталась предрасположенность к счастью. Хотя ошибки и обманы 1940 года еще долго меня преследовали, то непростое лето было одним из самых счастливых периодов моей жизни.
Глава 11
Бросить всё
Следующие несколько месяцев мы жили все вместе в залитом солнцем домике Алекса – розовой вилле в ста ярдах от берега с видом на залив Сен-Тропе. Предполагалось, что здесь будут жить не больше четырех человек, но теперь сюда рекой текли разношерстные гости, как и мы, сбежавшие из Парижа, мечтающие передохнуть на юге и решить, как жить дальше. Бывшая коллега и любовница Алекса Ирен Лидова приехала со своим обаятельным мужем, балетным фотографом. Нередко из-за тесноты все ссорились. Временами я дерзила, а порой вела себя совершенно несносно, и однажды Лидова отвесила мне звучную пощечину. Родители никогда меня не наказывали – могли разве что шлепнуть по руке. При этом присутствовала мама.
– Не смейте бить мою дочь! Слышите? Не смейте!
И она дала Лидовой ответную пощечину. Бедная Лидова – ей наверняка было нелегко жить в одном доме с великой любовью своего бывшего.
Мы с матерью вовремя добрались до юга – к сентябрю доехать с оккупированной территории до Виши стало практически невозможно, проезд был запрещен. Продуктов не хватало, и главным источником белка стали окуни, которых Алекс ловил в заливе. Пока он рыбачил, я плавала вокруг в маске и восторгалась морем. Потом я помогала таскать улов на кухню и наблюдала, как Мария, служанка из местных, запекает рыбу с фенхелем. Обедали мы на залитой солнцем террасе, прямо в купальных костюмах.
В моих воспоминаниях конец того лета и начало осени пронизаны солнцем и счастьем. В дни, когда еды совсем не хватало, мы развлекались тем, что выдумывали самые ужасные сочетания продуктов. Побеждал тот, кто изобретал самое омерзительное блюдо, и я набрала больше всех очков, когда придумала сардины под шоколадным соусом. Оказалось, что Алекс лучше, чем кто-либо другой, может меня насмешить. Он обладал невероятным пародийным талантом, который демонстрировал в узком кругу избранных; в его репертуаре была пантомима, которую мы звали “Сумасшедший”, и я всё детство то и дело просила его показать этот номер. Представление заключалось в том, что Алекс скакал из стороны в сторону и издавал странные, пронзительные крики, словно обезьяна в джунглях, а конечности его как будто свободно болтались на теле. Не знаю, изобрел ли он эту пантомиму для меня, или для какого-то ребенка из прошлого. Чудесное превращение мягкого и невероятно сдержанного человека в совершенного безумца (возможно, тут проявился сценический талант его матери) заставляло меня буквально рыдать от смеха.
Мама загорала, читала и чаще обычного меня обнимала. Часто упоминались наши родственники и знакомые из Америки, которые собирали нам документы для эмиграции в Штаты. Джон Уайли, высокопоставленный чиновник по иностранным делам – они с женой Иреной подружились с родителями в 1930-х годах, – помогал сделать нам иммиграционные визы. Другой дипломат, Уильям Буллитт, американский посол во Франции, которого незадолго до того вызвали обратно в Вашингтон, писал нам рекомендательные письма, как и мамин отец, которого она не видела с моего рождения. Тем временем Симон Либерман, который с 1939 года жил в Нью-Йорке, оформлял иммиграционную визу для Алекса.
Тогда я не знала значения слова “любовники”. Алекса представили мне как маминого друга детства, к которому она очень привязана, своего рода родственника, который будет о нас заботиться до возвращения отца. И всё же я чувствовала – у детей из проблемных семей есть своего рода шестое чувство, – что Алекс для матери является тем же, кем для отца была дама в красном. Теперь мы жили с Алексом, и я перестала спрашивать об отце. Каким-то образом я поняла, что маме с Алексом неприятны эти вопросы, а главной целью в моей теперешней жизни было добыть и сохранить их любовь.
Поэтому я молчала о своем страхе за отца. Молчание мое будто служило хранилищем, где я спрятала тоскующую частичку души. Внешне всё было прекрасно: я улыбалась, танцевала, приседала в реверансах, щебетала за обедом, порхала, меня осыпали похвалами, а мама светилась от гордости. Но в глубине меня таилась никому не ведомая пещера, в которой обитал страх, и каждого, кто попытался бы войти туда, ожидало вечное проклятие.
Мне казалось, мое молчание хранит отца – тайна, которую я берегу, будто окружает его облаком, в котором он становится незаметен для бед и опасностей и потому неуязвим. Пока мама с Алексом готовились к переезду в Америку, я втайне лелеяла фантазии о далеком отце: вот он в Сирии, проводит тайную операцию с освободительным движением – готовит вторжение во Францию; или же курсирует между французским и британским берегами и перевозит настолько секретные донесения, что если их перехватят нацисты, союзники серьезно пострадают; или же он отправился с тайной миссией в Бангкок или Дакар – в одно из тех далеких экзотических мест с картин дяди Саши, среди которых я выросла.
В последние солнечные месяцы во Франции я не переставая лелеяла эти тайные надежды. За всю осень у меня сохранилось только одно вечернее воспоминание – о своего рода миссии, которую возложил на меня Алекс. Миссия эта могла быть выполнена только после наступления темноты.
Из-за язвы Алексу было показано выпивать кварту молока в день. Однако к осени 1940 года продуктов стало не хватать, перевозки были ограничены, и мы питались только тем, что могли достать в округе. Молока было особенно мало – его можно было купить только у местных фермеров, а коров держали немногие, и всё молоко шло детям. Через несколько недель после нашего приезда я стала по вечерам ходить на ферму в восьми километрах от нашего дома за молоком Алексу. К тому моменту я уже смело разъезжала по окрестностям на своем сверкающем новеньком велосипеде, и это поручение наполняло меня гордостью – я добываю молоко, чтобы вылечить Алекса! Я катила по дороге, на руле болтался бидон, и, проехав несколько километров вдоль залива, сворачивала на песчаную тропинку среди сосен. Летом сосны осыпались, и ехать по плотному ковру из иголок было страшно и весело. Чтобы наверняка добыть молоко, мне надо было отправиться в путь на закате, когда коров приводили с пастбища и вели на дойку. Сквозь деревья светило заходящее солнце и заливало золотом бурую землю. Я наслаждалась тишиной леса, нарушаемой только шуршанием моих шин по сосновым иглам, дребезжанием пустого бидона, щебетом птиц, которые утихомиривались перед сном в косых лучах солнца. Через несколько километров сосны начинали редеть, я выезжала на лужайку, и по правую руку, в конце глинистой тропки, показывалась ферма. Я слезала с велосипеда и шла к коровнику, где уже собирались дети в ожидании фермера.
Когда солнце касалось горизонта, к нам выходил сам фермер – медлительный недоверчивый человек. Подходила моя очередь, и он наливал мне четыре ковша молока, я доставала из кармана мелочь и, после того как фермер тщательно ее пересчитает, забирала свой бидон. Самая легкая часть оставалась позади. Теперь мне надо было не расплескать молоко и преодолеть страх возвращения домой по темноте.
В детстве я боялась привидений и сумрака, в котором, как мне казалось, обретает силу всякая нечисть. Этим страхом я тоже была обязана отцу: его метод заключался в том, чтобы как следует напугать меня, а потом, если получится, помочь преодолеть свой страх (как, например, мой ужас перед быстрой ездой). В октябре и ноябре дни становились короче, большую часть пути мне приходилось проделывать в темноте, и я ужасно боялась дороги через сосновый лес. Отъезжая от фермы, я зажигала фонарик на руле и, крутя педали, пыталась сосредоточиться на желтом луче впереди, поверить, что он убережет меня от лесных чудовищ. Но если вдруг от ветра шевелились ветки или в кустах шуршала мелкая живность, меня охватывал дикий ужас: я воображала нечто жуткое, что хочет меня поймать, тянет руки из лесной тьмы и вот-вот схватит… Папа, папа, видишь, мне совсем не страшно, я не боюсь привидений, я стойкий солдатик, я вообще не боюсь ничего, как ты учил меня не бояться, мертвецы не утащат меня с собой, я прибавлю скорость и буду смотреть на луч фонаря, пока не оторвусь от них…
Я прибавляла скорость, бидон с молоком болтался на руле, преследователи отставали. Мне снова удалось оторваться – впереди сверкали огни главной дороги. Я доезжала до конца лесной тропинки, сворачивала налево, на дорогу, шедшую вдоль залива Сен-Тропе. Машины здесь ездили редко. Через несколько минут после последнего кафе я сворачивала к нашему дому – лучшему дому из всех, в которых мы с мамой когда-либо жили, – и меня встречал Алекс. Он прикасался усиками к моей щеке и благодарил за молоко: “Merci, бубуська”. (Обращение “бубуська” или “бубуськи” появилось у нас с мамой и Алексом, когда мы стали жить вместе, – оно стало еще одним признаком нашей близости, нашего родства.) Алекс нес молоко на кухню, где Мария ставила его кипятиться. Потом его ставили остывать, мы садились за большой дубовый стол, и, кто бы ни ужинал с нами в тот день – Лидовы, кто-то из друзей Алекса по Рош вроде Жана-Пьера Фурно с семейством, – меня распирало от гордости, когда я видела, как Алекс пьет молоко, совершенно необходимое, по словам докторов, в его состоянии.
К концу ноября все мы получили свои визы. Ходатайство Джона Уайли, рекомендации маминого отца и Симона Либермана принесли свои плоды. В начале декабря мама решилась на очередное безумство: чтобы забрать в Америку ценные вещи из наших с Алексом квартир, она решила отправиться в Париж с группой контрабандистов – это был единственный способ перейти на другую территорию. Мы в такой спешке покинули столицу, что мама оставила дома большинство украшений и документов; кроме того, она тревожилась за тетю Сандру, тетю Лилю и Монестье и хотела с ними попрощаться. Поскольку полиция Виши была печально известна своим антисемитизмом, Алексу было куда опаснее отправляться в такой путь. (Сейчас я понимаю, что ненормальный французский оптимизм в июне 1940 года заставил сотни тысяч французов так же бросить свои дома. Симона Вейль, например, питала те же иллюзии и уверяла, что к северу от Парижа вот-вот откроется новый фронт; 13 июня, накануне вторжения немцев, они всей семьей вдруг поняли, что сейчас уйдет последний поезд из Парижа на юг, бросились на Лионский вокзал, даже не заходя домой, и увезли с собой только одежду, в которой были.)
Чтобы попасть в Париж, маме предстояло отправиться из Ниццы в Виши на поезде. Там ей надо было связаться с группой водителей грузовиков, которые за крупную сумму (по современным меркам это было бы примерно 2000 долларов) пересекали границу ночью. Пешком перейти на ту сторону было невозможно, потому что даже в самых лесистых районах рыскали немецкие сторожевые собаки. Контрабандисты подбирали пассажиров в деревушке вблизи Виши и сажали их в кузов среди мешков с продуктами (чаще всего это были мука и картошка). Внутри кузов был обшит матрацами – на случай, если немецкие пограничники начнут стрелять. Контрабандисты ехали самыми заброшенными сельскими дорогами и, скорее всего, проезжали через те контрольно-пропускные пункты, на которых заранее подкупили пограничников. Добравшись до парижских пригородов, они выпускали пассажиров и забирали их через пять дней в заранее оговоренном месте.
Потом мама говорила, что ужасно трусила, но поездка в Париж прошла гладко. Добравшись до пригородов, она села в метро и доехала до площади Иена в квартале от нашей квартиры. Мама всю жизнь страдала клаустрофобией и почти никогда не ездила на метро, но автобусы перестали ходить из-за нехватки бензина, а автомобили на улицах остались только немецкие. Моя гувернантка, которая караулила нашу квартиру, чтобы ее не реквизировали немцы, при виде мамы расплакалась от счастья. С собой в дорогу Татьяна могла взять всего два чемодана, поэтому вещи приходилось собирать аккуратно: отцовские документы, дорогие украшения, наша с ней одежда. Наконец, она убрала письма и стихи Маяковского в папку и решила отнести ее в банковскую ячейку до конца войны. Я часто спрашивала – почему она не увезла это всё в Америку? Но причина была та же, что и в 1935-м, когда она молила свою мать не рассказывать никому о ее романе с поэтом: она чувствовала, что на Западе зреют антикоммунистические настроения и у нас с ней могут возникнуть проблемы в Америке, если станет известно, что она была музой самого известного поэта в Советском Союзе.
На следующее утро мама отнесла письма и стихи Маяковского в банк и отправилась по авеню Клебер к площади Звезды. Она шла в квартиру Монестье, которая располагалась неподалеку от Елисейских Полей. Шагая по улице, она услышала, как ее окликает мужской голос. Из “мерседеса” вышел какой-то немец – это оказался ее старый друг Шпац фон Динклейдж.
– Что вы здесь делаете? – ледяным тоном спросила она.
– Свою работу.
– И чем же вы теперь занимаетесь? – огрызнулась мама.
– Тем же, что и всегда, – отвечал Шпац. – Военной разведкой.
– Вы скотина! – взорвалась мать. – Изображали журналиста, втерлись к нам в доверие, соблазнили мою подругу, а теперь говорите, что всё это время за нами шпионили!
– На войне как на войне, – возразил Шпац и пригласил маму поужинать.
Впоследствии она вспоминала, что ей хотелось согласиться – он мог располагать важными сведениями. Но гнев и патриотизм победили.
– Он корчил из себя жертву нацизма, носил тряпье, прятался в битом автомобиле, – сердито рассказывала она много лет спустя, – закрутил роман с Хелен Дессоффи, потому что ее дом был рядом с морской базой, Тулоном. И мы все ему верили!
Кроме того, маму остановила мысль о приличиях.
– Как бы это выглядело, если бы я пошла с ним ужинать? – вопрошала она. – Вдова героя Сопротивления в немецком “мерседесе” с нацистским офицером! А если бы нас увидела консьержка?
Вскоре после их встречи у Шпаца случился злополучный роман с Коко Шанель – после освобождения Парижа карьера Шанель долго восстанавливалась от этого удара. Эпизод с неожиданной встречей заставил маму осознать, как глубоко нацистский шпионаж проник во французское общество. С тех пор она всю жизнь смертельно боялась разведчиков и много лет спустя видела во всех советских гражданах в Америке шпионов КГБ.
В первый свой день в Париже мама отправилась в мастерскую Алекса в вилле Монморанси и упаковала все холсты, которые поместились в чемодан. Поужинала она с Симоной и Андре Монестье: они уже знали, что отец пропал при исполнении, но не знали подробностей. Рассказав им всё, она зарыдала, повторяя: – Я во всём виновата, это я во всём виновата. Я разрушила его карьеру, после этого он стал рисковать собой, покатился под уклон…
Когда Симона много лет спустя рассказывала мне об этом вечере, она добавила:
– Я утешала ее и уверяла, что она совсем не виновата в смерти твоего отца, но, конечно, в чем-то она была права.
Она высказала это соображение только в 1970-х годах – за десять лет до собственной смерти. Ее слова навели меня на ужасную мысль (раньше я бы с ней просто не справилась): а понимали ли Татьяна с Алексом, что их знаменитое счастье стояло на крови моего отца? Или, если уж совсем ударяться в мистику, вдруг они желали его смерти и тем самым навлекли ее? Размышляя обо всём этом в ретроспективе, я не могла не признать: Алекс всегда был бесконечно ревнивым человеком и наверняка ненавидел отца за то, что тот живет с мамой; и ненавидел тем сильнее, что отец принадлежал к социальному слою, воплощавшему ценности, до которых Алекс никогда бы не смог возвыситься. Ценности древней французской аристократии, людей гордых и надменных, но способных на подлинное геройство в решающий момент.
Пришлось принять тот факт, что Алекс наверняка испытал радость, услышав о смерти моего отца, и мне теперь придется мириться с угрызениями совести за то, что я любила двух людей, которые так ненавидели друг друга.
И, что еще более важно, мне надо было как-то осмыслить сложные чувства, которые охватили мать после смерти отца – смесь горя, облегчения и последовавшего за ним чувства вины. В последние десятилетия многие знакомые Татьяны спрашивали меня, какие пережитые горести заставляли ее порой впадать в мрачную меланхолию, так несхожую с ее обычной веселостью? Только недавно я поняла, что мама была из тех женщин, судьбу которых определили смерти любимых ею мужчин – в ее случае это были Маяковский и мой отец.
Пока мама была в Париже, меня отослали в пансион в Каннах. В то время я не понимала, почему мне нельзя мирно жить с Алексом в Сент-Максим. Но тут сыграли роль мамины представления о приличиях – и, возможно, наказ отца держать меня подальше от “этой публики из Сент-Максим”. Возможно, маме пришло в голову, что нехорошо оставлять ребенка со своим любовником. В спальнях пансиона стоял ледяной холод. Кормили нас попеременно бататом и мелким картофелем. Я отчаянно скучала по лакомствам с черного рынка, которые добывал Алекс. Он звонил каждый третий день, чтобы подбодрить меня, потому что к тому времени телефонного сообщения между Виши и оккупированной территорией уже не было, и, как он объяснил впоследствии, ужасно волновался за мою мать. Единственной радостью в моем кратком пребывании в пансионе, помимо его звонков, были неожиданные новые сведения об окружающем мире. Прошлогодние слухи оказались правдой. Мужчина действительно засовывал свою штуку женщине в дырочку, чтобы сделать детей, и, что самое ужасное, иногда он совал ее туда просто так – это казалось нам особенно возмутительным.
Через неделю после возвращения из Парижа мама вместе с Алексом приехали за мной в пансион. Почему она ждала так долго, мучилась я. Именно тогда я впервые стала с некоторой неловкостью осознавать, что им, возможно, хотелось побыть вдвоем, без меня. Отъезд из школы был одним из счастливейших моментов. Погода уже стояла по-зимнему мрачная, но дома царила атмосфера ликования. У нас есть билеты на корабль, отходящий из Лиссабона! Мы скоро уедем! Прошел слух, что безопаснее пересекать испанскую границу на поезде, чем на автомобиле, поскольку железнодорожные пограничники терпимее относятся к евреям, чем их коллеги на дорогах. Хотя Алекс уже накопил купонов на бензин, мы решили поехать до испанской границы на поезде, затем на другом – в Мадрид, а оттуда отправиться в Лиссабон. В поезде из Ниццы в Испанию я впервые увидела, как мама с Алексом ссорятся.
Мы с матерью сидели в купе и читали – Алекс сидел на полке напротив нас. На остановке в окрестностях Тулузы в купе вошел мужчина с длинной бородой, в черном плаще до пят и с маленькой круглой шапочкой на затылке. Он сел рядом с Алексом, и тот, поморщившись, пересел. Наш попутчик, который до того улыбался, вдруг помрачнел. Мама принялась бросать на Алекса гневные взгляды, шипеть: “Позор! Какое хамство!” Она заискивающе улыбалась нашему соседу, а тот благодарно улыбался ей в ответ. Через час он вышел из купе, поклонившись нам и бросив последний благодарный взгляд маме. Дождавшись, пока он не скроется вдали, она напустилась на Алекса:
– Я всегда знала, что ты антисемит, но еврей-антисемит – это особенно омерзительно! – кричала она. – Это было совершенно грубо и по-хамски!
Алекс с виноватым видом пытался заговорить:
– Но бубуська… Прости, бубуська…
Мама не унималась:
– Рядом с тобой садится совершенно приличный раввин, а ты оскорбляешь его и пересаживаешься! Тебе самому не стыдно? Еврейский антисемитизм – это чудовищно, особенно в наше время!
Алексу никак не удавалось утихомирить белокурую валькирию, чья социальная чувствительность была так жестоко оскорблена. Проклятия в адрес еврейского антисемитизма раздавались до самой испанской границы.
– Ну ладно, – сказала она наконец. – Но чтобы подобное больше не повторялось!
Единственное мое пальто мы прошлым летом забыли в Париже. Поэтому в пути я носила шубу матери Алекса, которая уехала в Америку в августе и попросила нас привезти ее шубу в Нью-Йорк. Шубу украли по пути в Мадрид, когда мы на минуту вышли из поезда, чтобы размяться. Оказавшись в Мадриде, мама немедленно слегла с мигренью, а мы с Алексом отправились по магазинам. Он твердо вознамерился найти мне пальто наподобие того, что его отец купил ему в Лондоне в 1921 году после приезда из России – Алексу тогда было столько же лет, сколько мне сейчас. После многочасовых поисков он наконец-то был удовлетворен: мы купили двубортное пальто из верблюжьей шерсти, которое было мне велико и доходило до середины икры. Алекс заявил, что я быстро расту, а в Америке мы будем жить скромно. Вдобавок он купил мне шляпу из точно такой же шерсти. Увидев меня в новом наряде, мама вспыхнула от удовольствия.
Мы решили ничего не праздновать, пока не окажемся на корабле, и рождественский вечер в Мадриде прошел тихо. Самое жуткое мое воспоминание о путешествии относится к тому моменту, когда мы садились на поезд из Мадрида в Лиссабон. Ходили слухи, что испанское правительство может в любой момент выгнать из страны всех беженцев и заставить их вернуться во Францию, и на вокзалах Мадрида царила паника. Толпы беженцев со всех уголков Европы выглядели так, будто уже начался конец света. Испанское правительство не определилось со своим отношением к такому нашествию и не изменило расписание поездов в соответствии с потребностями беженцев. Толпы людей сидели на полу в зале ожидания, обложенные тюками и чемоданами, – они должны были уехать в Лиссабон тем же поездом, что и мы. Алекс купил нам билеты у консьержа в мадридском “Ритце” и серьезно переплатил, чтобы обеспечить нам места. Но народу было столько и вокруг царил такой хаос, что билеты уже не имели никакого значения. Служащих вокруг не было. Беженцы не знали ни слова по-испански и в бессмысленной пантомиме размахивали своими билетами и документами, пытаясь убедить безразличных полицейских пропустить их на платформу. Сотни детей потеряли в давке своих родителей и в слезах бродили по вокзалу – столько же взрослых метались по платформам, окликая своих детей.
Никаких объявлений о поезде на Лиссабон не было, а полиция ничего не знала о расписании.
– Давайте вернемся в гостиницу, – застонала мама, когда мы стали пробираться через толпу – от приступа клаустрофобии ее охватила паника. – Я задыхаюсь, давайте уйдем отсюда!
– Нам нужно попасть на поезд, – отрезал Алекс.
– Но такого поезда нет! Может, его вообще отменили!
– Не отменили.
Вдруг из громкоговорителя раздалась испанская речь:
– Экспресс Мадрид – Лиссабон отбывает с 24-го пути через семь минут.
Мы схватили сумки и побежали, чтобы встать в очередь вместе со всеми. Но вокруг царил хаос. Мы попали в голосящую толпу, которая понесла нас к платформам, выкрикивая имена потерянных родичей на полудюжине языков одновременно.
– Спасайся кто может, – пробормотал Алекс и попытался проложить дорогу к поезду. Когда ему это не удалось, он обернулся ко мне. – Притворись, что тебе плохо.
Он проталкивался через толпу, подняв чемоданы над головой, и кричал: “Больной ребенок, больной ребенок!”
Я блистательно исполнила эту неожиданную роль, хромая как Квазимодо и кашляя, будто дама с камелиями на смертном одре, и даже несколько раз наступила на подол своего пальто и споткнулась. Спектакль удался. Окружающие сжалились надо мной, и мы наконец добрались до платформы, на которой было столько же народу, сколько и в зале ожидания. Но увидев поезд, мама запаниковала еще сильнее. Он уже был забит теми, кто пришел сюда несколько часов назад и занял места; в купе набилось по два десятка человек, и некоторые пассажиры ставили сумки на окна или даже садились туда сами; в вагоны пытались залезть сотни людей.
– Я туда не полезу! – воскликнула мама. – Я отказываюсь!
– Полезешь! – отрезал Алекс. – Это может быть последний поезд.
– Нет, нет, нет! – мама зарыдала.
Мы стояли в метре от поезда, и локомотив начал угрожающе шипеть.
– Бубуська, залезай!
Мама в слезах протестовала. Алекс повернулся ко мне:
– Фросенька, залезай первой.
Держа в руках чемоданы, я кое-как вскарабкалась на вторую ступеньку и протиснулась между каких-то поляков, бормоча с трудом вызванные в памяти польские фразы; оказавшись внутри, я протянула руку матери.
– Мама, иди сюда!
Тем временем поезд медленно тронулся. Алекс двинулся следом, толкая перед собой плачущую мать, и кое-как запихнул ее на первую ступеньку, а я втащила ее в вагон. Алекс вскочил следом с остатками багажа. Тут поезд начал набирать скорость, оставляя позади сотни кричащих, плачущих людей. Мы выбрались из Мадрида.
– Куда теперь? – спросила я Алекса.
– Налево, к туалетам, – прошептал он. Это была гениальная идея – никому не хотелось провести ночь стоя в туалете, и там еще было место. Я затолкала дрожащую маму в этот крохотный вонючий закуток. Алекс тщетно рыскал по вагонам в поисках другого места, и мы с мамой оставались там до самого утра – мы стояли, привалившись к стенам, изредка на пару мгновений забывались сном и наблюдали, как сотни пассажиров обоих полов испражняются прямо перед нами.
Так мы добрались до Лиссабона и в конце декабря погрузились на наш корабль. Это была прогулочная яхта под названием “Карвальо Араухо”, которая никогда ранее не выходила в море дальше Азорских островов – путешествие в Нью-Йорк было для нее первым. Нам с матерью отвели кабину на нижней палубе, Алекса поселили на верхней вместе со знаменитым французским флейтистом Рене Ле Руа – он оказался таким образованным и обаятельным человеком, что мама с Алексом с ним немедленно подружились. Через несколько часов было решено, что мы будем обедать и ужинать все вместе. Зимний океан штормило, и нашу крохотную яхту ужасно качало, поэтому через пару дней произошла рокировка. Выяснилось, что мама и Ле Руа страдают от морской болезни, тогда как мы с Алексом оказались стойкими моряками. Было решено, что она поселится на верхней палубе с Ле Руа, а мы с Алексом будем жить в нашей с мамой каюте. Что-то подсказывало мне, что в обществе Ле Руа маме ничего не грозит – я выросла в ее мире и, возможно, догадывалась о существовании гомосексуалистов прежде, чем узнала, что значит “любовница”. Это было отличное решение. По вечерам, когда мы ложились, Алекс накрывал лицо подушкой и говорил: “Раздевайся, я не смотрю” – и я чувствовала себя ужасно взрослой. В новой жизни с мамой и Алексом было много необычного, и мне это очень нравилось.
Путешествие на “Карвальо Араухо” заняло целых две недели и вспоминается мне полным блеска и музыки. Перед ужином Рене Ле Руа поднимал дух измученных качкой пассажиров, исполняя партии флейты из “Бранденбургских концертов” Баха. Он выступал в столовой, где в стеклянных шкафах были выставлены изящные кружевные португальские украшения из золота с фальшивыми бриллиантами, в которые я совершенно влюбилась. Моя страсть была утолена, когда мама так и не смогла определиться, какая из трех брошей ей нравится больше, и Алекс подарил ей их все на Новый год. Теперь я могла любоваться ими вволю.
В этом путешествии мы с Алексом стали еще ближе. Мама не переносила британскую еду, которой кормили на борту, и ее слишком сильно укачивало, поэтому один раз в день она пропускала обед или ужин, лежала у себя и пила бульон. Ле Руа вежливо садился за стол с нами, бледнел и уходил в каюту к маме. Чаще всего мы с Алексом оставались вдвоем, наедались тремя порциями и чувствовали себя великолепно. Шел ледяной январский дождь, яхту чудовищно качало, половина пассажиров не выходили к столу, а мы наслаждались умеренными яствами, разрешенными диетой Алекса: супами-пюре, курятиной, мятым картофелем, подливками и пирожными. В этот период Алекс научил меня первым словам по-английски, и следующие несколько лет я говорила с его британским акцентом. “Как вы поживаете, приятно познакомиться”, – повторяла я и набивала рот едой.
Еще много лет история нашего бегства в Америку укрепляла нашу с Алексом близость – совместные яркие переживания всегда сближают. “Помнишь, как мы ехали из Мадрида в Лиссабон?” – спрашивали мы друг друга тридцать, сорок лет спустя. “Помнишь, как мы пошли искать пальто, когда мамашину шубу украли?” “Помнишь, как Рене Ле Руа играл на флейте в столовой «Карвальо Араухо»?”
Часть вторая
Новый Свет
Жизнь – искусство, чувства – труд.
Генри Джеймс. “Трагическая муза”
Глава 12
Рочестер, Нью-Йорк
На фотографии, которую я храню с детства, изображен мой дедушка по маме – Алексей Евгеньевич Яковлев. На снимке ему девятнадцать лет, и он небрежно развалился в узорчатом расшитом кресле в петербургской квартире своей матери. На нем кадетская форма, в одной руке – длинный мундштук, другая вяло держит белую перчатку, на носу – модное пенсне, а начищенные до блеска сапоги покоятся на турецком ковре. В зеркале за его спиной отражаются приметы роскошной жизни – парча, муар, бронза, слоновая кость, хрусталь, – которыми украшена гостиная рубежа веков. Фотограф верно передал образ юного богатого петербургского плейбоя: запах редкого турецкого табака, женщины, женщины, карты и игральные кости до утра, гедонизм дворянства, которое уже начало распадаться как класс.
В мужчинах рода Яковлевых было какое-то беспокойство, врожденная тяга к путешествиям. Хотя дедушка, окончив кадетский корпус, стал учиться на архитектора и инженера, в юности у него было не меньше приключений и безумств, чем у его младшего брата Саши. Он женился на честолюбивой кокетливой красотке, моей бабушке, которая больше всего на свете любила окружать себя пылкими воздыхателями и сталкивать их друг с другом. Его назначили строить оперные театры в разных областях России, и он каждые три-четыре года переезжал в новый город, что было весьма необычно в пору, когда семьи по несколько поколений жили в одном и том же доме. Бесстрашный Алексей Евгеньевич одним из первых в стране обзавелся автомобилем и сел за штурвал собственного аэроплана. Но больше всего его любовь к риску проявлялась в страсти к игре. Как часто в Петербурге, Вологде, Пензе Алексей Евгеньевич выигрывал за семь минут сумму, равную своей месячной выручке и, ведомый отчаянной надеждой удвоить куш, спускал всё. Как часто, проиграв свой доход за несколько месяцев, он ставил последние пятьдесят рублей в надежде отыграться и лишался их. Как часто, вываливаясь из игорного дома после удачной ночи, он отдавал половину денег бродягам, которых встречал по пути домой, а вторую половину на следующей же неделе спускал на какое-нибудь безумное предприятие – вроде первого перелета между Москвой и Санкт-Петербургом. И сколько раз, оказавшись в новом городе с единственным рублем в кармане, не зная, удастся ли сегодня поесть, он ставил его и за два часа зарабатывал две тысячи, заказывал шампанское в лучшем ресторане и знакомился с актрисами.
Жена Алексея Евгеньевича, моя бабушка, негодовала, угрожала, бушевала. “Эти Яковлевы ненормальные! – восклицала она. – Аистовы подобного никогда себе не позволяли!” И она вспоминала собственного отца, главу балетной труппы Мариинского императорского театра, который всю свою жизнь прослужил на одном месте, прожил в одном доме и никогда не притрагивался к игральным костям. Дедушка Яковлев временами воздерживался от игры, но и в эти периоды его преследовали чарующие звуки: звон монет, уходящих на баккару, блек-джек, рулетку, голос крупье, звучавший как пение сирены – “шестьдесят один, красное, нечет!”. Не счесть, сколько раз этот мот решал навсегда покончить со своим пороком, как только вернет себе проигрыш, и изменял своему слову. Душа игрока раскачивается на качелях: от надежды к эйфории и ужасу, но жаждет не передышки, а еще большего безумия, больших перепадов. И даже став главой семьи, Алексей Евгеньевич не смог побороть влечение к роковой возлюбленной, которую позже, уже в Америке, называл госпожой Удачей.
О страсти к игре писали много, меньше – об особенном безумии, охватывавшем русских игроков. Назвать моего дедушку декадентом или ненормальным значило бы расписаться в полном незнании русского подхода к деньгам, который в той или иной степени был свойственен всем членам моей семьи. С точки зрения этих интеллигентов и дворян, накопление капитала, которое на Западе считают добродетелью, – дело вульгарное и заниматься им могут только буржуа. Как резюмировал Достоевский: русские безрассудно обращаются с деньгами, потому что питают христианское отвращение к самой их идее. В романе “Игрок” он пишет: “Русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. <…> Следовательно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как например рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь”. И продолжает: “Неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом?” В общем, если укорить русского в том, что он спускает все деньги, тот воскликнет: “К черту деньги! Чем быстрее, тем лучше!”
Согласно семейной истории Яковлевых, дедушка внезапно покинул Россию в 1915 году, потому что запатентовал новейшие автомобильные шины, для которых требовалась резина, в Россию не поставлявшаяся. Мне эта версия казалась невероятной. Подозреваю, что он наделал огромных долгов, не смог бросить игру и решил проблему тем, что бросил семью и сбежал. Нам известно только, что в 1915 году он отправился на Восток, по Сибири добрался до Китая, откуда собирался уехать в Америку. Освободившись от семейных пут, он мог свободно предаваться любви с госпожой Удачей и всецело отдался этому занятию. Два или три года этот элегантный бродяга прожил в Шанхае, где уже начала формироваться русская диаспора – он так резко оборвал связи с семьей, что даже не знал, что его любимый брат Саша в те же годы был на Востоке. Яковлев свободно говорил по-французски и по-немецки, и когда проигрывался в пух и прах, неделями и месяцами служил детским учителем у более удачливых эмигрантов или переводчиком у высокопоставленных путешественников. После серии выигрышей он покупал породистую лошадь и в компании проводника несколько месяцев путешествовал по пустыне Гоби, наслаждаясь “красотами природы”, пока не кончались деньги, – за исключением игры эти вылазки были его любимым занятием.
Так Алексей Евгеньевич Яковлев, высокий изящный мужчина необыкновенной красоты, прожигал жизнь вплоть до октября 1917 года. Как-то раз, стоя у игорного дома, где в очередной раз спустил все деньги, он услышал, что в России произошла революция, и вдруг понял, что, возможно, уже никогда не вернется домой. Он прислонился к стене, с тяжелым сердцем закурил сигарету и тут… Я приведу его собственный рассказ об этом происшествии:
Это была первая зима революции. Я понимал, что если не случится чего-то необычайного, то я возьму пистолет, с которым меня научили обращаться в кадетском корпусе, и… продолжать не нужно. Я встретил знакомого из России – он был в таком же отчаянии, мы выпили и стали говорить о своих горестях. Вдруг к игорному дому подъехала карета. Из окна выглянула женщина – красавица под густой вуалью. “Вы замерзли, садитесь ко мне”, – сказала она по-французски, с легким акцентом. Мы забрались в карету, она отвезла нас к себе, угостила шампанским и бренди, мы провели с ней удивительный вечер. Утром, когда мы собирались уходить, она спросила, чего нам хочется больше всего на свете. Мы ответили, что больше всего хотим уехать в Америку. Она приказала кучеру развести нас по домам и перед уходом дала нам по конверту… В каждом оказались тысячи долларов! Через несколько недель мы отплыли в Америку.
В 1918 году он прибыл в Сан-Франциско – одинокий человек, у которого не было в жизни радостей, кроме игры и любования “красотами природы”. В Сан-Франциско образовалась русская диаспора, и Алексей Евгеньевич взялся за старое: когда он проигрывал, то подрабатывал преподавателем, переводчиком и даже механиком, когда выигрывал – ездил по Калифорнии и любовался горами, северными озерами, южными пустынями. Так продолжалось несколько лет, пока в 1922 году, проигравшись в пух и прах в баккару, он не отправился в универмаг, чтобы, ради разнообразия, попробовать стать продавцом. Здесь судьба ему улыбнулась, и он познакомился с прелестной юной соотечественницей Зинаидой. Тоненькая девушка десятью годами младше него пришла, чтобы купить блузку, и услышав речь с русским акцентом, обратилась к нему, пока он стоял в очереди в отдел кадров. (“Со мной так постоянно бывало, – сообщил он мне много лет спустя, устало вздыхая. – Я нравился женщинам, и они за меня хватались”.) Зина покинула родину в первые же недели революции вместе со своей овдовевшей матерью и поселилась в Сан-Франциско, где работала дипломированной медсестрой и уже накопила денег на дом. Алексей Евгеньевич был очарован ее прелестью, а “Зиночка”, как мы звали ее в семье, твердо вознамерилась заполучить его. Вскоре она предложила Алексею свои сбережения с одним условием: он бросает игру и вновь становится инженером.
Как ни странно, он согласился – возможно, жизнь изгнанника ему прискучила. За неделю до свадьбы Зина предложила, чтобы он взял себе более привычное на слух янки имя. На это он тоже согласился – теперь его звали Алексис (Ал) Джексон. Всё изменилось, он стал вести простую рабочую жизнь. Вместе с матерью Зины Джексоны переехали в город Рочестер, штат Нью-Йорк, где, как узнала Зина, требовались рабочие на фабрику “Кодак”. Дедушке удалось получить должность младшего инженера в отделе по сборке камер, и он проработал там до пенсии, ни разу не попросив ни прибавки, ни повышения. Когда его роман с госпожой Удачей оборвался, он словно утратил прежние амбиции, страсть и жизненные силы. Удача была его единственной любовью, и, будучи вынужденным отказаться от нее, он превратился в вялого, инертного и, видимо, несчастного человека.
Бывший игрок – это зачастую печальное зрелище. Внешне он выглядит прежним – игра не оставляет таких разрушительных следов, как алкоголь или наркотики, – но взгляните ему в глаза: в них больше нет жизни, интереса, огня. Как правило, взгляд его становится мертвым и потерянным. Так произошло и с моим дедом – былой кураж, который когда-то так притягивал женщин, исчез. Выбрав Зиночку и безгрешную жизнь, Ал Джексон более не имел никакой цели, кроме как свести концы с концами. Лишившись зависимости, он больше ни о чем не мечтал – ни о роскошном автомобиле, ни о высокой зарплате. Теперь ему хотелось только просиживать вечера у камина, читать “Популярную механику” или часами слушать свое любимое радио.
Первые девять лет после того, как их отец покинул Россию, мама и ее сестра Людмила ничего о нем не знали. Только в 1924 году прабабушка наконец получила первые вести о своем беспутном сыне. Она отправила ему из Парижа, куда эмигрировала в 1922 году, едкое письмо и напомнила, что дома у него оставалась семья: “Ты бросил в России двух дочерей, которые любят тебя и скучают по тебе, сделай что-нибудь!” Как только дедушка ответил, она, гордясь своими детективными способностями, тут же написала внучкам в Пензу.
Дорогие и любимые мои внучки, ваш отец найден!
Так начинается бабушкино письмо к Татьяне с Людмилой, датированное августом 1924 года:
Русский священник помог нам найти друг друга. Папа пишет, что он часто писал вам и мне, но не получал ответов.
(По давней русской традиции блудного мужчину возвращает на путь истинный властная женщина; сколько я видела таких женщин – они со скандалами вытаскивали своих сыновей и мужей из кабаков, игорных домов и уютных объятий диванов.)
Он счастлив, что мы наконец-то нашли друг друга. Он не знал, что мы с тетей Сандрой живем за границей. Ему пришлось нелегко, потому что из России ему позволили вывезти только 500 рублей, и всё это время у него не было постоянного заработка. Теперь он очень беспокоится, что у вас должен быть источник доходов. Думаю, скоро мы сможем его навестить.
(Как правило, русского игрока, вынужденного признать, что он годами пренебрегал своей семьей, охватывает чувство вины, и он обещает своим брошенным детям вечную любовь, приглашает их разделить с ним убогий кров и скудный заработок.)
Он снова женился, и у него пять месяцев назад родился сын, Евгений. Он говорит, что с рождения ребенка думает о вас еще больше прежнего, потому что так любил нежить и баловать вас в детстве. <…> И правда, когда Лилечка плакала, только папа мог ее успокоить. Он очень хотел найти нас всех.
Типичный случай совести, отпускаемой на разлив вроде немецкого пива.
Этот человек – Алексей Евгеньевич Яковлев, Ал Джексон, бывший архитектор царских опер, а теперь рабочий на фабрике “Кодак” – ждал нас утром 8 января 1941 года в бруклинском порту – наша яхта была слишком мала, чтобы пристать к Манхэттену, и нам пришлось уныло наблюдать мрачные ряды красных домиков вместо знаменитых манхэттенских небоскребов.
Хотя мне было всего десять, увидев дедушку, я сразу же поняла, как сильно он отличается от других известных мне Яковлевых. Внешне он напомнил мне тетю Сандру и дядю Сашу – те же длинные изящные члены, узкое, с тонкими чертами лицо, миндалевидные глаза, глубокий баритон и по-дореволюционному правильная русская речь. Но он был выше и суше остальных Яковлевых и выглядел до странности траурно. Густые седые усы, нос крючком, а в глазах нет ничего от лукавого взгляда дяди Саши, маминой проницательности или бабушкиного тепла. В его взгляде читалась меланхолическая апатия, пустота и смирение. Но едва я успела это заметить, все уже заговорили.
Полвека спустя меня всё не отпускают мысли об этой судьбоносной встрече – мама и дедушка обняли друг друга после двадцатишестилетней разлуки.
Я пытаюсь вообразить, что чувствовали они тем утром. Этому изгнаннику с потухшим взглядом было шестьдесят, и он встречал в порту свою тридцатипятилетнюю дочь, белокурую вдову, которая держала за руку его десятилетнюю внучку. Когда он покинул Россию, его дочери было почти столько же, сколько этой внучке, а ему самому – тридцать четыре. Разумеется, яковлевская порода выделялась в толпе – они узнали друг друга, как только мы сошли по трапу.
– Папаша! – вскрикнула мама.
– Детка!
И они упали друг другу в объятья.
– Здравствуйте, дедушка, – сказала я вежливо, и он повернулся, чтобы обнять меня.
Рядом с Алом Джексоном стоял еще один член нашей американской семьи, Симон Либерман, отец Алекса. Раньше мы не встречались, но с первого же мига я почувствовала к нему горячую симпатию – куда большую, чем к дедушке. По нему было видно, что это человек решительный и предприимчивый – в его обществе было приятно и спокойно находиться. Симон быстро окинул нас взглядом по-восточному узких глаз, мгновенно оценил положение и взялся за дело. Он подозвал носильщика, сунул ему несколько долларов, тот мигом свистнул коллегу и схватился за наши чемоданы. Симон тем временем уверенной походкой направился к таможеннику, сообщил ему несколько особенно драматических подробностей о нашем путешествии, отпустил пару комплиментов в адрес таможни, и уже через двадцать минут, задолго до всех остальных пассажиров, мы были свободны. Пока мы забирались в лимузин, небольшой, коренастый Симон Исаевич сиял улыбкой из мехового воротника своего пальто, проницательным взглядом сквозь круглые очки напоминая сову. Он сообщил, что мама Алекса осталась дома из-за мигрени – Алекс заранее говорил, что именно так она будет выражать свое недовольство Татьяной. Рядом с Симоном сел мой дедушка – подбородок его по-прежнему дрожал от наплыва чувств, в мягком сконфуженном взгляде читалась оторопь – он, по-видимому, уже много лет не видел такой роскоши. Автомобиль свернул на Бруклинский мост, и на горизонте наконец показались настоящие символы земли обетованной – небоскребы Манхэттена. Мы восклицали и восхищались, а Симон так и сиял от удовольствия.
Приехав на Манхэттен, мы тут же направились в квартиру Симона на Шестьдесят четвертой улице. Я тут же решила, что постараюсь проводить в этой обители роскоши как можно больше времени. Здесь всё было отделано дорогими темными тканями, кушетки обиты коричневым бархатом и покрыты кашемировыми покрывалами, обстановку украшали шкуры зебры и леопарда, а на стенах висели портреты Генриетты работы дяди Саши. Повсюду стояли какие-то американские технические диковинки, и я была совершенно очарована крохотным беспроводным радио и весь день с ним не расставалась. Пока я с ним играла, а взрослые шушукались в углу, появилась Генриетта и театрально сошла по лестнице. После шумных и слезливых объятий с сыном и ледяного приветствия в адрес нас с мамой она спросила, где ее шуба. Даже не слушая, что ее украли по пути в Мадрид, она возопила на нескольких языках:
– Эти идиоты потеряли мою шубу!
Затем она гневно удалилась, чтобы более не появляться.
Наступило время обеда. Его подавала негритянка в ярко-розовом фартуке. Дедушка всё время молчал, ел быстрее всех и потрясенно оглядывал обстановку. Я рассматривала Симона. Он сидел прямо напротив меня – шея его почти утонула в массивных плечах, и он с одобрительной улыбкой разглядывал меня через толстые очки, напоминая довольного кота. После обеда пришла пора отправляться в “ту самую гостиницу”, как ее называли мама с Алексом. Симон усадил нас в такси и пошел отдыхать, а мы с дедушкой отправились в отель “Виндзор” на Пятьдесят седьмой улице, управляющий в котором был другом Симона. После краткого разговора у конторки мы поднялись в наши комнаты – Алекс с мамой жили на одном этаже, но, как полагается, в разных концах коридора.
Следующие несколько часов я помню хуже, чем утро – видимо, из-за последовавшего потрясения. По прибытии в гостиницу мне сообщили, что я в тот же вечер должна на неопределенный срок отправиться с дедушкой в Рочестер. Это известие, видимо, совершенно меня убило. Ничего худшего в жизни со мной ранее не происходило. Возможно, что при прощании я горько рыдала; с другой стороны, к тому моменту я уже так хорошо научилась скрывать свои чувства, что могла и сдержать слезы. Как бы то ни было, через восемь часов после прибытия в Америку я уже сидела в вагоне третьего класса ночного поезда до Рочестера. Я ехала в город, о котором раньше никогда не слышала, в компании незнакомого мне дедушки, прижимая к груди единственное свое утешение – чемоданчик, который привезла из Франции. Задним числом это решение кажется мне совершенно сумасшедшим. Маме с Алексом пришлось в детстве нелегко, и важнее всего им казалось накормить и поселить меня – учитывать мои переживания им в голову не приходило. Кроме того, теперь, когда все беды были позади, они наконец-то могли погрузиться в свое счастье. Оказавшись в безопасности, я снова превратилась в своего рода потерянную посылку: “На помощь, у нас есть лишняя девочка, ее надо куда-нибудь отправить, кто ее заберет? Ах, слава богу, папаша согласен ее взять”.
Весь путь до Рочестера я просидела на жестком неудобном виниловом сиденье. Раньше я никогда не видела такого уродства и теперь с тоской вспоминала бархатную роскошь французских поездов – через несколько часов у меня болело всё тело. Я размышляла о будущем – в конце концов, всё может быть не так ужасно. Возможно, в Рочестере мне удастся кого-нибудь очаровать – жену дедушки или его сына. Мне будет чем заняться.