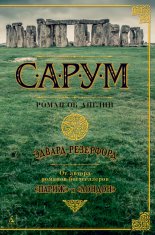Они. Воспоминания о родителях дю Плесси Грей Франсин

– Ее настолько мало волновало его здоровье, – вспоминает доктор Розенфельд, – что я сомневался, любит ли она его вообще.
В последние месяцы мама развлекалась только тем, что пробовала, насколько ей удается контролировать родных. Помню один эпизод за пять недель до ее смерти – лежа на больничной койке, такая хрупкая и опрятная, она, судя по виду, замышляла что-то недоброе. Я передала ей привет от Клива.
– Он тебя целует и очень любит, – сказала я.
– Меня все любят, кроме тебя, – огрызнулась она. Прежде чем мне удалось запротестовать, она села в постели, подняла сухонькую руку и наставила на меня палец. – Ты меня не любишь, а только боишься! – После чего с довольным видом улеглась обратно и добавила: “Шутка!” Что ж, подумала я, в яблочко.
Впрочем, маму злило не только то, что Алекс теперь был самым тяжелобольным в нашей семье – ее стали раздражать и некоторые особенности его характера. Он стал заводить новых друзей и ввязываться в новые проекты, не спрашивая ее совета. Главным делом тех лет для него была собственная биография, которую составляла молодая писательница Доди Казанджян. Они сразу же сдружились. Мама была слишком умна, чтобы не понимать, что Доди, миниатюрная жизнерадостная брюнетка, которая превозносила Алекса до небес, символизирует его бунт против высоких, белокурых, холодных валькирий (то есть Татьяны, Хильды и меня), которые прежде управляли его жизнью. “Алекса и Доди связывали страстные отношения, – говорит Анна Винтур. – У него был поразительный дар к саморекламе, и нашлась женщина, которая бесконечно восхищалась им, превозносила его”.
Мама невзлюбила тихую кроткую Доди и саму идею биографии. “Неужели тебе кажется, что при жизни человека можно написать честную и достойную его биографию? – вопрошала она Алекса. – Да и нужна ли такая книга в принципе? Tu vas te couvrir de ridicule![200]” – предостерегала его Татьяна снова и снова. “Кто эта Доди?” – спрашивала она меня. Алекс никогда раньше самостоятельно не заводил друзей. “Эта девочка не нашего круга, она даже не знает ни слова по-французски – как она собирается нас понять?” (В самом деле, даже я, хотя и полюбила Доди, как-то спросила, почему он не взял какого-нибудь писателя из Cond Nasty который говорил бы на нескольких языках, вроде Джоан Джулиет Бак. “Она слишком много знает, – сразу же ответил Алекс. – Мне нужна tabula rasa”.)
В последние годы жизни мама стала своего рода провокатором – она ковыряла воспаленное эго Алекса, безустанно призывала его к скромности и не давала жить двум его внутренним ипостасям: ни его внутреннему цыгану ни ребенку. Подозреваю, что она возненавидела Доди и саму идею биографии потому, что понимала: Алекс, возможно, готовится к новой жизни, которая наступит после ее смерти. Мама была собственницей и не желала, чтобы Алекс жил после нее. Сколько бы она ни говорила: “Будь джентльменом!”, – на самом деле она воображала, что он канет в бездну следом за ней, и маячащий на горизонте ковчег не вписывался в эту картину.
Мне вспоминается, как мама как-то вернулась из больницы, а Алекса в тот же день госпитализировали из-за проблем с сердцем. Вскоре после обеда я обнаружила ее накрашенной, в атласном костюме и со свежим маникюром – они с Мелиндой смотрели телевизор. Очевидно, она ждала меня, а увидев, поднялась, опираясь на трость, и пошла ко мне, призывно махнув рукой в сторону соседней комнаты. Мама загнала меня в угол гостиной и настойчиво прошептала:
– Врачи Алекса ошибаются! Нет у него никаких проблем с сердцем, это всё слухи! Его проверяют насчет диабета, – она выпрямилась, стараясь выглядеть величественно. – Я больна гораздо сильнее. Только я здесь больна!
Итак, пифия сказала свое слово. Мама вернулась в библиотеку и уселась перед телевизором. Я поднялась наверх, чтобы принять ванну, и перед сном зашла к ней пожелать спокойной ночи. Без украшений и изящных одежд мама выглядела удручающе. Питаясь лишь крохотными порциями жидкой еды – пара ложек пюре, бульона, Юриного киселя и овсянки, – она достигла веса около сорока килограмм, ее истощенные ноги были покрыты фурункулами и язвами – в основном из-за инъекций демерола. Существовала угроза инфекции, и сиделки тщательно следили за ее ранами. Видимо, она заметила мой взгляд и, чтобы отвлечь меня от мыслей об уколах, заговорила:
– Помнишь, какие ноги были у тети Сандры в последние годы жизни? Она всегда ходила в бинтах, это наследственное.
Несколько дней спустя Алекс вернулся из больницы, и тут жизнь в доме усложнилась еще больше. После его выписки Мелинда позвонила мне и рассказала, что мама будила Алекса посреди ночи – звала или бросала журналы к нему на кровать. В 5 утра она попыталась уговорить его приготовить ей овсянки – потому что, мол, только его овсянку она и могла есть. Алекс ответил ей, что у него только что был инфаркт и ему пока не разрешают ходить. Несложно догадаться, что мама ответила: “Я же больна гораздо сильнее!” На следующий день я узнала, что мама просит Алекса принести ей устрицы и любимое кофейное мороженое. Была полночь, все магазины уже закрылись, – и он отправился в гостиницу “Уолдорф-Астория”. Попробовав принесенные лакомства, она объявила их несъедобными. Услышав это, я позвонила Айседору Розенфельду, чтобы он проявил врачебную твердость и приказал им расселиться по отдельным комнатам. Алекс должен был переехать в мою, а я остановилась бы у друзей по соседству.
Доктор Розенфельд сразу же понял, в чем дело, и пришел на Семидесятую улицу.
– Если он не переедет в тихую комнату, он может умереть! – объявил он, невзирая на яростный мамин протест. Всемогущий инстинкт подсказал ей, кто стоит за этими перемещениями, и она рассердилась на меня. Как только врач ушел, она позвала меня из библиотеки, где я сидела и читала:
– Франсин!
Если родители звали меня полным именем, а не русским“ Фросенька”, это означало, что дело плохо. Я поднялась к ней и увидела, что она впервые за несколько недель стоит, опираясь на комод.
– Только нам решать, где мы спим! – Она пыталась кричать, но голос у нее был тонкий и хриплый. – Не вмешивайся! Я ни разу его не разбудила! Он очень много спит!
И она изо всех сил хлопнула дверью у меня перед носом.
Дрожа, я направилась в новую спальню Алекса. Он лежал в моей постели, как полвека до этого лежал по вечерам в своей, закинув руки за голову.
– Спасибо, что приехала, милая, – сказал он. – Я позвонил плотникам и малярам, чтобы тебе сделали комнату наверху, в моей старой мастерской.
И в самом деле, две недели спустя – как обычно действовала магия Либерманов – мастерскую на четвертом этаже уже переделали в комнату с ванной для нас с Кливом. Я старалась проводить на Семидесятой улице как можно больше времени – там витала трагическая атмосфера, характерная для позднего, маразматического периода брака моих родителей. Наркотики и болезни подкосили эту легендарную чету. Алекс, бесстрашный изгнанник, столько преодолевший, стал отдаляться от своей любимой жены, как только почувствовал, что она хочет утянуть его с собой на дно. А когда мама поняла, что Супермен ей больше не подвластен, что ее чары слабеют, то расхотела жить.
Но как бы она ни была больна, как бы плохо себя ни чувствовала, до самого конца мама следила за собой.
– Я умираю, Фросенька, мы все умираем, – рыдала она в трубку раз в несколько дней. – Слушай, можешь заглянуть ко мне в шкаф в “Косогоре” и достать розовую атласную пижаму и бархатный сен-лорановский жакет? Алекс пошлет автомобиль, мне они нужны сегодня вечером.
Время от времени я видела, как она пытается восстановить утраченную власть над Алексом с помощью обычных женских улвок. Как-то раз после обеда, пока он отдыхал в новой спальне, она час просидела перед зеркалом, тщательно накладывая макияж и накручивая истончившиеся пряди на электробигуди, – всё только ради того, чтобы заглянуть к нему. Белокурые волосы ореолом окружали ее исхудавшее лицо. Затем пришло время принимать решение: она сидела перед шкафом, а Мелинда мягко советовала, какой костюм надеть. Потом начался нелегкий процесс натягивания одежды на исколотое иглами тело. После чего наконец, опираясь на трость, мама проковыляла к моей бывшей комнате, осторожно постучала в дверь и, услышав тихий голос мужа, дохромала до кровати и прилегла рядом. Она держала его за руку и говорила, как одиноко ей спать одной, что она всю неделю не ела ничего приличного, – не согласится ли он спуститься и поужинать с ней. Он лежал молча, глядя на нее со смесью грусти, жалости и страха, гладил ее по руке, радуясь, что у нее еще остались силы наряжаться для него.
– Знал бы ты, как мне плохо… – простонала она наконец. – Никто не знает… Не пора ли еще делать укол?
Конец пришел быстро. В последнюю неделю апреля 1991 года Алекс был дома – его самочувствие стабилизировалось, но мама быстро угасала.
– Я за нее очень боюсь, – сказал мне Алекс по телефону в четверг. – Лучше приезжай, она… она как-то изменилась.
Я приехала около шести вечера и впервые увидела ее в терминальном состоянии. Она сидела в кресле посреди спальни в белом халате, ненакрашенная, с зализанными волосами – она впервые предстала перед кем-то в таком виде, впервые сидела в центре комнаты, не имела сил подойти к туалетному столику и взглянуть на свое отражение, она умирала от зеркального голода…
– What's new? – прошептала она, когда я зашла. Она впервые обратилась ко мне по-английски. Я присела рядом и стала тихо рассказывать о сыновьях – внуки интересовали ее в любом состоянии. Казалось, она терпеливо и даже с некоторым интересом слушает меня, но в глазах не было никаких чувств, никакого желания, и через минуту она начала клевать носом. Я помогла Мелинде перенести маму в постель. Губы ее двигались, дрожащая рука неуверенно тянулась к очкам на тумбочке, но падала на кровать. Собравшись с силами, она попыталась открыть глаза и оглядеть меня.
– Кажется, ты в брюках, – прошептала мама. – Всегда носи брюки.
Она закрыла глаза. Я посидела с ней еще десять минут и вышла. Это были ее последние слова.
Мне казалось, что это состояние продлится еще какое-то время, поэтому я вернулась на ночь домой. Но на следующий вечер, в пятницу, Алекс сообщил, что у нее начались ужасные боли в животе и ему пришлось отвезти ее в больницу. Ей диагностировали ишемическую болезнь кишечника – смертельный случай. Алекс потом рассказал, что в больнице произошла жуткая сцена: когда он незадолго до полуночи вышел из палаты, она закричала: “Я хочу умереть дома, забери меня домой, не бросай меня… ” В этот момент в ней откуда-то появилась демоническая сила, и она бросилась вслед за ним – так, что сиделкам пришлось удерживать ее. Любовь всей его жизни цеплялась за него, рыдала и умоляла забрать с собой, но он выбежал прочь.
– Всё время вспоминаю этот кошмар, – сказал он несколько дней спустя. Она прожила еще полтора дня, но он ее больше не видел.
Утром субботы я примчалась к ней в реанимацию. Мама лежала в тишине, окруженная тихим жужжанием машин. Она выглядела лет на тридцать младше и казалась одновременно умиротворенной и рассерженной. Лицо ее порозовело, словно обгорело на солнце. В этом зрелище не было ничего ужасного или пугающего, за исключением трубки во рту, из-за которой угол рта ее был чуть приподнят. Я взяла маму за руку, и она оказалась очень горячей – видимо, из-за температуры. Когда я коснулась ее лба, она не отреагировала, хотя я и ждала этого – как ждала всю жизнь. Меня вдруг охватило ощущение дежавю, вспомнились моменты, когда мама выглядела так же – покрасневшая, нахмуренная, – ну конечно, мама была такой, когда загорала на камнях, песчаных дюнах, в шезлонгах и на лодках на Лонг-Айленде или в Европе, впитывая солнце, хмурясь, как сейчас, словно сосредоточившись на его горячей красоте. Я была счастлива, что она умирает молодой и привлекательной, какой хотела бы, чтобы ее видели в последние мгновения. Я прижалась залитой слезами щекой к горячему маминому лицу и попросила прощения за всю боль, которую причинила ей, и сама простила ее за всё.
Я вернулась на Семидесятую улицу. Я вошла в гостиную. Был день. Клив тоже приехал в Нью-Йорк. Алекс встал из своего кресла.
– Сюда, – сказал он строго и указал на кресло, в котором полвека сидела мама. – Садись сюда.
Теперь это было мое место, я чувствовала, что теперь мое место здесь.
Врач позвонил нам в 2 часа ночи. Мы с Кливом отправились в комнату к Алексу. Он лежал, одетый в пижаму, заложив руки за голову, – спокойный, отстраненный, освобожденный. Слез не было. Мало кто видел, как он плачет.
– Мы с ней работали в Saks, это был какой-то кошмар! – сказала одна из тех, кто пришел в похоронный дом Фрэнка Кэмпбелла двумя днями позже. Там были многочисленные коллеги Алекса – редакторы Vogue, Self, Glamour, Mademoiselle, Gourmet, GQ, Details, Cond Nast Traveller, Vanity Fair, Allure. Были и представители светского мира Либерманов – супруги де ла Рента, Киссинджеры[201], Пат Бакли, леди Дадли, Эртеганы[202], Билл Бласс, Кеннет Джей Лейн[203].
Отпевали ее в русской церкви на углу Парк-авеню и Девяносто третьей улицы. Мы с Алексом и Мелиндой выбрали ей платье – тунику из коричневого атласа. В православной церкви молящиеся стоят во время службы, но Алексу разрешили присесть – голова его была опущена, глаза смотрели в пол, слез по-прежнему не было. К тому времени у него начался обычный для сердечников кашель, и Мелинда, которую он попросил остаться с ним, держала в руках сироп. Когда он закашлялся, она дала ему ложку сиропа, и он послушно выпил его, как ребенок, не поднимая головы, не поднимая взгляда. Коллеги его были потрясены этой резкой переменой.
– Увидев его на похоронах, отчаявшегося, разбитого, я поняла, что прежняя жизнь для него кончена, – вспоминает неизменно проницательная Анна Винтур.
Когда подошло время, мы с Тадеушем и Люком подошли, чтобы попрощаться. Мама выглядела такой мирной, такой хрупкой и – впервые в жизни – такой вежливой. Я навсегда запомню этот образ, милый, утешающий, и хотела бы разделить его с другими. По сей день я помню, что тогда она казалась деликатной, как никогда прежде. Хотелось бы мне всегда знать ее такой – доброжелательной, загорелой, искренней, – мне хотелось остаться с ней в этой церкви, говорить с ней и оплакивать ее.
И откуда-то из-под океана горя, из-под острого чувства потери, которое сильнее всего ощущают дочери, вдруг всплыла благодарность: “Господи, я пережила ее”.
После службы Алекс, не чувствуя сил принимать гостей, попросил нас с Кливом отвезти на обед тех, кто специально прилетел в Нью-Йорк: парижан и друзей из разных концов Америки. Мы сидели за столом ресторана на Лексингтон-авеню, неподалеку от Семидесятой улицы, и вспоминали Татьяну. Как она вышла навстречу нашему другу Фредерику Татену, когда он приехал в “Косогор” и заявила: “Сними этот жуткий свитер!”
Как в 1940-е, когда в моде были высокие прически и кто-то в театре попросил ее снять шляпку, мама повернулась и негодующе заявила: “Это не шляпка, это волосы\” Как она набросилась на Хелен Франкенталер, когда та принесла ей свежие цветы: мама говорила, что приходить в гости с цветами – дурной тон, поскольку это обязывает хозяйку бросить всё и искать вазу, поэтому уместны только растения в горшках. Как редакторы Vanity Fair приехали к Алексу в “Косогор” и мама вышла к ним в огромной соломенной шляпе и всех своих украшениях, но за столом обращалась только к Гене, причем по-русски; вдруг, посреди обеда, она обвела всех взглядом и объявила по-английски: “Мы собираемся на садомазо-шоу в “Майншафт”[204] После службы Алекс поехал домой. Когда я вернулась, он ждал меня на своем обычном месте – в сером кресле у окна с видом на сад. Он смотрел на меня выжидательно и чуть ли не возбужденно, и я поняла, что он ждет моего рассказа – так же, как ждал, когда я возвращалась домой после бесед с психоаналитиком или любого другого важного мероприятия, куда сам он не смог пойти. – Как она выглядела? – спросил он. Глава 22 После Татьяны Воспоминания о первых скорбных днях после маминой смерти в моем сознании погребены под сотнями метров ткани – тонкой шерсти, шелка, бархата, которые я перебирала, пока возилась с ее нарядами. Вся одежда висела в бесконечных шкафах в погребе – полувековая сокровищница платьев, небрежно развешанных на дешевых металлических вешалках, которые выдают в химчистке. Многие вещи заплесневели, были порваны или испачканы ржавчиной – в этом было что-то неприятное; эта одежда воплощала нарциссизм моих родителей, их праздность и зацикленность на себе. Приходило ли ей в голову отдать ненужные вещи в благотворительные организации или даже в музей? Забота о других не была сильной стороной характеров Либерманов. Передо мной разворачивалась панорама маминой жизни в моде: изящные твидовые платья, которые она носила, будучи работящей эмигранткой в наши первые годы в Америке; широкоплечие черные платья – наподобие нарядов из“ Милдред Пирс”[205] в исполнении Джоан Кроуфорд, – украшавшие ее на корабле, когда после войны мама отправилась в Европу; бежевый шелковый костюм с этикеткой Софи Сакс, в котором она была на моей свадьбе в 1957-м; бесчисленные разноцветные копии трапециевидного диоровского платья 1960-х – оригинал у нее был только один. Некоторые платья по-прежнему благоухали ее духами; перебирать их было и скучно, и как-то особенно больно. Я разбирала вещи не по своей инициативе: мне казалось, что надо заняться этим через несколько месяцев, и только тогда начинать постепенно раздавать ее гардероб. Идея принадлежала Алексу, и он довольно резко озвучил ее на следующий день после похорон. Когда я поднималась в свою новую комнату, он позвал меня к себе и сказал, что вечером идет на ужин. – Ты уверен, что это безопасно? – спросила я. – Ты хорошо себя чувствуешь? Внезапно доктор Джекил превратился в мистера Хайда и с невиданной ранее злобой огрызнулся: – Я сказал, что пойду! Не смей больше лезть в мои дела. – Он смерил меня разгневанным взглядом. – И разбери мамины вещи. Я хочу, чтобы через три дня их здесь не было! Мне было больно от этой внезапной ледяной грубости, и вместе с тем я вдруг осознала, что повторяю про себя слово “цыган”. Это была естественная ассоциация: мне уже случалось размышлять о цыганской крови Алекса и его мамаши – именно она, как мне казалось, делала их такими непостоянными и вспыльчивыми. Возможно, так цыгане справляются со смертью, сказала я себе тогда, они стараются как можно скорее удалить из жизни все следы покойного, чтобы не тратить время на горе. (Несколько лет спустя я изучала цыганскую культуру и узнала, что цыгане в самом деле отрицают концепцию скорби или траура. В цыганском этосе в течение суток после смерти необходимо сжечь всё, что связано с умершим: его шатер, одежду, подушки, предметы быта, чашки. И даже по любимым не полагалось горевать долго, потому что согласно цыганским обычаям жить надо настоящим.) Через несколько недель, в конце мая, я отправилась во Францию, чтобы закончить исследования для очередной книги, которые надолго отложила из-за здоровья родителей. К тому времени Алекс уже устроился на Семидесятой улице вместе с Мелиндой и Юрием и стал возвращаться к работе. Я сочла, что могу ненадолго уехать. Через несколько дней после приезда в Авиньон мне позвонил Клив: – Ты не поверишь, – сказал он. – Алекс продал дом на Семидесятой улице. – Что?! Быть такого не может, он мне ни слова не сказал. – Ты же его знаешь. Мы поговорили еще немного – я негодовала, Клив, как обычно, меня успокаивал. Это был тяжелый удар. Почему Алекс даже не предупредил меня? Дом на Семидесятой улице значил для меня еще больше, чем наш с мужем дом в Коннектикуте. Кроме того, это был в гораздо большей степени дом мамы, чем Алекса: каждый сантиметр, каждый предмет, каждое зеркало – всё здесь говорило о ее вкусах. Мы раньше шутили, что вкусам Алекса лучше всего соответствуют кубики льда. Что же будет с Алексом без этого дома, маминого творения, которое помогло им обрести успех? Я погрузилась в раздумья – вспоминала, например, как Алекс в больнице сказал, что хотел бы переехать в квартиру, где можно было бы просто взять и вызвать электрика. Через час я собралась с духом и перезвонила мужу: – Куда он переезжает? – На Сорок девятую улицу, у него квартира в том же доме, что и у Сая Ньюхауса, – ответил Клив. – Кстати, он подчеркнул, что у нас в этой квартире будет отдельная комната. Я невольно улыбнулась. Всю жизнь Алекс всеми возможными способами стремился удержать власть в своих руках. Как сказала Анна Винтур: “Алекс прежде всего был придворным Сая”. Жизнь его возвращалась в прежнюю колею. Через несколько недель после того, как я вернулась из Франдни, Алекс предложил мне посмотреть его новую квартиру – он собирался переехать туда через пару месяцев. Стоило мне войти в дом – громоздкое здание в духе Муссолини, – я поняла, что первая за полвека холостяцкая берлога Алекса будет, как мы и предполагали, холодной и безликой. Будущие комнаты выходили окнами на реку, среди них – его просторная спальня и небольшие комнатки для нас с Кливом и Мелинды. Сквозь огромные голые окна лился яркий свет, на улице ревели сирены и автомобили, и я понимала, что здесь не приживется ни единая крупица маминого уюта. Именно в этой ледяной квартире я осознала – ее больше нет. Всё лето квартиру перекрашивали, а мы пытались вернуться к нормальной жизни. По пятницам Алекс с Мелиндой и Юрием ездили в “Косогор” – их возил его любимый шофер от Cond Nast, благообразный пожилой алжирец Френчи. За последние годы с мамой Алекс ни разу не был в ресторане. “Я забыл, как читать меню”, – печально сказал он, когда мы в первый раз вышли поужинать; чтобы отвлечь его, мы по субботам водили всю компанию по местным бистро. По воскресеньям я проводила в “Косогоре” несколько часов, чтобы убедиться, что хозяйство ведется без сбоев. Алекс в это время бродил взад-вперед по кромке вдоль бассейна, заложив руки за спину, опустив взгляд, ссутулившись – так он выполнял предписание врачей больше гулять. Глядя на новую жизнь Алекса, я часто вспоминала, как воображала будущее после маминой смерти: мне представлялось, что Алекс станет отшельником, будет жить в “Косогоре” и ездить в Нью-Йорк два-три раза в месяц, чтобы посетить врачей и ближайших друзей, а единственным утешением его станет живопись, которой он будет отдаваться всецело… Я стану навещать его каждый день и готовить еду или же приносить с собой приготовленные дома французские кушанья, чтобы, подобно Корделии, быть ему поддержкой и утешением… каким мягкосердечным Алекс станет, как благодарно будетулыбаться нам за обеденным столом… Задним числом мне кажется нелепым, что разумная шестидесятилетняя женщина может лелеять настолько абсурдные фантазии об отце. В реальности же Алекс теперь ни на минуту не оставался один – его окружали прислужники и приживалки. В середине августа, как раз в предполагаемые дни переезда, у Алекса случился очередной сердечный приступ. Мелинда отвезла его в местную клинику, но осталась ею недовольна, и его на вертолете отправили в нью-йоркскую больницу, где сделали операцию на сосудах. Мы с Кливом были в Куперстауне и оставили Алексу с Мелиндой номера телефонов, по которым нам можно было дозвониться. Услышала о произошедшем, я бросилась в Нью-Йорк. Алекс встретил меня с недовольным видом. – Где ты была? Тебя не найти, – сказал он обиженно. – Я оставила Мелинде наши номера. – Видимо, она их потеряла, – пробормотал он и начал жаловаться на коннектикутский дом: там всё напоминает ему о маме, вечерами особенно тяжело, все вещи вокруг будто говорят о ней. Он мечтает скорее переехать в новую квартиру в Нью-Йорке – и тут он уже заговорил об отделке. Одно время ему хотелось увеличить мамин портрет работы Ирвинга Пенна, чтобы повесить его на стену в холле, но потом он подумал, что лучше там будет висеть его собственная картина. Так сложно решить, какие памятные объекты оставить, а от каких отказаться – не будет ли кощунственно сохранить все ее портреты? Но и избавиться от них было бы неправильно. (Впоследствии я не раз вспоминала это его замечание.) – Конечно, продай “Косогор”, если тебе там плохо, – сказала я, когда собралась уходить. – Хорошо, – ответил он. Предполагаю, что он наверняка всё решил до моего прихода, но испытал облегчение, что я согласилась. Я вернулась на Семидесятую улицу. Это была моя последняя ночь в нашем старом доме – впоследствии его постепенно разобрали на кусочки. Алекс продал почти всю мебель, включая ту, что стояла в квартире моих родителей в довоенном Париже. Все любимые картины моего детства – Джакометти, Брак, Пикассо и Шагал с дарственными надписями маме – были сняты со стен. Алекс передал большую часть в музеи, чтобы компенсировать налоги, которые пришлось заплатить при продаже дома. Чтобы утешиться после прощания с домом, я договорилась поужинать со своим сыном Тадеушем, который любил его так же, как и я. Мы обнимались, целовали белую дверь и плакали над воспоминаниями. Хотя в ту неделю нас ждали и хорошие новости – Тадеуш объявил о помолвке с замечательной девушкой, – в тот вечер я радовалась тому, что не одна. Когда сын ушел, я допоздна лежала на раскладушке в библиотеке и смотрела по телевизору, как рушится Советский Союз. После полуночи начался специальный выпуск новостей – в нем среди прочего упомянули, что Ленинград могут переименовать обратно в Петербург. Мне вспомнилось, что мама отказывалась даже произносить слово “Ленинград”. Семидесятилетнее господство Союза она считала проклятием и называла свой родной город Петербургом – даже несмотря на то что собеседники на обоих континентах считали ее ненормальной – и voil! Даже через несколько месяцев после смерти она вновь оказалась права. После переезда на новую квартиру состояние Алекса значительно ухудшилось, и доктор Розенфельд сделал решительный шаг, назначив ему шунтирование. Учитывая, в каком состоянии находилась сердечная мышца, это был большой риск – Розенфельду даже пришлось подписать документ, в котором говорилось, что он несет ответственность за решение сделать операцию. Вечером после операции, когда мы с Кливом и Мелиндой навещали Алекса в реанимации, произошел интересный эпизод. Нам с мужем удалось только ненадолго взять его за руку и увидеть, как он мигает. Зато Мелинда буквально набросилась на него, стала поправлять дыхательную трубку, подушки, твердить, что медсестры всё делают не так, гладить его лицо и повторять: “Милый мой, дорогой”. Ага, подумала я, но решительно отмела эту мысль как невероятную. Той осенью мы с Кливом вернулись к прежнему расписанию – приезжали в Нью-Йорк раз в неделю и, прежде чем отправиться ужинать с друзьями, заходили к Алексу на полчаса, а иногда обедали или ужинали все вместе. Карьера в Cond Nast, за которой он так гнался, сошла на нет перед лицом куда более важной задачи – сохранить здоровье. – После смерти Татьяны, – вспоминает Анна Винтур, – он заглядывал к нам на пару часов раз-другой в неделю. Он стал ипохондриком, и больше всего его заботили здоровье и новая квартира. Хотя я видела, с каким наслаждением Алекс купается в заботе Мелинды, мне и в голову не приходило, что между ними могут зародиться чувства. Тому было три причины: во-первых, Алекс мне всегда казался абсолютно асексуальным человеком, во-вторых, он был невероятным снобом, и в-третьих, я, подобно окружающему миру, сохраняла наивную веру в то, что Алекс страстно любил маму. Общее мнение было таково, что ему не суждено оправиться после ее потери, и, несмотря на то что мне приходилось видеть разные стороны их отношений, я всецело разделяла это убеждение. Первый раз эта иллюзия пошатнулась в ноябре, когда мне в истерике позвонил домработник Алекса Лэнс Хьюстон, который в прошлом году был нанят на смену Хосе и переехал с хозяином на новую квартиру. – Хочу сказать, что мне, возможно, придется уйти, – встревоженно сообщил Лэнс. – Здесь невыносимо, эта сиделка нами командует, словно она теперь миссис Либерман… Я поблагодарила его за звонок, сказала, что с этим ничего сделать не могу, и попросила быть на связи. Повесив трубку, я подумала, что у него паранойя… и тут мне вспомнилась сцена в реанимации. С тех пор улики только накапливались. Когда мы с Юрием летели в Техас на свадьбу к Тадеушу в начале 1992 года, он поделился со мной своими наблюдениями. (Алекс постепенно разлюбил Юрия и с радостью отделался от него на три дня, вручив ему билет на самолет, – оставалось только гадать, почему он до сих пор платил ему.) Юрий рассказал, что Алекс теперь полностью под каблуком у Мелинды, во всём ее слушается, они всё время держатся за руки и зовут друг друга “зайками”. До сентября 1992 года это были только догадки. Мы с Кливом отдыхали в доме на Лонг-Айленде, который Алекс снял на всё лето. Накануне Мелинда устроила пышную вечеринку в честь его восьмидесятилетия – здесь были и филиппинские танцовщицы живота, и живая музыка, и дюжина жареных молочных поросят, и фонтаны с шампанским, и самолеты, которые рисовали в небе надпись: “С днем рождения, Алекс”. (“Мама бы никогда такого не устроила, – прошептал мне Алекс в перерыве. – Она бы сказала: что за вульгарность, ненавижу такое”.) На следующий день, когда мы сидели на террасе, он начал очередной свой монолог с весьма подходящей диатрибы[206] в адрес Юрия. Все советские люди – прохиндеи и эксплуататоры, все они отравлены режимом, и Юрий не исключение: он хочет привезти в Штаты своего бойфренда, разве это не ужас? Поэтому Алекс собирается отправить Юрия в Россию – дать ему денег за три месяца вперед и пусть катится в свою чертову Москву. – Мне надо действовать быстро, потому что я еще недолго буду жить, – продолжал он, ловко меняя тему. – Не могу быть один, я схожу с ума в одиночестве, мне нужна женщина… Ты далеко, у тебя своя жизнь – что мне делать? Мелинда спасает меня, больше у меня ничего нет. Может, потом я на ней женюсь… Как приятно, когда к тебе снова кто-то прикасается. Он сощурился и посмотрел на меня многозначительно. Бедный мой, подумала я, потому что прекрасно помнила, какой холодной могла быть мама. Прощай, Юрий: теперь было ясно, зачем Алекс держал его при себе – он служил дуэньей, чтобы все приличия были соблюдены и отношения с Мелиндой выглядели благопристойно. Когда мы уходили, Алекс снова начал сердиться: – По-моему, Клив против того, чтобы я женился на Мелинде, – заявил он. Несколько месяцев назад он и правда заговорил с моим мужем о возможном браке – хотя со смерти мамы не прошло еще и года. Из-за сыновей, которые обожали бабушку, Клив (семья для него была превыше всего) действительно сказал Алексу, что это, возможно, “ужасная идея” – так быстро снова женитьс. Алекс не терпел критики; со смертью мамы он привык лелеять свои обиды; и хотя он прежде называл зятя “лучшим другом во всём свете”, прямота Клива, к сожалению, возвела стену между моей семьей и Алексом – и стена эта существовала до его смерти. По крайней мере, он дал нам время привыкнуть к этой идее. Два месяца спустя, в ноябре 1992-го, мы с Кливом уехали в Париж и остановились у Этель де Круассе, одной из ближайших европейских подруг родителей. Воскресным вечером мы вернулись из Шартра и сели за холодный ужин. Зазвонил телефон, Клив взял трубку – это был Алекс. У Этель в доме стоял телефон, который позволял включить громкую связь, поэтому все мы слышали разговор. Алекс позвонил, чтобы сообщить, что 2 декабря у них с Мелиндой будет свадьба, но приглашает он только супругов Ньюхаус и Доди Казанджян с мужем – его свидетелями будут Сай и Доди. – Если вы приглашаете на свадьбу начальника и биографа, хорошо бы позвать туда и родственников, – заметил Клив. – Нет у меня никаких родственников, – заявил Алекс. – Вы только мне мешаете. Ненавижу, когда мне мешают. – Вы сами всё усложняете, а раз у вас нет родственников, то и говорить нам не о чем, – ответил Клив, положил трубку и разразился ругательствами: – Чертов осел, видеть его больше не хочу! Через пять минут телефон зазвонил снова. – Я не узнаю Алекса, он меня пугает, – твердила негодующая Этель. – Никогда его таким не видела. Я всё еще сидела в столовой и плакала. – Помирись с ним, пожалуйста, – взмолилась я, когда Клив пошел к телефону. – Пожалуйста, ради Татьяны! – Клив, дорогой, разумеется, я жду вас с Франсин и детьми, – сказал Алекс. – Вы же знаете, как я вас люблю. – Алекс, мы тоже вас любим, поэтому всё так непросто. К следующему утру я уже была способна смотреть на ситуацию с юмором: Алекс хотел пригласить начальника и биографа. Власть и слава – вот к чему он стремился всю жизнь. Они поженились в мэрии. Церемонию вел судья Пьер Леваль, сын Беатрис и Фернанда Лева ля – той самой пары, к кому мои родители уехали летом 1941-го, когда Гитта Серени рассказала мне правду о смерти отца. Я разглядывала канареечно-желтый костюм Мелинды, ее ручки, усыпанные бриллиантами, и думала, что жизнь не перестает меня удивлять. Поскольку Алекс отказался от идеи отметить свадьбу в компании начальника и биографа, он устроил прием. Нас было около двадцати человек, включая несколько элегантных дам из Cond Nast. После короткой церемонии был подан обед в шикарном итальянском ресторане в Вест-Вилладж. А несколько недель спустя Алекс позвонил и холодно попросил нас с Кливом подписать бумаги, которые снимали бы с нас обязанности его душеприказчиков – он выбрал нас на эту роль тридцать пять лет назад, вскоре после нашей свадьбы. Алекс звонил из Майами, где только что купил двухэтажную квартиру с видом на залив Бискейн. Теперь его душеприказчиками стали Пол Шерер, администратор Cond Nast, Мелинда и Доди Казанджян – последние две уже были лучшими подругами. В общем, он распустил свою старую семью (на работе Алекс в совершенстве освоил это ремесло!) и нанял новую (включая квазидочь) – до смешного непохожую на нас с мамой. Войдя в гостиную Либерманов в Нью-Йорке или Майами, вы попадали в такую же белоснежную комнату, как на Семидесятой улице, но еще более ослепительно-холодную – из-за яркого света, который лился из огромных окон без занавесок, из-за белой пластиковой мебели, из-за стен, на которых висели лишь последние работы Алекса: огромные яркие картины 1980-х, написанные в том же (лишь немного пригасшем) экспрессионистском стиле, в котором он работал последние двадцать лет. Белизна обеих квартир странно не сочеталась с безделушками, которые расставила хозяйка на свой вкус: салфетки для приборов на столах и похожие кружевные – на стульях, аляповатые вазы из розового фарфора и – в Нью-Йорке – огромная хрустальная люстра над обеденным столом (увидев которую, я немедленно услышала голос мамы, который произнес ровно то, что сказал Алексу на свой день рождения: “Ненавижу такое”). В обеих квартирах Либерманов было что-то от Океании, царящей там атмосферы разложения – можно было представить, что они принадлежат преступным торговцам бриллиантами в Сингапуре или Джакарте. В этих квартирах отчетливо видно было, что в новой жизни Алекс обзавелся множеством новых привычек. Во Флориде он большую часть времени проводил, гуляя по торговым центрам с Мелиндой или возлежа в белом пластиковом кресле за просмотром телевикторин. – Обожаю Майами. И торговые центры мне нравятся. Мы просто сидим на террасе, ни с кем не видимся, и всё прекрасно, – восторженно рассказывал Алекс, когда я звонила. – Он смотрел по телевизору всё подряд, – вспоминает Чарли Чёрчуорд. – Когда мы приезжали, он всякий раз требовал, чтоб мы сели что-нибудь смотреть. Мы переглядывались и понимали, что он уже не тот. Теперь к ним постоянно приходили дети, хотя Алекс никогда не любил такого. У Мелинды было семеро братьев и сестер, и будучи бездетной, она опекала нескольких племянников и племянниц. Они приветствовали “дядю Алекса”, касаясь головой коленей на филиппинский манер. Это было невероятное зрелище! Алекс (безупречная внешность, безукоризненные манеры воспитанника британского пансиона) стал настоящим патриархом в футболке: дети карабкались к нему на колени, а он лишь смущенно улыбался. Когда у моего сына Тадеуша появились свои дети, Мелинда поставила в прихожей их нью-йоркской квартиры детскую коляску, чтобы Алекс не забывал: теперь его семья и его дети – это ее маленькие филиппинские племянники и племянницы. (Все они были перечислены в его завещании.) – Умение выживать было у него в крови, – рассуждает Айседор Розенфельд о тех днях. – Как ни тяжело ему было привыкнуть ко всем этим босоногим младенцам, он не говорил о Мелинде ни единого дурного слова – как не говорил и о Татьяне. Новая семья Алекса состояла и из друзей Мелинды по школе медсестер, которые теперь жили в Майами или Нью-Йорке. В Нью-Йорке была Джанет, сочная незамужняя красотка, которая училась несколькими классами младше Мелинды. В Майами была Джой, супруга немецкого автоторговца Ганса, которая не расставалась с Либерманами, пока из-за чего-то не поссорилась с ними. (Оскар де ла Рента говорит, как после поездки в Майами Анна Винтур весело сообщила, что Либерманы общаются в основном с автомеханиками.) В выходные все эти дамы, такие же спокойно-улыбчивые, как и Мелинда, приходили к Либерманам, чтобы поиграть в маджонг с хозяйкой дома. В эти часы тишина в квартире нарушалась лишь щелканьем костяшек и треском бесконечных фисташек. Тем временем Алекс отдыхал на террасе и листал журналы Cond Nast, которые ему присылали, или даже The New Yorker или The New York Review of Books. Когда я приезжала в Майами и видела, как он слоняется по дому, мне вспоминался Обломов, который с возрастом впал в детство, отдался лени и праздности и полностью оказался под влиянием властной домохозяйки. – Здесь настоящий рай, рай! Эти филиппинки такие красивые! – восклицал он в первые годы жизни в Майами. – Хочу выучить филиппинский, хочу переехать туда… Хочу походить на них. Я подумываю сделать операцию на глаза, чтобы напоминать филиппинца! Новая жизнь Алекса не способствовала улучшению отношений с его прежними друзьями и родственниками. Он жил в праздности и чувствовал себя забытым целым миром, а потому постепенно стал мелочным. К третьему году их брака большинству старых друзей было отказано в общении, за исключением Лео Лермана и Марти Стивенс – певицы, близкой подруги мамы и Марлен и горячей поклонницы Алекса. Среди отверженных были такие близкие люди, как Беатрис Леваль (Алекс жаловался, что ее йоркширский терьер “слишком громко лает”) и, к моему горю, некогда обожаемый внук Тадеуш, который попал в опалу, поскольку не пригласил Либерманов поужинать в День Благодарения, хотя они уже уехали на зиму в Майами (надо понимать, что дети Тадеуша могли стать соперниками новым внукам Алекса). Наконец, среди них были старые приятели, которые уже не могли быть полезны, – например Андре Эммерих, который некогда был одним из ближйших друзей Алекса. – Я раньше переживал, что Алекс на меня за что-то обиделся, – рассказывает Эммерих, который не получил от Алекса ни единой весточки с тех пор, как в 1994 году закрылась его галерея художника. – А потом я понял, что раз галереи уже нет, я ему больше не нужен. Все парижские знакомые тоже остались за бортом – по разным причинам. Летом 1994 года он повез супругу в Евpony (раньше она там никогда не была) – показать ей виды и познакомить со своими друзьями; однако всё вышло не так, как предполагал Алекс, – возможно, из-за ряда оплошностей с его стороны. Одно такое faux pas произошло, когда Алекс представлял новую жену Пьеру Берже, крайне щепетильному парижанину, который в 1960-е годы основал модный дом Ива Сен-Лорана и впоследствии стал ближайшим маминым другом в Париже. – Я открыл дверь, – вспоминает Берже, – и Алекс сразу же сказал мне по-английски: “Позволь мне представить тебе любовь всей моей жизни”. Я ответил ему по-французски: “Ne te fous pas de moi mon vieux, j’ai bein connu l’amour de ta vie”[207]. Другой близкий друг, Франсуа Катру, рассказывает, что Алекс обзванивал всех заранее и предупреждал, что Мелинда ест только рыбу. – Мы все лезли из кожи вон, водили ее по рыбным ресторанам, но она только сидела, опустив глаза, даже не пытаясь участвовать в разговоре и не прикоснувшись к рыбе. В общем, опыт не удался: попытавшись сделать Мелинду частью своего мира и обнаружив, что она этого не хочет, он с готовностью отказался от этого мира – так же, как уже отказался от себя самого, – и посвятил жизнь заботе о ней. Постепенно прежний щедрый Алекс исчез. В основе нового его хозяйства лежала бережливость и неусыпная бдительность. Винный шкаф был под замком, и каждая бутылка и коробка печенья были под строгим учетом. – Вижу, ты приложилась к бренди из бара? – спросил как-то Алекс, когда мы с ним и Мелиндой ехали в такси. – Алекс, ты не забыл, что у меня тахикардия? Я уже больше тридцати лет не пила ничего крепче вина, – ответила я. – Я и забыл, что у нее проблемы с сердцем, зайка, – виновато сказал он Мелинде. – Ей уже много лет нельзя бренди. Я выросла в доме Алекса, в котором замок был только на входной двери, в котором все были слишком заняты, чтобы носиться со своими проблемами или преувеличивать оплошности других, и теперь часто чувствовала изумление. Среди жалких остатков его семьи и друзей стало обычным новое и очень утомительное развлечение: мы гадали, кого же Алекс бросит на этой неделе, а кого приблизит. Надо сказать, что наш цыганский хамелеон постоянно пребывал в окружении новых людей. Помимо родственников и коллег Мелинды новая семья Алекса включала в себя две супружеские пары, которые прекрасно уживались с его женой: Доди Казанджян с мужем, знаменитым автором The New Yorker Келвином (Тэдом) Томкинсом, которого мама совершенно несправедливо невзлюбила – возможно, предвидя, что он прочно войдет в жизнь Алекса после ее смерти; и Дениз Барбут и Мерк-Хайн Хайнеман – мама никогда с ними не встречалась, но по иронии судьбы наверняка полюбила бы их. Последние были полиглотами и врачами – у Алекса всегда было много друзей в этой профессии (ему нравилось держать при себе врачей – на всякий случай). Теперь он полюбил длинные белые лимузины – по-детски наслаждаясь вульгарностью, которой никогда бы не допустила Татьяна, – и нанимал их, чтобы возить друзей поиграть в казино в Атлантик-Сити или пообедать в псевдоазиатских забегаловках (я снова слышу мамин шепот: “Ненавижу такое!”). Но зачем слушать мамин шепот и саркастические насмешки над популистскими радостями новой жизни Алекса? Мелинда была всецело предана любимому, она подарила ему несколько месяцев или даже лет жизни. Мелинда играла свою роль с необычайным достоинством, была нежна и заботлива, и черствый старый изгнанник, переживший множество бед, был бесконечно признателен за подаренное ему время. Он полвека был Суперменом для той, которая держала его под каблуком, а теперь наслаждался своим эгоизмом. Если отношения сиделки и инвалида заканчиваются смертью, бывшая сиделка зачастую сама становится инвалидом и находит себе опекуна. Именно эта смена ролей и произошла с Алексом – Мелинда стала для него тем, кем он был для мамы. “Милый”, над которым она склонилась когда-то в реанимации, теперь всецело принадлежал ей, и она холила и лелеяла его изо всех сил. По утрам она шнуровала ему туфли, завязывала галстуки, руководила невероятно сложной системой приема лекарств, нарезала ему мясо, завязывала вокруг шеи салфетку, если видела, что перед обедом у него сильнее обычного дрожат руки. – Как прекрасно, когда тебе по утрам шнуруют туфли! – восклицал Алекс. – Я всю жизнь об этом мечтал! Мелинда была настоящей львицей, строго запрещала Алексу сладкое, а поймав его с конфетой, принималась так угрожающе рычать: “За-а-айка!”, что он надолго оставлял всякие попытки схитрить. Честно говоря, единственным недостатком в ее любви было то, что, как многие любящие матери, она позволила Алексу растолстеть. Интересно было наблюдать, как быстро исчезли из виду фотографии бывшей миссис Либерман. Переехав в квартиру, Алекс поставил на книжной полке у кровати те же фотографии, что хранил у себя на столе на Семидесятой улице: портреты родителей, снимок нас с Кливом и детьми и пять-шесть маминых фотографий. Нас убрали первыми – на это потребовалось всего несколько недель. Затем понемногу стала исчезать мама. Поначалу она занимала центральное место в книжном шкафу, но затем ее фотографии переехали в левый угол и стали потихоньку пропадать. Так же незаметно она исчезла из наших разговоров. В первый год после ее смерти Алекс чуть ли не при каждой встрече спрашивал с самым невинным видом: – Когда ты будешь писать о маме? Она так хотела, чтобы ты написала о ней книгу. Ага, думала я, он хочет, чтобы я поскорее взялась за работу, чтобы он успел ее проконтролировать! У меня был совсем другой план: я хотела написать про них обоих, а поскольку у меня самой начались проблемы со здоровьем, мне хотелось пережить его настолько, чтобы еще успеть написать книгу. Поэтому я загадочно качала головой и говорила, что еще слишком рано, это слишком болезненная тема, надо подождать. Когда прошло два года, Тина Браун уговорила меня написать эссе в The New Yorker, посвященное моей маме как иконе моды. Я позвонила Алексу (который к тому моменту уже вовсе не упоминал маму), чтобы обсудить с ним свой текст. – Я напишу о маме для Тины, как ты и хотел. – Это прекрасно, милая, очень хорошо… Зайка, а почему кофе невкусный? – Он, как обычно, был погружен в свой домашний уют. – Как ты думаешь, можно еще найти кого-нибудь, кто работал с ней в Saks? – Ну конечно можно, дорогая… Зайка, сделай мне приличного кофе! Поэтому эссе пришлось писать самостоятельно. Несколько знакомых похвалили при нем мой текст, что не могло его не порадовать – он по-прежнему оставался страстным любителем саморекламы и следил за всем, что писали о нашей семье. – Говорят еще что-нибудь про твое эссе? – спрашивал он. Пока я говорила, отважная Мелинда, натянув на глаза маску для сна, притворялась, что спит. Это был один из последних случаев, когда Алекс упоминал маму. Был и еще один, довольно забавный, – произошел он после того, как была опубликована его биография работы Доди Казанджян и Келвина Томкинса, и рецензии показались ему недостаточно восторженными. Стоило мне войти в квартиру, я поняла, что он хочет поговорить: он медленно, хромая, шел ко мне навстречу и тут же попросил присесть (Мелинды в тот день не было дома). Было ясно, что он хочет пожаловаться на книгу. – Мы стали какими-то клоунами, – жалобно сказал он (имея в виду себя, маму и Доди). – Последуй моему совету – не позволяй писать о себе, пока ты жива. Твоя мать была права! Мне больно видеть, как оскорбляют ее память эти рецензии. Она была великой женщиной, к ней приезжали из Норвегии, со всего мира… Весь наш дальнейший разговор он превозносил Татьяну (это был первый раз за несколько лет, когда он вообще о ней вспомнил). Справедливо будет добавить, что после маминой смерти Алекс всё же выражал любовь к нам и тоску по жене – какими бы малозаметными ни были эти знаки. Даже если он старался выказывать чувства так, чтобы Мелинда не заметила, в эти мгновения мы снова видели прежнего, любящего, чудаковатого Алекса. Услышав о помолвке Тадеуша (это произошло на следующий день после его операции на сосудах), он добрался до телефона, позвонил в наш любимый ресторан “Ла-Гренуй” и заказал для внука с невестой шикарный ужин с бутылкой дорогого бордо. Когда моя подруга Джоанна Роуз устраивала презентацию для меня или Гитты Серени, он непременно приходил туда, хотя бы на десять минут. Они с Мелиндой поддерживали близкие отношения с моим младшим сыном Люком, которого Алекс обожал всем сердцем, – он вел тот вольный творческий образ жизни, который Алекс так и не осмелился выбрать. Когда мне в середине 1990-х делали операцию по замене тазобедренного сустава, он послал мне букет цветов с запиской, в которой говорилось по-русски: “Я тебя люблю”. (Когда-то он учил меня алфавиту, а теперь сам позабыл его – он ошибся в двух буквах и зачеркнул их.) Иногда он вспоминал о наших днях рождения, звонил, и, когда я слышала, как он говорит мне “Фросенька”, сердце мое истекало кровью в тоске по нашей былой любви. Кроме того, возможно, книги, которые он выпускал после маминой смерти (альбомы фотографий, большую часть которых он сделал вместе с ней), стали своего рода обращением к ее памяти. Первой среди книг был альбом “Марлен”, который в спешке опубликовали в декабре 1992-го, через семь месяцев после смерти маминой подруги. (В процессе работы над книгой эгоцентризм Алекса проявился в полной мере – он попросил своего ассистента Кросби Кафлина отложить свой медовый месяц на полгода, чтобы принять участие в работе над книгой. Но Кросби уже забронировал путешествие в далекое Зимбабве и поэтому, к счастью, проявил твердость и отказался.) После “Марлен” был опубликован “Кампидольо” – тонкий альбом фотографий знаменитой римской площади, спроектированной Микеланджело, где они с мамой бывали множество раз. Тексты к фотографиям писал Иосиф Бродский. Самой значительной работой тех лет была антология “Тогда” – интересный, хотя и несколько эгоцентричный альбом фотографий их с мамой общих знакомых из художественного мира. Среди них был Анри Картье-Брессон, который, увидев выставку фоторабот Алекса в 1959 году в Музее современного искусства, “по-французски торжественно поздравил меня [Алекса] и выразил свое восхищение”; Роберт Хьюс – “верный мой поклонник”; Пабло Пикассо, который был так очарован Алексом, что пригласил “приехать к нему на два-три месяца”; Ив Сен-Лоран – “человек тонкого вкуса и подлинного благородства”, который “любил Татьяну и выбирал ей платья из всех своих коллекций”; Тина Браун, “блистательный редактор журнала The New Yorker… чье восхищение моим творчеством придает мне силы”; первая жена Алекса Хильда Штурм, “белокурая богиня”, на которой он женился “как можно быстрее”, поскольку родители его были против; сама Татьяна Яковлева дю Плесси – “моя большая любовь <…> родом из мелкопоместных дворян, <…> которая восхищала и поражала меня в течение полувека”; а также Мелинда Печангко Либерман, о которой он написал: “Ее близость, смех, любовь и острый ум дарят мне волю к жизни. Она прекрасна – точеная красота, смягченная нежностью и мудростью. <…> Мелинда возглавляет большую филиппинскую семью – она строгая и щедрая тетушка. Мы можем говорить часами о жизни, которую я уже никогда не узнаю”. За этим альбомом последовала “Молитва в камне” – фотографии церквей в Италии, Франции и Греции. В этих книгах много самоповторов, но если они помогли Алексу наконец обрести баланс – сберечь связь с прошлым и направить все силы на уверения Мелинды в своей преданности, – они были изданы не зря. Утром 25 января 1994-го мой факс зажужжал и из него выползло письмо от Сая Ньюхауса. Приведу здесь основные пассажи: Я попросил Александра Либермана принять новую должность – заместителя руководителя, а Джеймса Трумана – заступить на пост шеф-редактора Сопбё Nast. <…> Алекс пришел в издательство в 1941 году и 31 год успешно выполнял обязанности шеф-редактора. <…> На новой должности Алекс будет продолжать делиться с нами своим богатым опытом. <…> Джеймс Труман станет вторым в истории Cond Nast шеф-редактором и сменит Алекса Либермана на одном из важнейших постов в американской журналистике. Я понимала, что это решение неизбежно – учитывая, как небрежно Алекс стал относиться к работе после смерти мамы. Когда пришло сообщение, он разгуливал по магазинам в Майами и уже несколько месяцев не появлялся на работе. (Как впоследствии сказала Анна Винтур: “Сай понимал, что Алекс уже отошел от дел”.) Но я боялась, что он расстроится, поэтому тут же позвонила и с удивлением услышала его бодрый голос. – Давно пора, я устал, – сказал равнодушно. – К тому же у меня останется кабинет и мои подчиненные! Я ощутила к Саю благодарность за его легендарную щедрость к давним сотрудникам: Алекс с Ньюхаусом уже давно обсуждали предстоящие перемены, и преданная команда Алекса (Кросби Кафлин, Сьюзан Питерс и Лорна Кейн) действительно оставались с ним до конца его дней. Преемник Алекса Джеймс Труман, тридцатипятилетний англичанин, сделал себе имя в знаменитом британском журнале The Face, посвященном андерграунду. Алекс ненавидел рок-музыку и всегда противился ее упоминанию в журналах Cond Nast. Но Сай Ньюхаус верил в Трумана и в 1990 году поставил его во главе нового журнала Detailes, который уже к 1993-му имел огромный успех. Это был скромный, умеренно неформальный, превосходно воспитанный человек с мягким взглядом и потрясающей эрудицией. Через несколько недель после официального объявления Трумана пригласили домой к Алексу, где его ждала двухчасовая лекция об основных проблемах издательства. Странная это была встреча – почтенный старосветский волшебник глянцевой журналистики и молодой британец, который, по его же словам, пришел в этот мир из “жестокой и агрессивной уличной культуры”. Но они тут же нашли общий язык и стали друзьями. – В тот день я вывел пять основных принципов из указаний Алекса, – рассказывает Труман. – Будь коварен, как Макиавелли. Веди себя так, как будто ты здесь хозяин, а твои коллеги – прислуга. Лесть – единственное оружие. Не тревожься, если тебе ставят препоны, – подожди, и твои противники сами увянут. Не ставь работу во главу угла, а то сойдешь с ума. (Через несколько месяцев на посту шеф-редактора Труман всерьез занялся дзен-буддизмом, а одиннадцать лет спустя уволился из Cond Nast, так как ему это “наскучило”.) Возможно, Алекс и испытал облегчение, узнав о переменах, но с 1994 года в его отношении к Cond Nast появилась некая самоуверенная надменность. Оставшиеся за ним льготы – лимузины с водителями, прислуга – казались для него теперь важнейшей составляющей карьеры. Он использовал своих сотрудников исключительно для того, чтобы они заказывали ему авиабилеты, нанимали автомобили, заказывали столики в ресторанах, и заглядывал в издательство пару раз в год, когда там печатали материал, по какой-либо причине заинтересовавший его лично. Уэйн Лоусон, литературный редактор Vanity Fair.; вспоминает об одном таком визите: Алекс пришел, когда в журнал готовили материал об импрессионистских и модернистских картинах, которые со Второй мировой войны хранились в запасниках, а теперь впервые были выставлены в Эрмитаже. – Алекс горячо участвовал в выборе картин для иллюстрации статьи, – рассказывает Лоусон. – Он хотел лично проконтролировать макет, и материал получился блестящим. Но это были отдельные случаи, и в целом Алекс уже не мог держать руку на пульсе. В конце 1990-х Анна Винтур ощутила, что он уже отошел от дел: она поставила на обложку Vogue фотографию Хиллари Клинтон, и это был исторический момент, поскольку на обложке журнала никогда ранее не было первых леди. – Когда номер вышел, он был в Майами и тут же позвонил мне в гневе, – вспоминает Винтур. – “Какты могла?! Это чудовищно, это вульгарно, она похожа на домохозяйку, где здесь гламур?” Тогда я и поняла, что он утратил нюх. Люди начали стремиться к такой информации, этот номер пользовался огромным успехом – когда Алекс узнал об этом, то позвонил мне и извинился. А вы знаете, что извиняться он не любил. В старости Алекса одолела та же напасть, что и маму в ее последние годы – его стали раздражать ошибки окружающих. Присущий ему эгоизм перешел в болезненную стадию. Гордость заменило неприкрытое, чванливое высокомерие. Он располнел, и его эго будто увеличилось вместе с телом. Через некоторое время после перемен в Cond Nast я отправилась на очередную выставку Алекса в галерею Эммериха, после чего сделала следующую запись в дневнике: К нам подошел опухший седеющий человек, напоминавший шар в человеческом облике, утративший все следы былой элегантности. <…> Как будто его постоянно подкачивают легковоспламеняющимся газом, горячим воздухом беспрестанной лести. Прошло десять лет, но Алекс помнится мне именно таким. И меня преследуют строчки из Шекспира: “Я это представленье и задумал, // Чтоб совесть короля на нем суметь // Намеками, как на крючок, поддеть”. Мама то и дело колола его воспаленное эго, постоянно напоминала, что он всего лишь очередной смертный, что мир ему ничего не должен. Теперь Татьяны рядом не было, и любящая жена уверяла, что он величайший художник современности – и личность его стала распадаться. Он стал по-детски хвалиться, какую важную роль играет в Cond Nast: во время очередных проблем со здоровьем он рассказывал налево и направо, что Айседор Розенфельд прилетел к нему в Майами на частном самолете Ньюхауса. Он воспринимал как должное, что может держать четырех подчиненных и не ходить на работу, и был не в состоянии сказать что-либо, не апеллируя к собственному величию. – Как тебе Саймон Шама? – спросил он меня как-то раз. – Мне понравились “Граждане”, – ответила я. – Много лет не читала ничего подобного. – А мне вот его читать не нужно, – сообщил он как бы иронически. – Мне он нравится, потому что он сказал Тине [Браун], что ему нравится моя новая книга. Но самоирония не работала – теперь стало ясно, что лишившись власти, он стал еще более падким на лесть. К 1997-му я чувствовала, что мы ужасно отдалились. В те месяцы, что он жил в Нью-Йорке, я заходила лишь ненадолго, и мы всего два-три раза в год ужинали с ним и Мелиндой. Мне бы хотелось чувствовать, как раньше, что он любит меня. Чтобы восстановить утраченную связь, как-то во время ужина я предложила ему устроить прием в честь выхода новой книги – “Молитва в камне”. Впервые за много лет он горячо меня обнял. Я снова стала милой Фросенькой! Не знаю другого человека, который бы больше любил восхваления и так по-детски нуждался бы во внимании. Сколько бы ему ни льстили, я чувствовала, что он погружается в стариковскую печаль, ощущает, что жизнь осталась позади. – Скучаю по своему столику в Four Seasons, – сказал он мне грустно через пару лет после того, как Джеймс Труман занял его пост. Я понимала, что скучает не по еде и обслуживанию, а по элитному столу в центре зала, за которым было позволено сидеть всего нескольким важным шишкам нью-йоркской прессы – он царил за этим столом несколько раз в неделю, а все, кто проходили мимо, приветствовали его, как главаря мафии. После смерти Татьяны Алекс стал еще более капризным и переменчивым. Весной 1997-го, когда мы обедали в его новом любимом ресторане “Даниэль”, он объявил, что в Майами стало “скучно”. Погода была не такой, как он надеялся, делать было нечего. Прожив там четыре года, Либерманы подумывали продать квартиру и купить что-нибудь в пригороде Нью-Йорка. Разумеется, не успев еще выставить квартиру на продажу, они нашли себе домик на Лонг-Айленде – громоздкое помпезное здание в Сэндс-Пойнт, – заняли у Сая миллион долларов и купили его. (“Зачем вы купили этого монстра?” – спросил Розенфельд. “Так хотела Мелинда”, – ответил Алекс.) Когда я впервые пришла в этот дом, то немедленно услышала в голове мамино злорадное хихиканье – входная дверь здесь была сделана из резного дуба, кухонные столешницы отделаны золотом. Алекс оправдывался тем, что Сэндс-Пойнт был для него первым местом, где мы с ним и мамой отдыхали после переезда в Америку. Действительно, когда я ехала туда, то всё время оглядывалась в поисках места, которое напомнило бы мне обветшалый домик, приютивший нас в то лето. Либерманы наслаждались новым домом всего год. Осенью 1988 года Алексу стало совсем плохо. Вероятно, на его хрупкое здоровье – у него вновь проявился рак простаты, осложненный диабетом, проблемами с сердцем и хронической анемией – повлиял и тяжелый шок. Весной того же года издательство Cond Nast готовилось к переезду с Мэдисон-авеню, где оно располагалось четверть века, в новое здание на Таймс-сквер. Алексу сообщили, что в новом здании у него не будет кабинета – вместе с подчиненными Лео Лермана, который скончался четырьмя годами ранее, его ассистентов разместили в тесной комнатушке на Сорок четвертой улице. Хотя он почти не бывал в своем кабинете в последние годы, известие о том, что ему не нашлось места в новом здании, повергло Алекса в тяжелую депрессию. Он так гордился своим положением в издательстве, что воображал себя неуязвимым. – Лучше бы сразу вытащили меня из конюшни и пристрелили, – сказал он Мелинде, услышав новости. Неужели он действительно полагал, что в эпоху, когда все решения принимались из соображений экономии, отставному полуинвалиду выделят столько же места, сколько тем, кто действительно работал в компании? В этом случае его самонадеянность, подпитываемая постоянной лестью окружающих, ввела его в заблуждение. Когда мы осенью того же года приехали в Нью-Йорк, он встретил нас в инвалидном кресле и казался рассерженным на весь мир. Алекс смотрел так сердито, как будто наше присутствие было совершенно неуместно. Неужели паранойя заставила его поверить, что мы в чем-то его подвели? Или же для его гордости было невыносимо, что его прежняя “семья” видит его в таком жалком состоянии? Вслед за нами пришла Доди. Как же он любил свою новую компанию! Увидев ее, Алекс заставил себя слабо улыбнуться. Большую часть зимы и весны он пробыл в Майами, а летом 1999-го Мелинда привезла его в Нью-Йорк на осмотр к доктору Розенфельду. К тому времени Алекс принимал столько лекарств, что спал двадцать часов из двадцати четырех. Порой он не мог даже поесть самостоятельно и его приходилось кормить с ложечки. Весь день Мелинда периодически шлепала его по бедру и восклицала: “Зайка!”, чтобы он не проспал круглые сутки. Именно в тот раз я дождалась, пока Мелинда выйдет по делам, и в последний раз попыталась добиться у него правды о письмах великого поэта. – Алекс, дорогой, где письма? – Где-то там, – ответил он и махнул рукой, после чего снова уснул. Это были одни из последних слов, которые я услышала от него в Нью-Йорке. На следующий день они улетели в Майами, где он стал дожидаться смерти. А несколько дней спустя я вернулась в их квартиру и нашла свое наследство – письма Маяковского маме, после чего стала планировать эту книгу. Пока я писала ее, мне пришла в голову еще одна версия того, почему Алекс не хотел отдавать мне письма Маяковского: помимо его желания остаться в истории единственной любовью легендарной женщины, он мог спрятать их еще и потому, что они представляли изрядную ценность. Когда мама умерла, больше всего меня потрясло превращение некогда щедрого и открытого человека в мелочного скупца. Ему хотелось оставить себе всё ценное, что принадлежало маме, невзирая на то, что это предназначалось мне и сколько это значило для меня. Именно поэтому он не отдал мне ничего из дома на Семидесятой улице. А я в то время слишком горевала по дому, чтобы думать о его содержимом; но когда поняла, что произошло, – пришла в ярость. Та же скупость толкнула его на еще более низкий поступок: за портретом мамы хранилось завещание Алекса, по которому мне не досталось ни одной работы Яковлева – всё перешло его вдове. И еще одно доказательство его бесчувственности: наследующий день после смерти мамы (она оставила мне всё свое имущество) Алекс попросил меня принести поднос с ее украшениями, чтобы выбрать подарок для Мелинды в знак благодарности. Когда я поставила поднос ему на кровать, он тут же указал на платиновую брошь с бриллиантами, которую я помнила с детства. Это не только был самый ценный предмет в коллекции – это был подарок моего отца, Бертрана дю Плесси, которому он достался от его матери. В тот день мне слишком хотелось ободрить и порадовать Алекса, и я не стала протестовать. Только несколько месяцев спустя я подумала – да как он посмел? И как я позволила своему наследству, этому бесценному напоминанию о своих родителях, ускользнуть сквозь пальцы? В такие моменты я думала – да существует ли вообще “настоящий Алекс”? Или же этот человек – всего лишь пустая, ледяная планета, которая вращалась вокруг женщин-солнц, отражая их привычки и характеры? В конце лета 1999-го здоровье Алекса стало ухудшаться еще быстрее. Мелинда сообщила, что ему пришлось обзавестись аппаратом суточного мониторинга кардиограммы, по которому она периодически стучала, чтобы разбудить его. Мне ужасно хотелось его увидеть, но она отговаривала меня, справедливо полагая, что мое появление будет для него шоком, потому что он поймет, что конец близок. Я бы всё отдала за возможность подержать его за руку, заглянуть ему в глаза – даже если бы я ничего не увидела во взгляде. Но мне оставалось только воображать его последние месяцы в Майами – как он ездит на своем электрокресле, засыпает, пока Мелинда кормит его, как она везет его к окну, за которым простирается Бискейн залив. Я звонила ему каждый день, кричала в трубку: “Как ты?”, а он шелестел в ответ, словно из-за пелены тумана: всё хорошо. Мелинда сдержала свое слово и сказала мне, когда стало ясно, что конец близок. Она позвонила мне в среду, на второй неделе ноября. Плача, она сказала, что не уверена, выйдет ли он уже из больницы, так что не займусь ли я некрологами, она совсем не знает, что делать в таких случаях, ему осталось не больше двух недель. Я бросила всё и помчалась в Майами и в восемь вечера уже была в больнице. Он неподвижно лежал на койке, до прозрачности бледный, на лице его покоилась кислородная маска. Я присела у изголовья, взяла его за руку, и его усы пошевелились – он взглянул на меня и отвернулся. Судя по его виду, он мог думать что угодно: “Господи, только не это” или же: “Какое счастье, что она приехала”. Полчаса спустя зашел врач и, чтобы оценить его состояние, спросил: – Кто вас сегодня навещает? – Моя дочь, – прошептал Алекс. Следующие два дня он проспал и лишь иногда кивал нам в ответ или чуть шевелил руками. Накануне моего отъезда он вдруг посмотрел на меня и с усилием спросил: – Ты куда-нибудь вчера ходила? Этот вопрос он задавал мне каждое воскресное утро, когда я была еще подростком и мы жили на Семидесятой улице. – Нет, милый, я была здесь, – ответила я. – Мне никуда не хотелось. – Спокойной, – прошептал он, закрывая глаза. Возможно, он хотел сказать: “Спокойной ночи”. На следующий день нам казалось, что он чувствует себя лучше, что он пришел в сознание, и на мгновение я увидела милого доктора Джекила, заботливого Алекса моего детства. Вскоре после полудня он открыл глаза, посмотрел на меня и спросил, словно мне было десять лет: – Фросенька, ты уже пообедала? – Спасибо, как раз начала, – ответила я и показала ему полную тарелку. – Вкусно? – прошептал он чуть слышно. И в этот момент мне вспомнился первый день, когда я была вверена его заботе, – то утро на юге Франции в 1940 году, когда я бродила по его дому, голодная, грустная, и он вылетел из кухни с миской хлопьев и яичницей – всё это он раздобыл на черном рынке. – Вкусно тебе, Фросенька? – спрашивал он, пока я ела. Сколько личин он сменил с того утра – трудолюбивый молодой беженец, напористый редактор-эмигрант, светский лев, лучше-всех-в-городе-одетый мужчина, любящий отец семейства, маститый журналист, озадаченный вдовец, а теперь – умирающий пенсионер, супруг последней его повелительницы. А сколько личин сменила я: послушный печальный ребенок, дерзкий подросток, эмансипированная журналистка, невеста-трудоголик, успешная писательница, хрупкая мать семейства. Но при звуках этого вопроса: “Ты поела?.. Тебе вкусно?” – время растворилось, повинуясь нашему общему, только нашему воспоминанию. В тот далекий 1940 год нашей памяти мы вновь стали любящим отцом и голодным ребенком, которых свели вместе силы, разрушившие судьбы наших поколений, и нам вот-вот предстояло бежать от величайшей трагедии в истории человечества. И этот застывший момент впитал и растворил все обиды, которые стояли между нами, и мы дали друг другу лучшее, чем могут обменяться родители с детьми – мы простили друг друга. Он закрыл глаза и снова заснул. Вокруг снова был 1999 год. Через полчаса мне надо было ехать в аэропорт, и я сидела у его изголовья, надеясь, что он узнает меня, и понимая, что этого не произойдет. Когда я в последний раз поцеловала его, лоб у него был чистый и нежный – будто принадлежал не обычному человеку, а заколдованному спящему рыцарю, которого я встретила в волшебном лесу, или же свежевыкупанному ребенку, которого я уложила в постель. Десять дней спустя Мелинда позвонила нам посреди ночи. Я снова полетела в Майами – настало время похорон. Он лежал на чем-то вроде носилок, укрытый до подбородка зеленым одеялом – такой серебристый, по-гречески прекрасный. Голова его была запрокинута – так хрупко, так благородно, что он напоминал воина. Мне никак не удавалось отделаться от этого образа – воин на поле боя, – в каком-то смысле он был героем, потому что прожил больше жизней, чем кому-либо из нас удалось и за три цикла реинкарнации, и всю свою жизнь сражался – за себя, маму, меня, а порой и за других. Да, он выглядел благородно – так, как хотел, чтобы выглядели его творения. Любовь моего детства, наставник мой, защитник, я наконец-то плакала по тебе. Я коснулась рукой твоего мраморного лба, еще не ледяного, а лишь слегка прохладного, и вспомнила, каким он был горячим, нежным, пульсирующим, когда я поцеловала тебя десять дней назад, и вдруг как никогда ярко ощутила – как бесценно наше дыхание, как уникален каждый человек. Я перекрестила тебя и вышла. Я была ребенком, и ты подарил мне жизнь, и теперь мне надо было жить. Эпилог Сейчас июнь 2004 года, и мне так много надо сделать на маминой могиле! Надо подрезать рододендроны, которые я посадила больше десяти лет назад, подкормить их после холодной зимы и, возможно, посадить еще вечнозеленых растений по обе стороны от камня, на котором выбито ее имя: Татьяна Яковлева дю Плесси Либерман, 1906–1991. От моего дома до нее меньше километра, если смотреть по карте, и около полутора километров, если идти пешком. В хорошую погоду можно срезать путь через поле – и вот она, под миртовым кустом, в северо-западном углу нашего деревенского кладбища. Ее конфуцианской, приземленной душе подходит это прелестное место с чудесным видом, неподалеку от дома, который она так любила, там, где ее часто навещают любимые. Мы выбрали это место для нашей семьи несколько десятков лет назад. С тех пор как я побывала на могиле отца, смерть не пугала меня – приходя на кладбище, мы с Кливом порой спорили, какие надгробия хотели бы для себя. Мама ушла первой и ждала нас. Найдя подходящий камень, Алекс заказал на нем надпись – ее имя и годы жизни, его имя и год рождения. Через несколько лет мы выбили на этом камне год его смерти. После того, как я подрежу и подкормлю рододендроны, надо будет прополоть мирт, что вовсе не легко – надо выдернуть всю траву, не повредив деликатные корни растения. Я фанатично соблюдаю порядок у нее на могиле – так же, как она когда-то следила за своей внешностью. Я прихожу сюда не только на Рождество, в дни рождения или чтобы подрезать растения – я навещаю маму перед каждым серьезным событием в жизни: перед дальним путешествием, чтобы она благословила меня, в тяжелые минуты, чтобы попросить совета, когда рождаются внуки – чтобы разделить радость. Внимательный читатель уже, наверное, думает: почему же я говорю о том, что навещаю маму, а не их обоих? Я объясню: хотя на камне стоят годы жизни Алекса в честь их полувекового брака, это был символичный жест уважения с моей стороны. Его прах – у его третьей жены, и она повсюду возит его с собой. В Нью-Йорке, например, она ставит урну на комод у кровати в окружении церковных свечей и свежих цветов (как это принято у нее в стране). Но с тех пор как Алекс умер, ей нет покоя, и ему приходится много путешествовать: он упакован в аккуратный чемоданчик, который вызывает массу вопросов у службы безопасности в аэропортах, и ездит с ней повсюду: в Майами, на Филиппины, в Атлантик-Сити, в Лас-Вегас и куда только не занесет ее судьба. Превосходная судьба для останков скитальца! В душе он был цыганом, вечным изгнанником, и теперь он всегда в пути – ни к чему не привязан, нигде не укоренен, и судьбу его, как и при жизни, определяют женские капризы. Он вездесущ и вездеслед, проклятый Алый Первоцвет! Но поскольку могилы – это символические места упокоения бессмертных душ, а не бренных тел, то Алекс покоится здесь же, на коннектикутском кладбище, поскольку тех, чьи судьбы были так прочно переплетены, как их с мамой, невозможно разлучить какой-то там смертью. Поэтому я говорю иногда, что это Их могила, и теперь я обращаюсь к Ним обоим. Какой пример Вы мне подали, говорю я Им, – несмотря на Вашу трусость, ненадежность, надменность, какую силу и практичность, какую волю к жизни Вы мне подарили! Теперь Вы под моей опекой, Вы стали моими послушными детьми, и воспоминания о Вас теперь повинуются моей воле – я могу стереть все темные места и сохранить в памяти только лучшее о Вас: Вашу щедрость, жажду счастья, Ваше эпическое гостеприимство. Спасибо Вам, любимые, говорю я Им, я никогда не устану благодарить Вас. В декабре 2004-го мой лучший друг, мой дорогой товарищ, мой любимый муж, с кем мы прожили сорок семь лет, Клив Грей присоединился к моим родителям на коннектикутском кладбище – в месте, которое он выбрал для нас четверть века назад. Весной, когда земля очнется, у него тоже будут цвести рододендроны и мирт, его укроет надгробный камень и моя неусыпная забота. Навещая могилы близких, я постепенно поняла, что здоровая скорбь напоминает постепенное познание реальности; что как бы мы ни горевали, нам не следует желать возвращения близких – нам надо освободить в душе место, где мы будем любить их издалека. И главное, что я поняла – мы лишь частично можем осознать, что значили их жизни и что значили наши на их фоне. Но это осознание важнее всего остального: прежде, чем стать собой, нам, возможно, потребуется узнать их жизнь. Могила родного человека – это бесценно, особенно если в юности у вас их не было. Теперь мои Хранители покинули меня, и, подрезая рододендроны, я размышляю, что их нет, а я – единственная берегу их память. Груз воспоминаний и знаний лежит на моих плечах, и только мне решать, что с ними делать. Как это горько, как легко – наконец-то оказаться одной. Благодарности В первую очередь я хочу поблагодарить Энн Годофф, моего издателя и редактора, – ее энтузиазм вдохновлял и поддерживал меня, и она была моим наставником на протяжении всего пути. Так же я благодарна Лизе Дарнтон (издательство Penguin Press) – бесконечно терпеливому и увлеченному редактору.