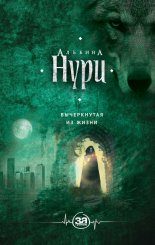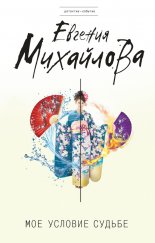Последний год Достоевского Волгин Игорь
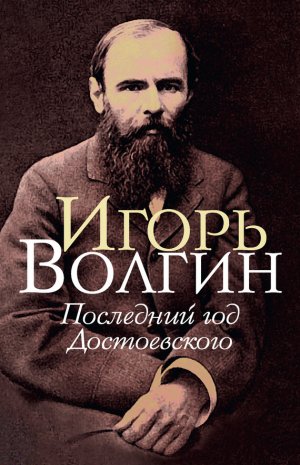
Вернёмся, однако, к последним дням этого года – к знакомству Достоевского с Микулич.
Их литературной беседе предшествовало занятие не вполне литературное: они уселись играть в дурачки.
«Играл он, как и следовало ожидать, не как все люди, а по-своему. Он принимал и принимал всё, чем бы я ни пошла, и набрал такое множество карт, что едва держал их в руке».
Они играли долго, и он, хмурясь, приговаривал: «Но уж если только вы меня обыграете, я вам этого не прощу, вовеки не прощу». Он кашлял. Его партнёрша была простужена и тоже покашливала. Он заметил: «Вот мы с вами сидим да кашляем, а они вон, счастливые, не кашляют. Только ваш-то кашель пройдёт, а уже мой не пройдёт. Не дай вам Бог такого кашля!» – «Но ведь вас же лечат?» – «Лечить-то лечат, да ведь не всё и вылечишь. Ну-с, вам ходить».
Затем, уже после игры, рассматривая её «довольно бесцеремонно и внимательно», он спрашивал: «А вы капризны?» – «Вы непостоянны?» – «Вы добры? великодушны?» – «А вы набожны? Вы много молитесь? Как вы молитесь?» – «А зло помните? Или прощаете? Как вы прощаете?..»
Он не «ведёт речь обиняком», не прощупывает осторожно незнакомого ему собеседника, он ставит свои «вопросные пункты» прямо (слишком прямо), и ответить на них откровенно чрезвычайно затруднительно. Но, может быть, это и занимает его: как отреагирует застигнутый врасплох вопрошаемый, какова будет его не подготовленная заранее самооценка. При этом вопрошающего интересует не второстепенное, а главное, глубинное, относящееся к сути.
«Я ещё мало себя знала, – говорит Микулич, – да никогда об этом и не думала, но старалась отвечать как можно правдивее и короче».
«Ну, не знаю, как дальше, – сказал Достоевский, – а на первый раз вы производите самое приятное впечатление». Он простился с ней дружески, промолвив: «Будьте здоровы»[1062] (Анна Григорьевна замечает, что он не любил, когда ему говорили «прощайте», и всегда отвечал: зачем «прощайте», лучше – «до свидания»[1063]), пожал ей руку и между прочим осведомился, когда её свадьба. «Я не сразу и вспомнила: “Свадьба?.. В январе, 30-го января”».
– Ну, дай вам Бог!..
И он отошёл к Страхову, который сонно сидел, скучая без собеседника…»[1064]
30 января (день её свадьбы) гроб с телом Достоевского стоял в его квартире в Кузнечном переулке.
В конце 1880 года люди, видевшие Достоевского, не предполагали, что они видят его, может быть, в последний раз.
30 ноября в зале Кредитного общества он читает в пользу недостаточных студентов Петербургского университета (чистый сбор от этого вечера превысит 1800 рублей). Как помним, его сестра Варвара Михайловна сообщила ему, что читала в «Современных известиях» «восторженную похвалу» какому-то из его выступлений. Полагаем, что она имела в виду следующий текст:
«Вечер открылся чтением нашего талантливого романиста-психолога, уважаемого Фёдора Михайловича Достоевского. Трудно и даже невозможно передать словами впечатление, произведённое на публику мастерски-художественным, живым чтением романиста эпилога из своих “Карамазовых”. То стоны и вопли, то слёзы радости, то страшная ненависть и христианское смирение, то, наконец, искреннее раскаяние слышались в голосе лектора, сумевшего неподражаемо передать всё психологическое движение человека. Нечего, конечно, и говорить о том, что г. Достоевский удостоился самых шумных оваций; ему поднесли лавровый венок…»[1065]
В первых числах декабря он получает письмо от неугомонного Вейнберга: тот пишет, что Достоевского «буквально умоляют» принять участие в вечере в пользу Бестужевских курсов, «так как без Вас он положительно немыслим в смысле сбора». Свою просьбу Вейнберг подкреплял поэтически (начало его стихотворения уже приводилось выше: см. с. 234):
- …Об этом
- Я Вам писал уже, горя
- Надеждой нас привлечь. Ответом
- Мне было: раньше декабря
- Никак нельзя. И вот я снова
- Мольбы к Вам обращаю слово![1066]
14 декабря он выступил перед бестужевками. В первом отделении он прочитал «Пророка», а его собственный рассказ «Мальчик у Христа на ёлке» почему-то прозвучал в исполнении Григоровича (странно, что автор доверил свой текст другому). Во втором отделении он вместе с тем же Григоровичем прочитал сцену из гоголевской «Женитьбы» (причём принял на себя роль Подколесина, а Григорович – Кочкарёва).
Да, все замыкалось, и концы сходились с концами. С Григоровичем они познакомились ещё в Инженерном училище. В 1845 году они жили некоторое время под одной крышей – в доме на углу Владимирской и Графского переулка. Сосед Григоровича по квартире писал тогда своих «Бедных людей». Просиживая дни и ночи у себя в комнате, он, как вспоминал через сорок с лишним лет его сожитель, «слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать». Тем не менее именно Григорович стал первым слушателем первой повести Достоевского («“Садись-ка, Григорович; вчера только что переписал; хочу прочесть тебе; садись и не перебивай”, – сказал он с необычною живостью»)[1067].
Позднее они никогда не будут особенно близки – ни в личном, ни в литературном отношениях. (Однажды, без малейших, впрочем, оснований, Достоевский приревновал Анну Григорьевну к представительному, барственному, светски-обходительному «французу» – мать Дмитрия Васильевича была француженкой.) И вот теперь, незадолго до конца, судьбе было угодно вновь свести двух приятелей юности: возможно, в последний раз.
И. И. Попов вспоминает:
«…поздней осенью, когда воздух Петербурга был пропитан туманной сыростью, на Владимирской улице я… встретил Ф. М. Достоевского вместе с Д. В. Григоровичем… Контраст между обоими писателями был большой: Григорович, высокий, белый, как лунь, с моложавым цветом лица, был одет изящно, ступал твёрдо, держался прямо и высоко нёс свою красивую голову в мягкой шляпе. Достоевский шёл сгорбившись, с приподнятым воротником пальто, в круглой суконной шапке, ноги, обутые в высокие галоши, он волочил, тяжело опираясь на зонтик…
Я смотрел им вслед. У меня мелькнула мысль, что Григорович переживёт Достоевского»[1068]. (Попов оказался прав: Григорович умрёт почти девятнадцатью годами позже.)
14 декабря они, не ведая своих сроков, стояли на сцене Благородного собрания. Они произносили текст того самого писателя, который был кумиром их общей молодости.
«Женитьба» – пьеса комическая. Достоевский (мечтавший, как помним, сыграть Отелло) в роли Подколесина был, очевидно, забавен.
Это было его последнее появление перед широкой публикой.
В последние месяцы 1880 года он не избегает и великосветских салонов. Летковой-Султановой довелось как-то наблюдать его в этой обстановке.
В ярко освещённой зале (наполненной «нарядными дамами и блестящими мундирами») он стоял во фраке («слишком широком») «и слушал с напряжённым вниманием высокую стройную девушку, немного склонившуюся к нему, так как он был значительно ниже её». Он показался Летковой-Султановой «ещё меньше, худее и бледнее, чем прежде. И так захотелось увести его отсюда, – продолжает достаточно враждебная этому миру воспоминательница, – от всех этих ликующих людей, которым, думалось мне, не было никакого дела ни до литературы вообще, ни до Достоевского в частности. Но сам Фёдор Михайлович, очевидно, чувствовал себя вполне хорошо; к нему подходили единомышленники (которых здесь было большинство), жали ему руки; дамы, всегда заискивающие у «знаменитостей», говорили ему любезности, хозяйка не скрывала своей радости, что у неё в салоне – сам Достоевский».
«…Я была поражена, – говорит Леткова-Султанова, – его страдальческим видом, может быть, оттого, что обстановка, в которой я встретила его, была необычайно праздничная».
Да, он чувствует себя «вполне хорошо», но сторонняя наблюдательница (она попала в этот дом в общем-то случайно) ощущает его человеком не отсюда, не от мира сего (именно не от этого мира): «Фёдор Михайлович спокойно, с достоинством слушал, кланялся, болезненно улыбался и точно всё время думал о другом, точно все хвалебные и льстивые речи шли мимо него, а внутри шла какая-то своя большая работа»[1069].
Этот мир чужд ему не только в силу его собственного социального положения и житейских привычек, он чужд ему ещё и как писателю: недаром (не без иронии замечает Штакеншнейдер) «знакомство с большим светом всё-таки не научит его рисовать аристократические типы и сцены, и дальше генеральши Ставрогиной в “Бесах”, он, верно, в этом отношении не пойдёт…»[1070]
То, что двадцатичетырёхлетняя курсистка (и будущая писательница) наблюдала в доме маркизы Паулуччи, не было светским успехом Достоевского, вернее, не было успехом преимущественно светским. Само появление автора «Карамазовых» в высшем свете, в гостиных петербургской аристократии – лишь отголосок того стихийного, «низового» признания, которое в последние два-три года подняло его на самый гребень общественной волны. Он – в моде. И высший свет, как всегда, чутко реагирует на эту очередную моду, не подозревая о том, что силою обстоятельств он вынужден рассматривать предмет своей благосклонности именно в высшем свете, что на сей раз внимают не переменчивому настроению минуты, а уже ощутимому дыханию вечности.
В своём дневнике Штакеншнейдер размышляет о причинах столь неожиданной популярности. Она вспоминает, как «лет двадцать тому назад», когда в Петербурге впервые стали устраиваться литературные вечера, Шевченко, например (он только что получил разрешение жить в Петербурге), «оглушали рукоплесканиями и самыми восторженными овациями, однажды довели его ими до обморока. Достоевскому же не выпадало на долю ничего! Его едва замечали и хлопали заурядно, как всем, меньше, чем всем»[1071].
Автор дневника решительно не согласен с теми, кто склонны нынешнюю славу Достоевского приписать его каторге. Ведь тогда, в начале шестидесятых годов, он только-только вернулся из Сибири, он уже был автором «Униженных и оскорблённых» (а чуть позже – и «Записок из Мёртвого дома»), но публика тем не менее оставалась холодна.
«Тогда, – подтверждает эти наблюдения П. Д. Боборыкин, – автор “Карамазовых” хоть и стоял высоко, как писатель… но отнюдь не играл роли какого-то праведника и вероучителя, как в последние годы своей жизни»[1072].
Елена Андреевна полагает – всё дело в том, что у Достоевского не было тогда своей «партии» в университете. Но резонно спросить: разве сейчас, в 1880 году, среди публики появилось нечто такое, что можно было бы именовать «партией Достоевского»? Увы, такой «партии» нет. Ему рукоплещут и к нему прислушиваются люди самых различных, часто диаметрально противоположных, убеждений.
Славу Достоевскому, продолжает Штакеншнейдер, принесли не каторга и даже не его романы, «по крайней мере не главным образом они», а «Дневник писателя». Именно «Дневник» «сделал его имя известным всей России, сделал его учителем и кумиром молодёжи, да и не одной молодёжи, а всех, мучимых вопросами, которые Гейне назвал проклятыми»[1073].
Здесь Елена Андреевна высказывает удивительную истину.
В самом деле: ни один из романов Достоевского не вызвал такого ощутимого общественного резонанса, такого живого и непосредственного читательского отклика, как формально «нехудожественный» публицистический «Дневник писателя». Только после того, как автор «Преступления и наказания» поставил себя в прямые отношения с читающей Россией, только после того, как он заговорил с ней от первого лица и попытался разрушить вечную преграду, отделяющую писателя от читателя, – только тогда, неожиданно для себя самого, он оказался в фокусе жгучего общественного интереса.
Очевидно, мы имеем дело с одним из интереснейших парадоксов русского общественного сознания[1074].
Трём российским гениям – Гоголю, Достоевскому, Толстому – в какой-то момент становится мало одной литературы. Они вдруг начинают стремиться к тому, чем писатель как будто бы вовсе не обязан заниматься: они желают установить новое соотношение между искусством и действительностью. Они жаждут воссоединить течение обыденной жизни с её идеальным смыслом, сделать этот смысл мировой поведенческой нормой. Иначе – придать самой действительности новый образ. «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголя, публицистика позднего Толстого и, наконец, «Дневник писателя» – всё это (в разной, разумеется, мере) и есть реализация этого неодолимого стремления.
Это прорыв к читателю – «сквозь» литературу.
Для Гоголя, а затем для Толстого и Достоевского самым главным становится то, что, как они полагают, «больше» литературы: жизнетворчество. Их высшая цель – изменение самого состава жизни, новое жизнеустроение.
Аудитория 1880 года воспринимала Достоевского в качестве человека, принявшего на себя эту вселенскую миссию. «Учительское» (и, если угодно, «пророческое») обладало в глазах этой аудитории большей значимостью, нежели «чисто писательское». Правда, поклонники Достоевского навряд ли сумели бы исчерпывающе ясно сформулировать, чему же, собственно, хочет научить их автор Пушкинской речи (будущим последователям Толстого ответить на аналогичный вопрос значительно легче). Но они, слушатели и зрители, отчётливо различали «указующий перст, страстно поднятый». Причём – и это очень существенно – перст, направленный не к промежуточным, а к конечным, отдалённейшим мировым целям, к той запредельности, где, по известному пророчеству (не случайно вспоминаемому Иваном Карамазовым в его разговоре с Алёшей), волк должен был возлечь рядом с ягнёнком. Достоевский как бы воплощал в себе то идеальное мировое начало, на которое столь отзывчивы сокровенные струны русского национального духа. Его порыв к мировому совершенству не мог не вызвать ответной волны – искренней, горячей, благодарной.
В первых числах января 1881 года Орест Миллер писал в газете «Неделя»: «Кого, наконец, – если обратиться не к профессорам, а к писателям – продолжает особенно любить молодёжь, как не Ф. М. Достоевского, несмотря на то, что его давно преследует ярою бранью значительная часть так называемой “либеральной” прессы. Молодёжь (по крайней мере у нас здесь) продолжает буквально носить Достоевского на руках, как это недавно произошло на вечере у студентов-технологов, произносивших при этом из его Пушкинской речи: “дешевле не помиримся”…»
«Дешевле не помиримся» – обращённая на себя цитата: «Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастье, чтоб успокоиться: дешевле он не примирится…»
«Он», – говорил Достоевский. «Мы», – отвечали ему его современники, как бы игнорируя тончайшую самоиронию, заключённую в этом пассаже. Счастье (подлинное счастье) не может быть, по их представлению, ни личным, ни даже «национальным»: только «всемирным».
Как и Штакеншнейдер, О. Миллер размышляет о причинах поздних триумфов Достоевского: «…это объясняется не столько силой его дарования, сколько качествами его характера: способностью говорить всегда откровенно и по всем направлениям смело, не заботясь о том, что об этом скажут. Молодёжь приветствует чутким сердцем всё прямое и непоклонливое и брезгливо сторонится от всего вилявого и межеумочного, обессиленного и обезличенного девизом: “и нашим, и вашим”. Наша пресса, – добавляет О. Миллер, – мало обращает на это внимание: напротив, она по большей части умалчивает даже о таких фактах, как совершенно выдающиеся овации Достоевскому всякий раз, что он выступает публично, – овации, в которых всего более участвует учащаяся молодёжь»[1075].
Эти «совершенно выдающиеся овации» отмечаются почти всеми современниками: они сильно поразили их воображение. «И вдруг, – вспоминает чрезвычайно плодовитый, но от этого не избежавший забвения писатель А. В. Круглов, – опальный Достоевский, которого травило “Дело” с нахальством и грубостью хитровца, сделался общим кумиром, его имя стало произноситься с благоговением»[1076].
В чём причина подобных метаморфоз?
За несколько месяцев до цареубийства 1 марта, в канун ещё никем не предчувствуемой – почти четвертьвековой – эпохи политического безвременья, в России нашёлся человек, верящий в такое историческое решение, которое могло бы отвратить кровавую развязку (последняя неизбежно воспоследовала бы в результате победы любой из противоборствующих сил). Этот намёк, это дуновение призрачной, но жгучей надежды властно привлекало к автору Пушкинской речи смятённые умы и сердца. То, к чему «клонил» Достоевский, обреталось далеко за пределами обыденной жизни, сама обыденность которой, казалось, не оставляла никаких иллюзий. Но чем неосуществимее её идеал, тем могущественнее его завораживающая сила.
Внутренняя духовная «революция» противополагалась Достоевским революции политической – как альтернатива. Однако в такой же степени она являлась альтернативой и политической реакции.
В речи А. Н. Майкова, посвящённой памяти Достоевского, сказано: «После кликов, рукоплесканий и венков, которыми удостаивали его на публичных чтениях, опять он говаривал: “Да, да, всё это хорошо, да всё-таки главного не понимают!”»[1077].
Что же было главным?
Когда он писал, что «вся Россия стоит на какой-то окончательной точке, колеблясь над бездной», он предупреждал не об одной, а о двух смертельных опасностях. Ибо для него любая развязка, не совпадающая с решением нравственным, чревата грозными и непредсказуемыми последствиями. Террор «сверху» ничуть не лучше террора «снизу»: торжество любой из этих крайностей означает падение и гибель. Он в одинаковой степени страшился этих двух бездн; он горячо верил, что у России достанет сил пройти по самому краю пропасти, не сорвавшись в зияющую пустоту. Нравственный выбор должен был, по его мысли, стать выбором историческим.
Боль страны отзывалась в нём собственной болью. Может быть, именно потому так высок был его моральный авторитет.
В своих воспоминаниях А. В. Круглов приводит следующий эпизод:
«Я шёл по Невскому с медиком. Навстречу нам попался на извозчике Достоевский. Медик быстро, раньше меня, снял фуражку.
– Вы разве знаете Фёдора Михайловича? – спросил я.
– Нет, но что же такое? Я не поклонился ему, а обнажил голову перед ним, как я это сделал и в Москве, проходя мимо памятника Пушкину»[1078].
Он дожил и до этого. Незнакомые люди приветствовали его на улице (как позднее – Толстого): в их глазах он был достоянием национальным. Но сам он, занимающий столь многие умы, окружённый всеобщим вниманием, почти поклонением, сам он по-прежнему одинок.
30 октября ему исполнилось 59 лет.
26 ноября Анна Григорьевна пишет его брату Андрею Михайловичу: «…благодарю Вас от всего сердца, что Вы вспомнили день рождения Фёдора Михайловича. Он был очень доволен, получив Ваше письмо: из всех его родственников только Вы и Ваши дети поздравили его в этот день». Никто из других многочисленных его родных «даже письмом не подумали об нём вспомнить, и это видимо огорчило Фёдора Михайловича».
Его последний день рождения прошёл незамеченным – даже в родственном кругу.
В том же письме Анна Григорьевна жалуется на «адскую работу» по читке корректур отдельного издания «Карамазовых», говорит о семейных неубывающих хлопотах. «А там подписка на “Дневник”… а там издание “Дневника” и т. д., бесконечная и невозможная работа, а что грустно – что и в результате ничего не видно. Как ни бейся, как ни трудись, сколько ни получай, а всё при здешней дороговизне уходит на жизнь, и ничего-то себе не отложишь и не сбережёшь на старость… Право, я хочу уговорить Фёдора Михайловича переехать куда-нибудь в деревню: меньше заработаем, зато и меньше проживать будем, да и работать меньше придется, жизнь пригляднее станет, в отчаяние не будешь приходить, как теперь»[1079].
- …Давно, усталый раб, замыслил я побег
- В обитель дальную трудов и чистых нег…
Покинуть Петербург, уехать в деревню, освободиться от тягостных придворных и светских уз – таково заветное желание Пушкина, неосуществившаяся мечта его последних лет. Проекты эти не вызывали особого энтузиазма у его молодой супруги. Анна Григорьевна, напротив, сама готова проявить инициативу – и отправиться в миротворящую деревенскую глушь.
Но вот вопрос: смог бы Достоевский исполнить это, очевидно, всерьёз занимавшее их обоих намерение? Достало бы у него сил, а главное, желания решиться на подобный шаг?
Он, с головой погружённый в текущее, в «злобу дня», готовый немедленно отозваться на неё, – и в своих романах, и в «Дневнике писателя»; он, только что вышедший из своего разночинного, «углового», достаточно уединённого мира на путь позднего и столь волнующего его признания; он, вхожий в салоны высшего света и даже в Аничков; наконец, он, собравшийся вновь ринуться в бурные волны журнальной борьбы – смог бы он удовольствоваться завидной участью олимпийца, этакого мелкопоместного российского Цинцинната?
Вообразить это очень нелегко. Известно, что поэты рождаются в провинции, а умирают в Париже.
Правда, некоторым современникам являлись порой мысли, весьма схожие с теми, кои высказывала Анна Григорьевна. 5 октября 1880 года П. Д. Голохвастов (историк и литератор) писал Страхову: «Каким чудом живёт Достоевский в Петербурге? Как он выносит Петербург? Как его не тянет – если уж нельзя в деревню – так в Москву, в Россию, всё-таки?..»[1080]
И всё же Анна Григорьевна и Голохвастов имеют в виду существенно различные вещи.
Для Анны Григорьевны отъезд в деревню есть не опрощение (в нравственно-философском смысле), а – упрощение: упрощение жизни. Это не какой-то символический уход (вспомним Толстого) и тем более – не исход, а самый обыкновенный, житейскими соображениями оправданный переезд.
Голохвастов разумеет совсем иное.
Для него пребывание автора «Карамазовых» в Петербурге – вещь противоестественная: прежде всего, по причинам идеологического порядка. Петербург, этот, по выражению Достоевского, «самый умышленный город на земле», не есть Россия. Это – град императорский, официальный, торжественно-холодный: «дух неволи, стройный вид» – по слову Пушкина. Или – по позднейшему слову Иннокентия Анненского:
- Сочинил ли нас царский указ?
- Потопить ли нас шведы забыли?
- Вместо сказки в прошедшем у нас
- Только камни да страшные были.
- Только камни нам дал чародей,
- Да Неву буро-желтого цвета,
- Да пустыни немых площадей,
- Где казнили людей до рассвета.
Петербург – воплощение духа европеизма, всего того внешнего, искусственного, «механического», что было заимствовано у Запада. В нём – раздолье для «идей, попавших на улицу»; это – царство «человеков из бумажки». Восставший «из топи блат», он как бы висит в воздухе; он – почти в буквальном смысле – оторван от почвы.
Достоевскому, очевидно, здесь не место.
Но мыслимо ли представить «самого петербургского» писателя без города Петербурга? Могли бы возникнуть в тиши сельского уединения «Бедные люди», «Униженные и оскорблённые», «Записки из подполья», не говоря уже о «Преступлении и наказании»? Сумел бы их автор, сидя в деревне, издавать «Дневник писателя»?
Достоевский лучше знал, где ему жить. И – где умереть.
Глава XIX. 1881 год, январь
Накануне нового, 1881 года «Петербургская газета» решила поделиться с читателями своими ироническими предположениями.
«Разнёсся внезапно слух, – писала газета, – о предстоящих значительных и крутых переменах в персонале печати…» Ожидается даже, что будет обнародована «новая табель о рангах по части журналистики…» Далее исчислялись возможные «переименования, повышения и понижения»: разумеется, с расчётом на читателя осведомлённого.
«Ф. М. Достоевский, – писала газета, – переименован в лейб-медики за психиатрические исследования и терапевтические достоинства последнего своего произведения «Братья Карамазовы». В сравнении с той бранью, которая раздавалась по его адресу летом, шутка выглядела безобидной.
Не были обойдены вниманием и другие литераторы. «Так, статский советник Михаил Никифорович Катков, – продолжала шутить газета, – будет, говорят, произведён в чин полного генерала от публицистики, с увольнением в отставку… Задворный советник, г. Цитович, временно исправляющий береговую службу, отставляется за неудовлетворительностью с назначением в комитет раненых»[1081].
Иносказание было достаточно прозрачным. Газета Цитовича «Берег» – петербургский подголосок «Московских ведомостей», бесславно оканчивала своё – не превысившее года – существование. Что же касается самого Михаила Никифоровича, то об его «отставке» (даже почётной) пока не могло быть и речи. Тем не менее в связи с общим «размягчением» внутренней политики журнальные акции «московского громовержца» расценивались невысоко.
Если шансы «полного генерала от публицистики» продолжали падать, то, напротив, акции другого генерала (от кавалерии) – Лорис-Меликова – росли с каждым днем.
Покушения не возобновлялись; крестьянские волнения шли на убыль; общество, склонное считать недавние казни – последними, несколько приободрилось. Толки о грядущих вскоре реформах обретали всё большую важность.
Страна жила на пороге решающих событий: многим думалось – не менее значительных, чем преобразования шестидесятых годов.
Граф Михаил Тариелович не бежал популярности. Он уже не мог удовольствоваться благорасположением одного лишь образованного общества. Он жаждал и некоторой признательности со стороны «низов». Успешнее всего подобной цели можно было достигнуть отменой столь ненавистного народу налога на соль. Правда, казна теряла при этом от семи до четырнадцати миллионов. Но политические выгоды, проистекающие от подобной меры, по мнению министра внутренних дел, намного превышали потери вещественные. «Такая новая милость, – писал он во всеподданнейшем докладе Александру II, – возвещённая с высоты престола, будет встречена искренно неподдельною признательностью со стороны всех сословий и состояний и упрочит союз царя с народом».
О союзе царя с народом толкует в своём последнем «Дневнике» и Достоевский. Однако он вовсе не убеждён, что вышеуказанный союз должен зиждиться на принципах экономической благодарности. «Царь – отец, народ – дети» – и если действительно так, то подобная родственная связь не подкрепляется рублём: она стоит на совсем иных, нравственных основаниях.
23 ноября государь, поколебавшись, подписал указ об отмене соляного налога: «Желая в тяжкую годину неурожая… явить вверенному Нам Божественным промыслом народу Нашему новое доказательство Наших забот о его благосостоянии, Мы признали за благо отменить акциз, взимаемый с соли, с 1 января 1881 года и соразмерно уменьшить таможенную пошлину с соли, привозимой из-за границы»[1082].
Противники Лорис-Меликова упрекали его за ущерб, нанесённый государственным финансам. В последней записной книжке Достоевский тоже касается этого вопроса.
«Облегчить народ, например, уничтожением налога на соль, – записывает он. – Где взять денег? Для этого непременно и неотложно обложить налогом высшие богатые классы и тем снять тягости с бедного класса»[1083].
Разумеется, в царском указе не содержалось и намёка на столь радикальные меры. С другой стороны, обострение в столице продовольственного вопроса, непрестанное возвышение хлебных розничных цен (что ударяло в первую очередь по неимущим) – всё это вынудило правительство решиться на довольно-таки необычные шаги.
В конце октября Лорис-Меликов призвал к себе крупнейших петербургских хлеботорговцев и стал убеждать их несколько сбавить цены. Купцы, естественно, не поддавались, сетуя на неурожай. Тогда граф объявил, что если доселе он беседовал с призванными в качестве министра внутренних дел, то отныне он будет говорить как шеф жандармов, в чьи обязанности входит предупреждать могущие возникнуть из-за дороговизны народные волнения. Хлеботорговцам был предъявлен ультиматум: если в течение двадцати четырёх часов они не спустят цены, то виновные будут высланы из столицы.
Эта чисто русская угроза возымела действие: цена ржаного печёного хлеба немедленно упала с пяти до четырёх копеек за фунт[1084].
В последнем «Дневнике писателя» Достоевский тоже рассуждает о проблемах экономических. Он предупреждает, однако, что его «окончательный вывод» может вызвать смех у неподготовленного к таким парадоксам читателя. Тем не менее вывод излагается:
«Для приобретения хороших государственных финансов в государстве, изведавшем известные потрясения, не думай слишком много о текущих потребностях, сколь бы сильно ни вопияли они, а думай лишь об оздоровлении корней – и получишь финансы».
Призыв к «оздоровлению корней» – лейтмотив последнего «Дневника». Ни отмена соляного налога, ни «ожидаемая великая реформа податной системы» и никакие другие экономические усовершенствования не способны, по мнению Достоевского, вывести нацию из тупика. Всё это – лишь паллиативы, «нечто внешнее и не с самого корня начатое».
Но с чего же начать?
Взгляд на этот вопрос автора «Дневника» может показаться не только «фантастичным», но даже несколько высокомерным. Достоевский предлагает позабыть о текущем. Позабыть «о вопиющих нуждах нашего бюджета, о долгах по заграничным займам, об дефиците, об рубле…». Он предлагает забыть о текущем хотя бы наполовину, нет, всего только на одну двадцатую. Он прекрасно понимает, что текущее всегда стоит на первом плане, но именно ради самого текущего призывает на мгновение отрешиться от него и направить внимание «на нечто совсем другое, в некую глубь, в которую по правде доселе никогда и не заглядывали…». И тогда… «Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее или, лучше сказать, уже в новое текущее, потому что в этот антракт, надо думать, что прежнее (т. е. современное, теперешнее наше текущее) изменится всё радикально и преобразит свой характер до того, что мы сами его не узнаем»[1085].
«Оздоровление корней» надо начинать с человека. Обращаться же исключительно к мерам административным – это, по Достоевскому, ставить телегу впереди лошади. Никакие экономические усилия сами по себе не принесут устойчивых плодов, если не изменятся исполнители. Но если «восстановится» человек – воспрянет и экономика, и финансы умножатся. Чтобы поднять народное хозяйство, следует прежде всего оздоровить моральный климат.
Подглавка «Дневника», в которой намекается на возможность всех этих чудес, названа иронически: «…По неумению впадаю в нечто духовное».
Он, великий утопист, нимало не обольщается относительно исполнимости своих утопий. И всё-таки задача ставится, ибо… «…Ибо без духовного спокойствия никакого не будет»[1086].
Речь вновь идёт о необходимости нравственного прогресса. Гадательное, идеальное (и, на определённый взгляд, вполне бесполезное) рассматривается как предмет реальной исторической практики.
Когда-то он пытался провести ту мысль, что в своей внешней политике Россия должна руководствоваться не сиюминутной выгодой, а исходить исключительно из соображений нравственных. Теперь он обращает этот принцип на домашние дела. Его этико-историческая «программа» обретает универсальность.
Новый, 1881 год начался с театра.
«Были в театре на Сидоркином деле, очень был доволен»[1087], – отмечает Анна Григорьевна, приурочивая это посещение к 1 января. Запись сделана через некоторое время после смерти Достоевского. Очевидно, Анна Григорьевна пыталась восстановить в памяти события этого рокового месяца. Заметки беспорядочны, обрывисты, конспективны. Наиболее тщательно фиксируется происходившее в самые последние дни и часы: к этим записям мы ещё обратимся.
Итак, новый год начался для него с театра. Но сам он вовсе не желал ограничиваться ролью зрителя.
«Первую половину января, – свидетельствует Анна Григорьевна, – Фёдор Михайлович чувствовал себя превосходно, бывал у знакомых и даже согласился участвовать в домашнем спектакле, который предполагали устроить у графини С. А. Толстой (вдова поэта. – И.В.) в начале следующего месяца». Он захотел взять роль схимника в пьесе А. К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного»[1088].
Не так давно, как помним, он требовал роль Отелло в домашнем спектакле у Штакеншнейдеров. Выбор, кажется, был не случаен. «Кто ж тебя знал, что ты у меня такой Отелло и, ничего не рассудив, полезешь на стену»[1089], – говаривала ему Анна Григорьевна в 1876 году.
Тогда произошёл случай, о котором, по её собственным словам, Анна Григорьевна вспоминала «почти с ужасом». Желая подшутить над мужем, она неосторожно приняла на себя роль Яго: изменив почерк, аккуратнейшим образом переписала из одного романа уличающее героиню в неверности анонимное письмо и, предвкушая весёлый розыгрыш, отправила его на имя Достоевского.
В письме, написанном с выдающимся безграмотством, неизвестный доброжелатель уведомлял обманутого супруга, что тому «перешиб» дорогу некий брюнет, чьё изображение, заключённое в медальон, неверная жена имеет наглость носить на груди. Пикантность состояла в том, что Анна Григорьевна действительно носила медальон, подаренный мужем.
Не менее пикантным было и то, что роман, из которого Анна Григорьевна столь легкомысленно позаимствовала текст письма, читался Достоевским накануне – в только что вышедшем номере «Отечественных записок»: он принадлежал перу С. И. Смирновой (Сазоновой).
Веселья, однако, не получилось.
– Что ты такой хмурый, Федя? – дружески осведомилась Анна Григорьевна, войдя в кабинет. Он гневно посмотрел на неё, тяжело прошёлся по комнате и остановился напротив, почти вплотную.
– Ты носишь медальон? – спросил он каким-то сдавленным голосом.
– Ношу.
– Покажи мне его!
– Зачем? Ведь ты много раз его видел.
– По-ка-жи ме-даль-он! – закричал во весь голос Фёдор Михайлович…
Поняв, что шутка зашла слишком далеко, Анна Григорьевна начала поспешно расстёгивать ворот платья. Но «Фёдор Михайлович не выдержал обуревавшего его гнева, быстро надвинулся на меня и изо всех сил рванул цепочку». Цепочка, натурально, оборвалась; на шее у Анны Григорьевны выступила капелька крови. Ничего не замечая, Достоевский судорожно и неловко пытался открыть медальон. Наконец это ему удалось. Портрет действительно наличествовал: с одной стороны – их дочери Любы, с другой – его собственный.
Его раскаяние было равно огорчению самой Анны Григорьевны, зарёкшейся впредь шутить столь опрометчиво.
«– Вот ты всё смеёшься, Анечка, – заговорил виноватым голосом Фёдор Михайлович (смех, которым она пыталась спасти положение, надо полагать, дался ей не без труда. – И.В.), – а, подумай, какое могло бы произойти несчастье! Ведь я в гневе мог задушить тебя!..»[1090]
Он не желает обращаться в Отелло, поверившего клевете.
Он знал за собой этот неизвинительный грех – ревность. И не без оснований полагал, что сумел бы неплохо воплотить это слепое, но требующее от исполнителя ясного сознания чувство на сцене.
Однако его трудно назвать ревнивцем в классическом смысле.
Когда в Сибири он сватался к Марии Дмитриевне Исаевой, он был прекрасно осведомлен о её отношениях к местному учителю Вергунову. Был момент, когда казалось, что у него, недавнего каторжника, а ныне простого солдата, нет никаких надежд: молодой возлюбленный Марии Дмитриевны побивал его по всем статьям. Как же поступает он в этом, слишком невыгодном для него случае? Через столичных знакомых он умоляет сильных мира сего устроить судьбу своего счастливого соперника, помочь ему выкарабкаться из нищеты, улучшить его материальное и служебное положение. Он делает это ради любимой им женщины[1091].
Надо полагать, что и тогда, в те далёкие годы, он имел представление о том, что такое ревность.
Существовала, правда, известная разница. Мария Дмитриевна и не думала скрывать своей связи. Здесь не было обмана. В истории же с поддельным анонимным письмом его потрясла возможность неправды, лжи – тайной измены любимой женщины, жены, матери его детей…
Да, он знал за собой эту черту. Но, очевидно, знал и другое, если в предполагаемом у С. А. Толстой спектакле был готов принять на себя роль схимника.
На Пушкинском празднике он, как мы помним, читал монолог Пимена из «Бориса Годунова». Мудрец-летописец, отрешённый от мира и всех мирских страстей, внимающий равнодушно (как бы равнодушно) добру и злу, – этот излившийся из самых глубин духа народного образ привлекает его неотразимо.
Отелло и Пимен – фигуры несовместные, враждебные, взаимно уничтожающие друг друга. И тем не менее он ощущает в себе оба эти начала.
В январе он отдаёт дань не только драме: он вспоминает и о музыке.
30 января 1881 года в «Петербургской газете» промелькнуло следующее (не отмеченное доселе) сообщение: «…последний раз привелось мне видеть Фёдора Михайловича в предпрошлую субботу (то есть 17 января. – И.В.) на музыкальном сеансе пианиста Брассена в зале консерватории. Выглядел он бодрее и здоровее обыкновенного, много и с жаром говорил о “Дневнике писателя” и своих планах и предположениях, выражал твёрдое упование, что вскоре можно будет высказать прямее и свободнее “всё, что волнует душу”…»
Заметка подписана: Амикус[1092].
Итак, если верить Амикусу, Достоевский выразил ему «твёрдое упование» относительно скорого разрешения того вопроса, который его, автора и издателя возобновляемого «Дневника», волновал в плане сугубо практическом.
Надежды эти имели некоторые основания.
Ещё в сентябре 1880 года Лорис-Меликов пригласил к себе редакторов крупнейших петербургских газет и журналов и предостерёг от того, чтобы вверенные им издания обольщали читателей толками о возможном привлечении общественных сил к участию в делах государственных. Оградив тем самым достоинство самодержавной власти, граф тем не менее намекнул, что он лично счёл бы возможным предоставить печати право «обсуждать различные правительственные мероприятия, постановления, распоряжения правительства с тем только условием, чтобы она не смущала и не волновала напрасно общественные умы своими помянутыми мечтательными иллюзиями»[1093].
Это была уступка: прессе фактически дозволялось высказываться о деятельности администрации – правда, не затрагивая при этом щекотливого вопроса о представительных учреждениях.
Начальство начинало понимать, что с печатным словом следует считаться: за весь 1880 год было дано лишь четыре предостережения и всего два периодических издания были приостановлены. По российским меркам – сущие пустяки.
«Князь Урусов[1094] и Победоносцев, – записывает в дневнике П. А. Валуев, – видят, в чём дело и ужасаются…»[1095] Победоносцеву было чего ужасаться: один из проектов нового закона о печати, обсуждавшийся в правительственных кругах, предусматривал отмену предварительной цензуры для всех периодических изданий (хотя другой проект предполагал одновременно ужесточить уголовные наказания для провинившихся журналистов: три года тюрьмы или пять лет крепости).
Дней за десять до смерти Достоевский был у А. С. Суворина. Речь, естественно, зашла об ожидаемых новшествах (частично этот разговор уже приводился выше).
«У нас… – передаёт Суворин слова своего собеседника, – возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и всё это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок, – и он прибавлял:
– Полная. Суд для печати – разве это свобода печати? Это всё-таки её принижение. Она и с судом пойдёт односторонне, криво. Пусть говорят всё что хотят. Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам, потому что у нас работы больше, нам нужна полная искренность, чтобы ничего не оставалось невысказанным»[1096].
То, что предлагает Достоевский, кажется невероятным. Полная, неурезанная, всеобъемлющая свобода в стране, где отсутствуют элементарные гражданские права. Положение печати мыслится таким, какое она никогда и нигде не занимала: абсолютная свобода высказывания, отсутствие не только административного, но и предусмотренного законами о печати всех стран «обычного» судебного преследования. Очевидно, даже борьба с диффамацией мыслится как мера внесудебная, связанная с той или иной формой морального осуждения.
При этом он прекрасно сознаёт, что печатное слово таит соблазн разного рода злоупотреблений.
«Пресса, между прочим, – записывается в последней тетради (примерно в то же время, когда состоялся упомянутый разговор с Сувориным), – обеспечивает слово всякому подлецу, умеющему на бумаге ругаться, такому, которому ни за что бы не дали говорить в порядочном обществе. А в печати приют: приходи, сколько хочешь ругайся, даже с почтением примут»[1097].
В этих раздражительных, в сердцах сказанных словах, несомненно, – «нечто личное». Слишком часто на своём писательском веку он делался объектом самых ожесточенных нападок, порою – не только несправедливых, но и оскорбительных. «Руготня. Amicus… – помечает он далее, имея в виду того самого автора, который вскоре упомянет об их дружественном общении на концерте в Консерватории. – Если запрещены физические отправления на улицах, раздетый донага человек, то как не запретить и этого: это то же физическое отправление, вредное и гадкое. Без жалобы Прокуратура должна бы возбуждать и посылать к Мировому судить за нетрезвость слова»[1098].
Привлекать к суду за «нетрезвость слова» – требование не менее утопическое, чем желание освободить прессу от суда.
Верил ли он в исполнимость своих утопий?
Он записывает: «Машина важнее добра. Правительственная административная машина – это всё, что нам осталось. Изменить её нельзя, заменить нечем без ломания основ. Лучше уж мы сами сделаемся лучшими, – говорят чиновники. Канцелярский порядок воззрения и управления Россией, даже хотя бы и было гибельно, всё-таки лучше добра»[1099].
Против этой записи (очень напоминающей другую: об уничтожении «формулы администрации») на полях он пишет «непременно», ставит три креста и шесть восклицательных знаков.
Он, проповедник личного нравственного совершенствования, казалось бы, должен приветствовать желание государственных чиновников «сделаться лучшими». Увы, ироничность тона не оставляет сомнений на этот счёт.
Это одно из его «кричащих» и, на первый взгляд, неразрешимых противоречий. Но, если вдуматься, слом машины (действие внешнее) и «ломка» тех, кто её ломает (действие внутреннее), не так уж далеки друг от друга.
Да, он – за самоусовершенствование. Но он вовсе не склонен относить результаты этого индивидуального, интимного процесса ко временам отдалённым. Благородные порывы, порывы души не отделены у него наглухо от могущих сопутствовать этим порывам государственных преобразований. Самому государству даётся шанс: сделаться «нравственным человеком».
Идеологов реальной российской государственности вовсе не соблазняла такая возможность.
На следующий день после смерти Достоевского Победоносцев писал Каткову: «Мы нередко с ним беседовали: для него у меня отведён был тихий час в субботу после всенощной, и он засиживался у меня за полночь в задушевной беседе»[1100][1101].
Итак, они беседовали субботними вечерами. Но, несмотря на свидетельство одного из собеседников, что разговоры были «задушевными», трудно представить, чтобы Достоевский бывал с Победоносцевым искренним до конца.
Ещё труднее вообразить, чтобы Победоносцев – твёрдый и убеждённый государственник, сторонник жёсткого и всепроникающего административного контроля, – чтобы этот фанатик сильной, уверенной в себе, нерассуждающей власти мог одобрить более чем сомнительные мечтания автора «Дневника писателя».
Мы уже говорили, что знакомство и общение Достоевского с Победоносцевым приходится на тот период, когда бывший воспитатель наследника престола ещё не успел стать ключевой фигурой русской политической жизни, то есть тем, кем он сделается после 1 марта. В конце царствования Александра II он ещё пребывает в полутени, не играя чрезвычайной политической роли и стараясь поддерживать вполне лояльные отношения с тем же Лорис-Меликовым. Его имя ещё не стало нарицательным.
Достоевский мог ценить в своём субботнем собеседнике его сухой, скептический, резкий ум, свойственный ему острый критицизм мышления. Но сильный в своём негативизме, Победоносцев оказывался несостоятельным, когда речь заходила о чём-то позитивном, живом, жизнетворческом. «Он, – говорит о Победоносцеве Константин Леонтьев, – как мороз; препятствует дальнейшему гниению; но расти при нём ничего не будет. Он не только не творец; он даже не реакционер, не восстановитель, не реставратор, он только консерватор в самом простом смысле слова; мороз; я говорю, сторож; безвоздушная гробница…»[1102]
Весьма сомнительно, чтобы Достоевский смог безоговорочно одобрить политическую линию, выработанную Победоносцевым после 1 марта и безоговорочно принятую новым царствованием в качестве руководства к действию. Мертвящее охранительство обер-прокурора Святейшего синода плохо совместимо с социальным утопизмом автора «Дневника».
Недаром он, автор, так беспокоился за судьбу январского номера.
17 января к нему зашёл Орест Фёдорович Миллер. Он явился с благородной целью: напомнить хозяину об его участии в Пушкинском вечере 29 января (в сорок четвёртую годовщину со дня смерти поэта). Но принят был отнюдь не ласково.
Хозяин «выбежал к посетителю в прихожую с пером в руке, страшно взволнованный – отчасти, как сам тут и высказал, опасением, пропустит ли ему цензура несколько таких строк, содержание которых должно развиваться в дальнейших номерах “Дневника”, – в течение всего года. “Не пропустят этого, – говорил он, – и всё пропало…”»[1103]
Речь действительно шла о весьма рискованном тексте (он уже приводился выше): «…есть одно магическое словцо, именно: “оказать доверие”. Да, нашему народу можно оказать доверие, ибо он достоин его. Позовите серые зипуны и спросите их самих об их нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую правду»[1104].
После смерти Достоевского журнал «Мысль» опубликовал посвящённую ему обширную статью. Автор статьи, Л. Оболенский, останавливается как раз на том месте январского «Дневника», где предлагается обратиться к народу, и только к народу.
«Это что же… личное совершенствование он предлагал? – спрашивает Оболенский. – Не ясно ли для всякого… что Достоевский вовсе не был врагом реформ…» Он признавал лишь ту реформу, которая «была бы соответственна потребностям и духу народа». От «окончательного» решения этой проблемы Достоевский «устранял не только интеллигенцию, но даже и себя…»[1105]. Где и когда, вопрошает далее Оболенский, «Московские ведомости» проводили ту идею, какую высказал в своём «Дневнике» Достоевский? «Мы у них читали, наоборот, статьи в защиту преобладания везде и всюду крупного землевладения, мы читали громы против защиты… крестьян, мы читаем обвинения в измене за всякую малейшую попытку обсуждать вопросы о народном благосостоянии… Они призывали на страну диктатуру… Всегда и всюду они проповедовали одно: террор, террор и террор! Ежовые рукавицы кары; а мы только что видели, то же ли говорил Достоевский! Идеи Достоевского, – заключает Оболенский, – и идеи “Московских ведомостей” – это два диаметрально противоположных полюса, наиболее враждебных друг другу»[1106].
Текст Оболенского, как, впрочем, почти все приводимые нами отклики прессы, практически не был известен: на него нет ссылок в позднейшей литературе. Нельзя, однако, не поразиться этому одинокому голосу. Оказывается, то, к чему мы пришли путём «ума холодных наблюдений» (но также, добавим, «и сердца горестных замет»), вполне отчётливо сознавалось «внутри» интересующего нас времени – пусть даже очень немногими. Сего достаточно…
В следующем номере своего журнала Оболенский задаётся вопросом: какую именно группу, какую «партию» русского народа представляет автор «Карамазовых»? Соображения на этот счёт издателя «Мысли» хотя и не бесспорны, но также в высшей степени любопытны.
По мнению Оболенского, Достоевский взялся «представлять и защищать» массу «серого православного крестьянства ни больше, ни меньше». Не интересы интеллигенции и не интересы какой-то обособленной части народа (например, раскольников) составляют предмет его забот: он выражает миросозерцание «серых зипунов» во всей его целости – «без урезок… без ампутирования этого миросозерцания по своему произволу».
«Один критик, – говорит Оболенский, – заметил, что Достоевский меньше всего описывал народ, а потому, мол, странно его называть народником. Если к народничеству прилагать такой глубокомысленный критериум, то наибольшим народником, пожалуй, окажется актёр Горбунов (автор и исполнитель рассказов из народного быта. – И.В.), ибо он описывал только народ»[1107].
Точка зрения Оболенского совершенно исключительна: подобные мнения не встречаются более во всей тогдашней литературе. Кажется, никому из современников Достоевского не приходило на ум связывать его имя с идеологией «серого православного крестьянства». Между тем осознание этой глубинной связи позволяет взглянуть на автора «Дневника» с несколько неожиданной точки зрения.
Существует глубокая закономерность в том, что в конце XIX столетия два крупнейших русских художника спешат отречься от воззрений, сопряжённых с кругом их собственной жизни, и вменяют себе в обязанность стать на точку зрения «большинства».
Они делают это по-разному, но общая направленность их усилий несомненна.
По странной прихоти судьбы жизненный финал Достоевского пришёлся на то самое время, когда другой его великий современник переживал глубочайший духовный кризис, который разломит его долгую жизнь надвое и в конце концов сделает его тем, кем он – помимо своих чисто художественных заслуг – будет принудительно утверждён в памяти потомства: представителем русского патриархального крестьянства.
Вспомним их невстречу 10 марта 1878 года (на лекции Владимира Соловьёва). Оценивая выше мотивы, по каким Страхов их не познакомил, мы намеренно опустили один – может быть, самый главный.
Ибо нельзя исключить, что инициатором незнакомства был не кто иной, как сам Лев Николаевич Толстой.
На протяжении почти четверти века они пристально всматриваются друг в друга, однако не предпринимают ни малейших попыток к сближению. Это представляется невероятным и загадочным, особенно если учесть, что каждый из них, как уже говорилось, знаком практически со всеми сколько-нибудь значительными писателями своего времени и что возможности для их личных контактов были не столь уж ничтожны.
Ни Толстой, ни Достоевский не желают делать первого шага. Достоевский – по соображениям «иерархическим»: в глазах современников (и отчасти – в своих собственных) он стоит «ниже» автора «Войны и мира».
Мотивы Толстого имеют более сложный характер.
Написав в 1878 году примирительное письмо Тургеневу, Толстой совершает это с высоты своего уже почти недосягаемого величия. Он может себе позволить такой великодушный жест не только потому, что время обескровило старые обиды, но и потому, что в глубине души он не может не сознавать: у них с Тургеневым – разные поприща. Они не то чтобы несопоставимы, а просто в их духовной деятельности обнаруживается не так уж много общих точек для спора «о главном».
Мог ли он думать так о Достоевском?
Чехов говорил Бунину, что особенно его восхищает в Толстом – это его презрение ко всем прочим писателям, «или, лучше сказать, что он всех нас, прочих писателей, считает совершенно за ничто»[1108]. Толстой иногда хвалит Мопассана, Куприна, того же Чехова. А вот Шекспир его раздражает.
Нетерпимый к чужому, но обладающий при этом гигантской художественной интуицией, Толстой не мог не чувствовать творческой мощи своего старшего (сам он моложе Достоевского на семь лет) современника. Интересно, что при ровном, в общем, отношении к таланту Тургенева Толстой оценивает писательский дар Достоевского очень неоднозначно и зачастую – противоречиво.
Как помним, Страхов не сказал Достоевскому о том, что на лекции Владимира Соловьёва присутствует Толстой. Но сообщил ли он своему спутнику о присутствии Достоевского? Думается, ему было бы затруднительно не известить автора «Анны Карениной» (только что пристрастно разобранной в «Дневнике писателя») об этом обстоятельстве.
Но если так, то просьба Толстого не обременять его знакомством с кем бы то ни было выглядит как попытка в деликатной форме отклонить знакомство именно с Достоевским.
Высказав через много лет искренние сожаления Анне Григорьевне, что ему не довелось познакомиться с её покойным мужем, Толстой, разумеется, уже не помнил своих тогдашних мотивов.
Чего же мог опасаться Толстой?
Вряд ли его смутили бы те критические замечания в адрес его последнего романа, которые, как было сказано, появились на страницах «Дневника писателя». Тем более что в том же «Дневнике» роману в целом дана чрезвычайно высокая оценка.
Толстой мог опасаться другого. Он знает: только с Достоевским возможен разговор на равных. Но, может быть, именно поэтому он старается его избежать.
Глубоко захваченный переживаемым им духовным переворотом, всеми силами стремясь утвердиться в своём новом, пока ещё не «затвердевшем» миропонимании, он инстинктивно отстраняет от себя всё, могущее поколебать эту рождающуюся в муках веру. Встреча (и неизбежное духовное противоборство) с таким могучим оппонентом, как автор «Дневника», грозит разрушить целостность столь трудно воздвигнутого толстовского мира, потрясти его сокровенные основы.
Он просит Страхова ни с кем его не знакомить.
Существовала ещё одна возможность: Пушкинский праздник. Но, как уже говорилось, Толстой не принял приглашения почтить Москву своим присутствием. Миссия Тургенева, посетившего весной 1880 года Ясную Поляну в качестве парламентёра, успеха не имела.
«…Тургенева этот отказ так поразил, – пишет первый и хорошо осведомлённый биограф Толстого, – что когда после Пушкинского праздника Фёдор Михайлович Достоевский собирался приехать из Москвы к Льву Николаевичу и стал советоваться об этом с Тургеневым, тот изобразил настроение Льва Николаевича в таких красках, что Достоевский испугался и отложил исполнение своей заветной мечты»[1109].
Действительно ли «испугался» Достоевский и была ли его мечта на самом деле «заветной» – об этом судить трудно. Легче представить, в каких именно красках изобразил Тургенев настроение Толстого.
Достоевский пишет Анне Григорьевне из Москвы: «Сегодня Григорович сообщил, что Тургенев, воротившийся от Льва Толстого, болен, а Толстой почти с ума сошёл и даже может быть совсем сошёл»[1110].
Таким образом, первичная информация действительно исходила от Тургенева. Последний был весьма уязвлён отказом Толстого и попытался объяснить причины этого отказа по-своему (подразумевалось, что человек в здравом уме не смог бы отказать ему, Тургеневу).
Впрочем, «предостерегал» не только неудачливый посетитель Ясной Поляны. «О Льве Толстом и Катков подтвердил, что, слышно, он совсем помешался, – сообщает Достоевский Анне Григорьевне и продолжает: – Юрьев подбивал меня съездить к нему в Ясную Поляну: всего туда, там и обратно, менее двух суток. Но я не поеду, хотя очень бы любопытно было»[1111].
«Любопытно» не потому, что автор «Войны и мира» якобы «сошёл с ума»: как раз наоборот. В словах Достоевского можно усмотреть сугубое недоверие к слухам, роящимся вокруг Толстого, желание лично удостовериться – что же на самом деле совершается в духовном мире Ясной Поляны.
Результаты этих свершений станут вскоре достоянием всего мира. Но покамест к откровениям новой веры допущены лишь немногие.
Одна из таких посвящённых – двоюродная тётка Толстого графиня Александра Андреевна.