Азиль Семироль Анна
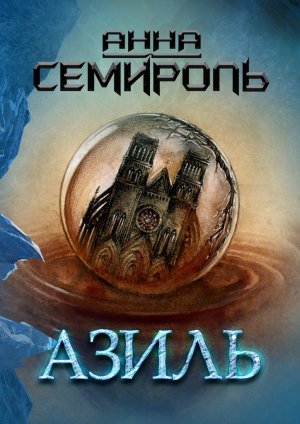
— Кей-тян, мы выиграем, — успокаивая и сестру, и себя, говорит Акеми. — Какие правила?
Кейко трясёт косами, и её испуганный голос повторяет и повторяет в голове Акеми: «Не играть! Тебе нельзя играть! У Зверя нельзя выиграть!»
— Hach-h-hi… — рокочет над ними леденящий голос, и мощный удар раскалывает контейнер пополам.
Акеми бросается в сторону, перекатывается по холодному бетонному полу, обдирая плечо, ныряет за спасительный угол. От тяжёлого запаха разлагающейся рыбы подкатывает тошнота, вид громадины, которую она лишь зацепила краем глаза, сеет ужас.
— Нет-нет-нет, — твердит Акеми. — Я не боюсь, я не должна!
Вдох. Выдох. Девушка вылетает из укрытия, на бегу выхватывая клинок из ножен. И останавливается в изумлении. Среди размётанных обломков мусорного контейнера сидит Кейко, низко опустив голову и держа в руках любимую чашку. А рядом с ней стоит мужчина в дорогом сюртуке и начищенных до блеска ботинках. Черты его лица расплываются, чётко видна лишь жуткая разинутая хищная пасть. Рыбья пасть.
— Убегай, девочка с игрушечным мечом, — насмешливо булькает Зверь. — Я убил Онамадзу, тебя ли теперь бояться?
Акеми выставляет вакидзаси перед собой, упрямо смыкает губы. «Я не боюсь. Я человек, а человек сильнее Зверя!» Существо медленно, с завораживающей грацией двигается к ней.
— Беги! — приказывает тварь, нависая над Акеми.
— Kyu!!! — звонко кричит девушка и выбрасывает вперёд руку с клинком.
Лезвие входит по самую рукоять. Акеми осоловевшим взглядом смотрит на оседающую на пол тварь. Как всё просто! Человек сильнее Зверя! Смотри, Кейко!
— Смот… — начинает было Акеми — и умолкает, испугавшись собственного голоса.
У издыхающего чудовища женское лицо. Раскосые серые глаза, японские высокие скулы. Тёмные волосы, остриженные до плеч. Плечи по-мужски крепкие и широкие — сказались занятия плаваньем в мутных водах Орба. Поверженный Зверь сжимает в правой руке короткий меч.
— Jyu! — торжествующе выдыхает Акеми. Звук получается смазанным, больше похожим на рык — нелегко говорить пастью, полной острых рыбьих зубов.
Девушка в голубом кимоно баюкает в ладонях алую чайную чашку и едва слышно напевает:
— И-чиии… Ни-и… Са-ан… Си-и…
Зверь ложится у её ног и засыпает с открытыми глазами. В вышине поскрипывают старые жестяные вывески, хлопают по ветру не то линялые флаги, не то развешенное на просушку тряпьё. Яркие голубые огоньки мерцают среди многоярусных построек заброшенного сектора.
Го-о…
Ро-ку…
На-ана…
От собственного вопля звенит в ушах. Акеми садится в постели, загнанно дышит. Её колотит, подушка и простыня мокры от пота. Руки трясутся, когда она натягивает на себя одеяло, чтобы хоть как-то согреться.
Реальный мир понемногу возвращается, обретает привычные запахи, черты и краски. Тикают старинные часы в углу маленькой комнаты. В лучах утреннего солнца, проникающего сквозь щели жалюзи, танцуют пылинки. С рисунка на стене улыбаются Акеми незнакомые чёрно-белые люди. Со стеллажа, заваленного чертежами и всякими деталями, металлическими и пластиковыми, свисает полотенце. На длинном обитом жестью столе царит хаос из проводов, перчаток, респираторов, подсумков и вездесущих в этом доме железок. По полу раскиданы пёстрые подушки, в углу на табурете брошен скомканный плед и её, Акеми, комбинезон.
Кутаясь в одеяло, девушка сползает с просторной — почти на полкомнаты! — кровати и бредёт на кухню, перешагивая через разбросанные вещи. Сон не отпускает её, и больше всего сейчас она боится услышать, как нежный голос Кейко произносит нараспев очередную цифру — потому что тогда исчезнет то, к чему она вот уже несколько дней старательно привыкает, и Акеми окажется где-нибудь в незнакомом и пугающем месте. На краю крыши, например.
Сейчас ей нужно что-то материальное, чтобы успокоиться. Такое, что можно потрогать руками, понюхать, попробовать на вкус. Что не может оказаться плодом её воображения. Акеми берёт с полки пластиковый стакан, черпает воду из стоящего в углу бака, пьёт. Вода кажется ей очень вкусной. Совсем не такой, какая течёт из кранов в Третьем круге. Здесь она свежее, нет ощущения маслянистости и отчётливого привкуса ржавчины. Хоть Рене и говорит, что эту воду тоже надо отстаивать и кипятить, для Акеми она великолепна. И самое приятное: здесь вода в домах есть всегда, без перебоев.
Девушка возвращает стакан на место и садится на широкий подоконник, подвинув в сторону ящичек с зеленеющей рассадой. И пытается вспомнить, что это растёт и для чего используется. Трогает нежный листок одного из растеньиц, нюхает кончики пальцев: на них остался яркий, необычный аромат. Кажется, это для травяного чая. Рене говорит, во Втором круге все что-то выращивают. Возле каждого дома разбит огород. Это разрешено и даже поощряется. Единственное, что власти требуют от людей — часть семян от урожая, чтобы было что выращивать в следующем сезоне.
Приоткрыв оконную раму, Акеми с наслаждением вдыхает уличные запахи. Зелень, освежённая ночным дождём, пахнет божественно. Девушка задумчиво касается правой щеки, привычно пытаясь поправить трубочку воздушного фильтра, и только тут вспоминает, что Рене удалил его ещё четыре дня назад. Сказав: «Дыши чистым воздухом. Каждый человек в Азиле этого заслуживает».
Жизнь во Втором круге кажется сказочной. Воздух чист, кругом цветущая зелень, вместо пустырей — парки. Дети учатся в школах, и не год, как в Третьем круге, а лет по пять-семь. Еду тебе не по порциям выдают, а раз-два в неделю идёшь в соцслужбу или в лавку и набираешь на заработанные купоны всё, что нравится. Когда Рене на днях пришёл с полным пакетом продуктов, которые Акеми видела разве что на городских праздниках, изумлению её не было предела. Пока она уплетала яичницу, Рене смотрел на неё с грустью.
— Тебе кажется, что мы живём, как боги, да? — спросил он тогда. И когда она с жаром кивнула, продолжил: — А на самом деле мы не имеем и десятой части того, что есть в Ядре. А чем они лучше нас, скажи? Думаешь, они умнее? Ни черта! Им лень даже учиться. Если у их спиногрызов ломаются игрушки, они зовут слуг — и те чинят, хотя господа и сами могли бы. Просто у элиты мозги заросли жиром от лени. И что — достойны такие иметь всё? А тогда почему они это «всё» имеют, а мы — нет?
«Мне большего и не надо», — хотела тогда ответить Акеми. Но смолчала. Потому что Рене прав. Азиль может всех накормить досыта — и увиденное в Подмирье это доказало сполна. Все могут жить в чистом Втором круге и не дышать отравленным воздухом в трущобах. И места хватит на всех: дома тут уютны, просторны, и люди не ютятся в тесных квартирках с плесенью на стенах.
«А нас делят на годных и негодных, — с горечью думает Акеми, рассматривая прожилки на листиках рассады. — Прошёл тест — годен, живи в сытости, получай образование и хорошую работу. Не прошёл — паши за чертой, пока не сдохнешь. Мама же прошла этот тест когда-то. Но осталась из-за папы… и умерла от болезни лёгких так рано. Проклятый тест на агрессию и умственные способности! Это не мы придумали, это всё чёртовы элитарии!»
Распахивается входная дверь, впуская в кухню летнюю жару, солнечный свет и Рене. Каждое утро в будни он совершает пробежку по району, а в выходной к пробежке добавляются получасовые упражнения во дворике за домом. Вот и сейчас он мокрый от пота, рубашка прилипла к телу.
— Привет! — улыбается Клермон. — А что с твоим лицом?
— Задумалась, — виновато отвечает Акеми.
— Думать надо, думать — хорошо, — кивает Рене. Сбрасывает в углу лёгкие кроссовки, стаскивает рубаху через голову: — Я в душ!
Акеми провожает взглядом его спину — и ловит себя на мысли, что ей очень не хочется сейчас быть одной. Она возвращается в комнату, застилает одеялом кровать, кидает поверх него подобранные с пола подушки и идёт на весёлое насвистывание Рене, слышное сквозь шелест воды. Прежде чем сдвинуть в сторону полупрозрачную пластиковую дверь, Акеми несколько секунд медлит, глядя на свои голые ноги и улыбаясь.
— Заходи уже, — подстёгивает Рене её решимость.
И вот она уже внутри, и прохладные струи воды рисуют на коже первые дорожки, и крепкие руки Рене прижимают её запястья к стене, и дыхание перехватывает от будоражащего предчувствия. Акеми подаётся вперёд, жадно льнёт к его губам. Рене смеётся и медленно ведёт коленом вверх по внутренней стороне её бедра.
— Вот же голодная самка! Где твоя мораль, Акеми Дарэ Ка? — вкрадчиво шепчет он. — Помыться не даёшь спокойно. Как тебя воспитали?..
— Заткнись! — то ли требует, то ли умоляет Акеми, пытаясь высвободить руки и корчась от всё возрастающего желания. — Пусти-иии… ах!..
— «Пусти» — и что дальше?
Пальцы Рене разжимаются, скользят по коже Акеми, ладони обхватывают ягодицы, стискивают их. Девушка вскрикивает, и Рене тут же гасит её крик поцелуем.
— Тсссс… Не то Сорси услышит и примчится…
Оба смеются, вспоминая, как Акеми вопила в их первую ночь — так, что явились разбуженные соседи. И девушка кубарем скатилась под кровать, решив, что пришла Сорси и обязательно её прикончит.
Вода из душа льётся ледяная: Акеми так удачно оперлась ладонью на смеситель. И нет сил убрать руку — пальцы словно судорогой свело; и одна мысль скачет в голове: «Не упасть. Не упасть! Не упасть…» Скользкий пол, мокрая кожа, губы горят, дыхание сбивается то ли от ледяной воды, то ли…
— Не… ори! — выдыхает Рене ей в ухо. — Уроню…
Акеми впивается ногтями в его спину, закусывает губы. Рене двигается быстро и жёстко, его руки словно тисками охватывают её тело — не вырваться, да она и не хочет, не пытается. Только и может, что льнуть ближе и задыхаться от глубоких резких толчков внутрь. Как удары, как поединок, в котором ей не победить. Ледяные струи разбиваются о кожу, но ни на малость не могут пригасить жадный жар, бушующий в крови. Акеми кажется — она слышит, как вода шипит и рвётся вверх струйками пара, едва соприкоснувшись с её кожей: настолько ей сейчас жарко, и остро, и невыносимо. Крик рвётся наружу, и невозможно уже сдерживаться; Акеми ощущает во рту вкус железа и соли — прокусила губу — и больше не может. Кричит в голос, выгибаясь в сильных руках, чувствуя себя заполненной до самого краешка; критическая масса, взрыв, опустошение. Холодная вода заливает её запрокинутое лицо, Акеми захлёбывается, кашляет… и обмякает на плече любовника. Рене удерживает её на весу одной рукой, другой звонко шлёпает по ягодице и усмехается:
— Оглушила. Понравилось?
Она пытается что-то ответить, но голос пропал, и всё, что получается — сдавленный писк. Рене бережно ставит её перед собой, выключает душ и опирается выпрямленными руками о стену.
— Вот и замечательно. Тебе напомнить, как мне сделать хорошо?
Акеми неуместно краснеет и послушно опускается на колени, скользя ладонями по его напряжённым бёдрам. Не сказать, чтобы девушке очень нравилось это делать, но ни ей, ни Клермону не нужна её беременность. Об этом они договорились ещё в первую ночь.
Вкус Рене — чуть солоноватый, мускусный, с прохладным привкусом воды и самой Акеми. Она осторожно, будто приноравливаясь, обхватывает губами самую головку, выпускает её изо рта, проводит кончиком языка по щели, снова трогает губами и берёт глубже, стараясь расслабить горло. Пальцы Рене вплетаются в её мокрые волосы, чуть тянут, задавая нужный ритм. Акеми подчиняется бездумно, без единой мысли в голове.
— Умница… — хрипло выдыхает Рене через пару минут. — Полотенце возьми.
Акеми сидит на корточках в углу душевой, обняв себя за плечи. Ей холодно, ноги подкашиваются. Ей и невероятно хорошо, и необъяснимо пусто. И так некстати память подсовывает воспоминание: худенький высокий подросток в растянутом свитере греет руки об чашку водорослевого супа. Зубы выстукивают дробь, с мокрой чёлки шлёпаются в суп капли, пальцы с обкусанными ногтями поворачивают чашку то одним боком, то другим. Мальчишка зло зыркает в сторону палубы, где вся команда потешается над его полётом за борт. Акеми смотрит на его красный от холода нос, снимает с себя штормовку и накрывает тощие плечи. И ловит полный молчаливой благодарности взгляд и тёплую, удивительно белозубую улыбку.
Девушка встряхивает головой, воспоминание гаснет. Она тянется за полотенцем, прячет в него лицо. Вздыхает.
— Эй, — окликает её заглянувший Рене. — Я завтрак делаю. Ты чего, Акеми?
— Я поступаю неправильно, — монотонно отвечает она.
— В смысле? Секс?
— Нет. Я за Жиля волнуюсь.
— А.
Рене задвигает дверь в душевую и удаляется на кухню. Акеми сушит волосы полотенцем, одевается и присоединяется к нему. Пока Рене колдует над яичницей с травами, девушка ходит по кухне, переставляет с места на место то стакан, то мисочку с сахаром.
— Он мой друг, пойми. Я чувствую свою ответственность… и его обиду. Он же никому не доверяет так, как мне. И он не нужен никому в этом городе.
Рене невозмутимо раскладывает еду по тарелкам, ставит их на стол, делает приглашающий жест. И когда Акеми занимает своё место за столом, начинает спокойно говорить:
— Давай будем реалистами. Ты — взрослый человек, свободная женщина. Он — подросток на пороге взросления. Год-другой — обзаведётся подружкой. Ну… если повезёт, с его-то лицом. Так вот. Ты не можешь постоянно быть ему нянькой. Позволь себе тоже жить, Акеми. Ты ему ничего не должна. И он тебе. Обида, говоришь? На что? На то, что ты ушла со мной? Это был твой выбор, и мальчик обязан его уважать. Если он тебе и вправду друг, а не просто мечтал с тобой потерять девственность. Кстати, его выбором было бегство. Кто кого бросил, а?
— Умеешь же ты запутать, — с укоризной бросает Акеми и принимается за еду.
— Не злись.
Он подсаживается ближе, берёт левую ладонь Акеми и дышит теплом в самый её центр.
— Эй, не прячься. Я вижу, что тебе нелегко. Слишком серьёзные перемены, всё так быстро… Я тебя защищу и сделаю так, чтобы твоя жизнь стала лучше. Ты мне нужна. Я с тобой честен. Веришь?
Акеми коротко кивает. Проводит пальцем по толстому широкому браслету на запястье Рене и спрашивает:
— А это из чего?
— Кожа животных.
— Ты когда-нибудь снимаешь эту штуку?
— Нет.
Что-то в его тоне заставляет Акеми задать ещё один вопрос:
— А что это?
Рене смотрит на неё долгим, испытывающим взглядом. Улыбается — но от этой улыбки появляется тягостное предчувствие.
— Я покажу. Только обещай доверять мне и не пугаться.
Девушка машинально кивает. Он сдвигает незаметную крышку на браслете и вытряхивает на ладонь из продолговатой ниши горсть мерцающих голубых кристаллов. Акеми тянется было посмотреть, заносит руку, чтобы взять один… Слышит окрик: «Не тронь!» — и одновременно с этим осознаёт, что именно она видит. И шарахается прочь, опрокидывая табурет и сметая со стола тарелку с остатками завтрака.
В раскрытой ладони Рене Клермона переливаются смертельно опасные для всех жителей Азиля кристаллы синего льда.
Сверкающие кристаллы сползаются на поверхности кухонного стола в груду, словно живые, стоит Рене провести над ними рукой. С едва слышным потрескиванием льдинки становятся единым целым и начинают расти. Акеми из угла со страхом наблюдает за льдом, борясь с желанием схватить стакан и плеснуть на смертоносные кристаллы водой.
— Успокойся, — улыбка Рене снова тёплая и ободряющая. — Главное — не трогай. А мне оно вреда не причинит. Вот, смотри.
Он отламывает кусочек льда, кладёт на тыльную сторону ладони, указательным пальцем другой руки чертит витиеватую линию, уводящую вверх, к рукаву футболки. Синий кристалл стремительно растёт в длину, точно следуя по обозначенному пути, словно по коже течёт струйка жидкости. Миг — и кончик кристалла исчезает в рукаве, а основная линия выпускает из себя тоненькие голубые отростки, быстро покрывающие руку Рене подобием изморози.
— Это не неприятно, — заверяет Рене. — Мы с ним отлично ладим. Оно не то чтобы разумное, но очень чувствительно к… ммм… общению без слов. Ты подойди поближе. Взгляни.
Акеми отрицательно трясёт головой:
— Ты можешь это убрать?
Он пожимает плечами, встряхивает левой кистью — и ледяной рисунок меркнет, исчезает, шлёпаясь на пол прозрачными каплями обычной воды. Остаётся лишь маленький кусочек, который Рене отправляет в углубление браслета. Ледяной букет на столе медленно расцветает, набирая силу, искрится на солнце острыми гранями. Рене протягивает к нему раскрытую ладонь — и рост кристаллов ускоряется, ледяные стебли изгибаются, как живые, тянутся к тёплой плоти. Парень опускает руки, становится лицом к ледяным щупальцам, и Акеми зачарованно смотрит, как прозрачно-голубой панцирь покрывает обнажённые плечи и грудь Рене, а сияющее кольцо смыкается вокруг шеи. А потом лёд уходит — так же медленно втягивается обратно в себя.
— Гляди ещё, — заговорщически подмигивает Рене.
Он отступает на шаг, поворачивается спиной — и в прыжке бросает себя на ледяной куст. Акеми в ужасе вскрикивает и сжимается в комок, но страх её напрасен: из середины глыбы выстреливают тонкие сияющие нити. И образуют что-то вроде сети, которая подхватывает падающего Рене, принимая форму его тела.
— Мы с ним отлично ладим, видишь? — повторяет, смеясь, парень и выбирается из ледяного гамака.
Девушка во все глаза смотрит, как, потрескивая, синий лёд уменьшается до нескольких маленьких кристаллов, которые Рене Клермон бережно прячет внутрь браслета. Во взгляде Акеми — ужас и восхищение. В увиденное слишком трудно поверить. Это как если бы при тебе человек спокойно пошёл по воздуху. И ладно бы случайный прохожий, которого ты видишь в первый и, скорее всего, в последний раз.
— Я только что трахалась с кристалитом, — озвучивает свои мысли девушка.
— Боишься заразиться?
Парень хватает Акеми, рычит и игриво кусает за плечо. Оба смеются, она обнимает его за шею.
— Я в ужасе, если честно.
— А ты будь проще. Если бы я тебе это не показал, ты никогда бы не догадалась.
Акеми подбирает с пола остатки яичницы, ставит на место тяжёлый табурет. И украдкой поглядывает, как падающие из окна лучи подсвечивают правое ухо Рене нежно-розовым. Вот как теперь к Рене относиться? Бояться дотронуться, восхищённо припасть к ногам, сдаться с ним вместе в полицию? Кто он вообще, этот парень? Человек? Чудовище?
Сон. Хрупкая фигурка сестры, одетая синим льдом. Осколки, не причиняющие вреда Акеми. Если убить Зверя… уничтожить чудовище… Нет, тот путь был неверным! Лёд не причинял ей вреда. Не причинял. Лёд…
Заметив напряжённое выражение лица Акеми, Рене корчит дурацкую рожу. Девушка фыркает и отворачивается, чтобы скрыть улыбку.
— Я всё вижу, — ехидно комментирует Рене. — Ну, давай, выкладывай. Ты меня боишься теперь?
— Нет. Ночью мне…
— А надо бы, — неожиданно жёстко перебивает он. — Понимаешь?
Она не понимает. Вернее, отрицает для себя саму возможность понимания. Это же Рене, он обещал заботиться о ней, он защищает её… Да, её пугает лёд — но не Рене, нет. Был момент замешательства, но теперь точно одно: нет, Акеми его не боится. Неспроста был сон.
— Хорошо, ты самый страшный, — поспешно отвечает она. — И давно ты такой… особенный?
Рене стирает тряпкой воду со стола и только потом отвечает:
— Не знаю. Чтобы выяснить, кристалит ты или нет, надо прикоснуться ко льду.
— Но это же верная смерть, если ты не… Рене, зачем ты его трогал?
Он выжимает тряпку над тазом. Выкручивает старательно — так, что на напряжённой спине проступают позвонки. Акеми молчит и ждёт. Вариантов много, но ей нужна правда. И она понимает, что с такой правдой человека торопить нельзя.
— Вероятно, ты думаешь, что я ненормальный, — начинает Рене, словно не к ней обращаясь, тщательно подбирая каждое слово. — Что я с кем-то поспорил на что-то ценное. Или спьяну решил показать свою смелость. Или пытался покончить с собой. Нет. Я просто заступился за друга. Пять или шесть лет назад, когда мы учились в университете. Он повздорил с элитарием, который был на год младше. Они сцепились, я разнял. И вроде как эту историю все забыли. А на празднике урожая мы оба получили сзади по удару дубинкой. И пришли в себя в трущобах. Я не помню, сколько было этих… Нам разъяснили, что нехорошо обижать жителей Ядра. Избили так, что мы не могли даже стоять. Кажется, мой друг умер ещё до того, как нас швырнули на лёд. Потому что он не кричал.
Он смолкает, берёт таз с водой, распахивает дверь пинком, выплёскивает воду за порог и заканчивает:
— Я выжил. Лёд залечил все мои раны и сломанные кости. А дальше всё было так, как ты думала, Акеми. Я двинулся на всю голову, искал с ним встречи, говорил с ним… и однажды оно меня услышало. Услышало и отозвалось.
Таз с грохотом возвращается под стол, и Рене наконец-то поворачивается к Акеми. Улыбается жалко, словно извиняется за всё, что ей пришлось выслушать, и раскидывает объятья:
— Иди сюда…
А потом, прижав к себе девушку, целует её в макушку и вкрадчиво спрашивает:
— И ты что — поверила в эту историю?
— А ты что — всё выдумал?
— Ну, я же прелесть, — смеётся Рене.
Он точно знает, что эта девушка примет его таким, какой он есть. Он в этом уверен.
День они тратят на готовку: Рене учит Акеми жарить невероятно вкусные пончики и курицу со стручками молодой фасоли. В маленькой кухне жарко, не спасают даже настежь распахнутые окна и входная дверь. В воздухе разливается запах кукурузного масла и выпечки, тёмно-русые волосы Рене кажутся седыми от муки, Акеми то и дело облизывает сладкие липкие пальцы. И девушке настолько хорошо и беспечно, что до самого вечера она не вспоминает ни о своих неприятностях, ни о Жиле, ни о ночном кошмаре. И нет-нет, да и ловит себя на мысли, что ей хотелось бы так жить всегда. Чтобы пахло вкусной едой, чтобы дышалось легко, чтобы воды было вдоволь… и самое главное — чтобы Рене Клермон был с ней.
— Ре-не, — окликает она его — и улыбается, когда тот оборачивается.
— Придумала, зачем звала? — поддевает её парень.
Смех. Добрый, беззаботный, счастливый. Молодая пара в яркий летний выходной. Пончики на обед, не вылезая из кровати. Скомканные простыни в крошках. Полоса света на спине сладко дремлющей Акеми. Пальцы Рене, монотонно перебирающие пряди её растрёпанных волос.
Идиллию нарушает стук в дверь. Деликатный, негромкий — но Акеми откуда-то знает, что в тот момент, когда незваный гость обозначил себя, день прекратил быть добрым. Рене вскакивает, быстро натягивает штаны, бросает Акеми одну из своих сорочек и спешит к входной двери. Девушка облачается в рубашку, вдыхая пропитавший ткань запах хозяина, приводит кровать в идеальный вид и прислушивается.
— Здорово, Шаман, — слышится из кухни низкий мужской голос. — Не помешаю?
— Проходи.
Тяжёлые шаги приближаются. Акеми в замешательстве прячется в душевую.
— Плохие новости, — мрачно объявляет гость. — Моих ребят около Ядра разогнали полицаи. А сегодня ночью в шестом секторе выловили всех узкоглазых. Руководил облавой лично Советник Каро.
— Та-а-ак… — тянет Рене, и Акеми чудится торжество в его голосе. — Заработало. Народ шумит?
— Шумит, куда он денется.
— Из твоей сотни никто не пострадал?
— Нет, все действовали слаженно, рассосались очень быстро. За исключением мелких царапин и пары синяков, повреждений нет.
Акеми хмурится, пытаясь уловить суть диалога. Ей пока ясно только одно: в её родном секторе власти устроили массовые аресты. И это всё из-за неё. Пока она тут прохлаждается в неге и роскоши, несколько маленьких японских семей арестованы. Девушка прижимается спиной к влажной стене. И снова её охватывает гнетущее чувство вины — как в ту ночь, когда забрали отца и Кейко.
«Что я могла сделать? Что изменило бы моё вмешательство? Будь я там, вышло бы всё иначе?» — спрашивает себя Акеми. И не находит ответа.
— Если бы я сдалась, это спасло бы их? — шёпотом спрашивает она внезапно возникшего перед ней Клермона.
— Первое: не реветь при гостях. Второе: нет, не спасло бы. О ком бы ты ни говорила, — строго чеканит Рене. И тянет её за руку: — Выходи, не прячься.
Она покорно идёт за ним, вытирая слёзы тыльной стороной руки. Гость — немолодой, лысеющий крепкий мужчина — лежит, по-хозяйски развалившись на кровати, и смотрит на Акеми разочарованно.
— Шаман, это твоя очередная Мишель? — интересуется визитёр.
— Знакомься, Акеми: это Тибо Будро. Он замечательный художник и потрясающий воображение хам, — бодро сообщает Рене. — Работает на одну из газет, приносит нам свежие новости. Тибо, это Акеми Дарэ Ка.
— Угу. Та самая, — понимающе кивает Тибо, рассматривая девушку. — А выглядит как твоя очередная Мишель. И одета так же.
Акеми мгновенно вскипает. Сжимает кулаки, собирая пальцы, как на днях учил её Рене. Поднимает на насмешника презрительный взгляд. Клермон становится за её спиной, обнимает за плечи.
— Дорогой мой друг, то, как она одета, тебя совершенно не касается. Акеми, переоденься на кухне. И взбодрись. Пора представить тебя семье.
Если лечь животом на парапет крыши высотки и посмотреть вниз, мир изменится. Он потеряет привычный размер, обретёт новую форму и станет недосягаем, как странный сон. Люди станут похожими на крошки хлеба, рассыпанные по столу. Исчезнут голоса, лица, необходимость смотреть под ноги из страха наступить на ярко-голубой кристалл Льда. Останется дыхание фабрик, плоская сетка улиц, напоминающая линии на ладони, и единственный цвет — желтовато-серый с вариациями оттенков. Летом весь Третий круг покрыт пылью, она повсюду. Даже здесь, на крыше. Отец Ксавье говорил, что весь мёртвый мир теперь такой — пыльный и лишённый цвета.
Жиль бросает ещё один взгляд на вечереющий город, осторожно сползает с щербатого парапета и ложится на спину, раскинув руки крестом. Мир внизу перестаёт существовать, остаётся лишь огромное небо, расчерченное изогнутыми линиями конструкций Купола. Жиль знает, что на самом деле эти линии — толстенные металлические балки, в которые встроены фильтры, очищающие воздух от диоксида азота. Если прислушаться, можно услышать, как Купол тихонько гудит, выполняя свою работу.
«Он действует по принципу зонта: чем ближе ты к центру, тем лучше зонт защищает тебя от дождя. А по краям защита слабее, ты намокаешь, хоть и находишься под зонтом. Так же и Купол: воздух проникает в город не только через систему очистки в балках, потому в Третьем круге он содержит солидную примесь диоксида азота. Людям приходится носить фильтры, чтобы гем в их крови не разрушался», — звучит в голове голос священника.
Полтора года назад Жиль на себе прочувствовал, каково находиться вне Купола без защиты. Они попали в шторм на «Проныре» и вернулись на десять часов позже запланированного. К тому моменту фильтры у всей команды исчерпали резерв и гнали в лёгкие неочищенный воздух. Жиль плохо помнит, как они сошли на берег. Страшно болела голова, перед глазами плыли тёмные пятна и точки, сердце колотилось в груди, то замирая, то разгоняясь заново. Их всех тогда на три дня заперли в госпитале, кололи уколы, давали дышать воздухом из баллонов. Жиль поправлялся хуже всех, и за ним ухаживала Акеми. Бледная, с синяками под глазами, она тогда показалась Жилю сказочно красивой.
«Она всегда красивая. Когда злится, когда плачет, когда серьёзна, — с тоской думает Жиль, глядя сквозь пальцы на диск солнца, клонящийся к закату. — Кейко тоже была красивой, но Акеми — настоящая. Настолько, что я её вижу, даже когда она далеко. Только глаза закрыть — и вот она. Даже больно становится».
Жиль закрывает ладонью шрамы на лице, пытается улыбнуться.
— У т-тебя всё б-бу-удет хорошо, — сообщает он невидимой Акеми. — И родятся к-красивые дети. В-вот так вот.
Вдох обрывается на середине, превращаясь во всхлипывание — протяжное, детское. Жиль зажимает себе рот, катается по крыше в пыли. Вездесущие мелкие камешки обдирают плечи и кисти рук, грязь скрипит на зубах. Нет, не легче. Жиль встаёт и, пошатываясь, идёт к парапету. Останавливается на самом краю, смотрит в небо, вытирая лицо тыльной стороной руки. Сейчас линии Купола кажутся ему решёткой. Раньше, если он долго всматривался в небо с крыши и потом переводил взгляд вдаль, ему виделся мост, огромный длинный мост, конец которого терялся вдали. Он тогда верил, что мост ведёт в другой мир, несомненно — лучший. Верил, но больше не верит.
«Нет там ничего. Пустота. Если бы что-то было, разве не приходили бы оттуда мама и папа?» — думает Жиль и переводит взгляд вниз.
Длинные тени ползут от домов, город размазывается в грязное пятно. Где-то внизу люди, которым нет до Жиля никакого дела. Копошатся, как блохи. Грязь и блохи — вот вам и дом, который остался у человечества. Зачем туда возвращаться?
Подниматься на выщербленный ветрами край не страшно. Абсолютно. Там, внизу — просто рисунок. А когда ты сам станешь частью этого рисунка, ты уже ничего не почувствуешь. И перестанет болеть от голода живот, и не нужно будет думать, что ботинки протёрлись до здоровых дыр. И красть еду больше не потребуется.
Порыв ветра подталкивает в спину. Жиль раскидывает руки, стараясь сохранить равновесие. И вдруг вспоминает о заколке в виде бабочки, спрятанной в глубине кармана.
Шаг назад. Сесть, прислонившись спиной к двери, за которой витками вниз уходит лестница. Выровнять дыхание, сглотнуть раз и другой. Достать из кармана застиранную тряпицу, размотать. Посадить на ладонь хрупкое создание из серебра и цветного стекла, погладить кончиками пальцев.
— Д-дурак я, — покаянно шепчет бабочке Жиль. — Я т-тебя никогда н-не б-брошу…
Спускаться по лестнице оказывается почему-то труднее, чем подниматься. Когда Жиль шёл на крышу, он был пуст, свободен от мыслей, стремлений, планов. Теперь разом навалилась одуряющая голодная слабость и страх. Работы нет и не будет, поесть столовские остатки из мусорных контейнеров не удаётся вот уже третий день. Говорят, Каро урезал продуктовое снабжение Третьему кругу. Сволочь.
Жиль сжимает кулаки и зло сплёвывает через ветхие перила.
«Мало им Кейко. Акеми не сдастся — и они отыграются на других, — думает Жиль, механически шагая по ступенькам. — А я её не сдам. Никому и никогда».
К трём часам ночи хромающий и шатающийся от усталости мальчишка подходит к заведению Сириля. С минуту долбит по крепкой двери и усаживается на крыльцо. Ёжится от ночного холода, натягивает на голову капюшон безрукавки, обнимает себя за плечи. Громыхнув, дверь открывается, выпустив на улицу высокого детину с выбритыми полосами на висках — знаком охраны Сириля.
— Ты стучал? — спрашивает охранник, нависая над мальчишкой.
Жиль молча кивает.
— Что надо?
— Д-дело к Сирилю, — отвечает Жиль, не поднимая головы.
— Вали отсюда, — ворчит детина и разворачивается, чтобы уйти, но Жиль хватает его за штанину.
Охранник склоняется, замахиваясь, но Жиль с лёгкостью уворачивается от оплеухи, не сходя с места.
— Пшёл отсюда!
Носок ботинка врезается мальчишке в тощий бок. Жиль проглатывает боль, поднимает на охранника взгляд, ухмыляется и произносит:
— Д-давай ещё раз.
И когда верзила примеряется пнуть его второй раз, Жиль резко дёргает его на себя за голень. Охранник падает, как мешок с мусором, матерится и охает. Мальчишка слегка отодвигается в сторону, ждёт.
— Я останусь т-тут. И п-передай Сирилю: д-далёк от нас суд, и п-правосудие не достигает до нас; ждём св-вета, и вот тьма, — озарения, и х-ходим во мраке[15], — говорит он, когда охранник поднимается на ноги.
Детина бурчит что-то неразборчивое и исчезает за дверью. Жиль прислоняется спиной к шершавой бетонной стене и закрывает глаза.
«Он вспомнит. Обязан. Учитель говорил, что договор между ними нерушим», — думает мальчишка, поглаживая ушибленный бок.
Он успевает задремать, когда дверь снова открывается. Сильная рука вздёргивает его за шиворот, на голову набрасывают не то мешок, не то тряпку, правую кисть заворачивают за спину. Жиль и не думает сопротивляться: покорно плетётся туда, куда его направляют. Всё хорошо, говорит он себе, всё правильно. Он не считает повороты, подъёмы по лестнице, спуск вниз. Зачем всё это запоминать, если не видишь смысла возвращаться обратно?
Лязгает дверной засов. Звук шагов приобретает иной оттенок: коридор сменился комнатой. Толчком в плечо Жиля заставляют сесть, и он неуклюже плюхается на стул. Тут же на запястьях за спиной смыкаются металлические браслеты. Мешок с головы снимают, и заливающий комнату свет бьёт в глаза.
— Доброе раннее утро, — звучит из-за плеча знакомый голос. — Не чаял тебя ещё раз увидеть. Что тебя сюда привело, Жиль?
— Мне н-нуж-жна работа.
— Наглец, — голос Сириля теплеет. — Твоя косая подружка обеспечила весь сектор неприятностями, а ты работу просишь. Мне проще тебя сдать полиции. Или ты пришёл рассказать мне, где девка?
— Зн-нал бы — не п-пришёл, — угрюмо отвечает мальчишка.
Сириль обходит его, становится напротив, загораживая свет. Он в халате из искусственного шёлка, волосы всклокочены. Видимо, его подняли с кровати. Теперь Жиль может рассмотреть комнату, в которой находится. Ничего примечательного: бетонный куб четыре на четыре метра, одна мерцающая лампа под потолком, и вторая — за спиной Сириля, на большом пластиковом ящике. Судя по сопению позади Жиля, у двери ещё и телохранитель стоит.
— Это легко проверить, дружок, — качает головой Сириль. — Никто не может терпеть боль долго. Если потребуется — ты быстро скажешь, где она и с кем.
— Зн-наю, не д-дурак. Будь я с ней — не искал бы раб-боту у т-тебя, — собственный голос успокаивает, Жиль говорит всё увереннее. — Но она ушла, а я один. В-вот так вот.
— Ну-ну, — Сириль присаживается на корточки перед мальчишкой. — И теперь наш бравый вояка не может нигде приткнуться, кушать нечего даже в мусорных баках, а любая попытка устроиться на работу через соцслужбу выдаст тебя властям. Но подыхать не хочется, и ты хватаешься за последний шанс. Так?
— Да.
— А почему ты думаешь, что я тебе помогу?
Жиль медлит, внимательно изучая лицо Сириля. Спокойное, немного печальное лицо немолодого человека, от которого сейчас полностью зависит его, Жиля, судьба.
— Вы м-могли не впустить. Пропустить мимо ушей т-то, что я п-передал. Но у вас д-договор. Сейчас неспокойно, и в-вам нужны бойцы. И вы — ч-человек слова.
— А ты — лучший мечник из учеников Ланглу, — кивает Сириль. — Я помню. А что ты не пошёл в Собор?
— Там я н-на свету. Тут б-буду в тени.
— Логично. Да. Пожалуй, ты мне пригодишься. Но с условием.
Сириль подходит к ящику, выключает раздражающую глаза лампу и продолжает:
— Полгода ты не выходишь из этого здания. Вообще. В крайнем случае — только с моего позволения и в сопровождении. Для меня это вопрос моей безопасности. Для тебя — вопрос жизни. Ну?
Испытующий, цепкий взгляд словно пытается просверлить в Жиле дыру. Мальчишка отводит глаза.
— Я с-согласен.
Сириль кивает и улыбается углами рта. С Жиля тут же снимают наручники, наскоро обыскивают. Он стоит посреди комнаты, обессилевший и поникший. Вот и всё. Теперь ты при деле, парень. А она… не в первый раз уходить с пути дорогого человека, чтобы не мешать.
— Так, — распоряжается Сириль охраннику. — Мальца — в комнату Дидье с комплектом одежды и постелью. Жиль, завтрак в восемь. И придётся тебе ладить с моими людьми. И потерпеть, если они решат на тебе отыграться за былое. Понял, боец?
Жиль равнодушно кивает и покорно выходит в коридор. Сириль гасит в комнате свет и возвращается в свою кровать. Ни один, ни другой не испытывают сомнений в верности принятого решения.
— Ты зря сюда пришёл, — неторопливо помешивая ложкой кашу с соевым «мясом», говорит Дидье.
Жиль молчит, смотрит в свою тарелку. Лучше всего не отвечать — так Дидье быстрее отвянет. Если ему нравится раз за разом садиться напротив в столовой и изводить бывшего приятеля язвительными речами — это его проблема, но никак не Жиля. К тому же Сириль велел терпеть — и Жиль терпит вот уже третий день. Молча моет полы на трёх этажах и несёт вахту в самые поганые часы, когда спать хочется больше, чем жить. Всё это вполне терпимо, когда над душой не стоит поганец Дидье. В первую же ночь он от души отпинал Жиля — но, видимо, этого ему было мало. Стоило мальчишкам оказаться вне поля зрения Сириля, и Дидье из кожи вон лез, чтобы зацепить Жиля побольнее.
— Думаешь, раз ты старше, чем я, тебе тут что-то светит? — вполголоса спрашивает он, поправляя воротник добротного жилета из искусственной кожи. — Думаешь, словишь шанс, выпендришься — и тебя заметят? Ха! Тебя взяли только потому, что у нашего прежнего мойщика сортиров кулак в унитазе застревал.
Старательно считая про себя до ста, Жиль доедает суп, облизывает ложку и подчищает остатки в тарелке куском лепёшки. Руки чешутся засветить мальцу в ровно выбритую полоску на аккуратно подстриженном виске, но нельзя. Хотя это так просто, когда соперник на голову ниже тебя ростом и явно себя переоценивает.
— Попрошу, чтобы тебе жратвы меньше давали. Подольше протянешь на своём месте, — продолжает Дидье.
Он откидывается на спинку стула и, красуясь, напрягает бицепсы то одного плеча, то другого. Жилю откровенно наплевать, в какой Дидье форме. Ему сейчас куда важнее не дать этому придурку в нос.






