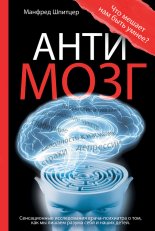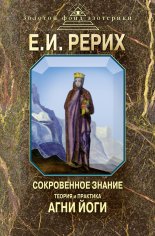Уроки русской любви Голованивская Мария

– Удобно тебе? – спросил он.
– Мне хорошо. Мне очень хорошо.
– Ну и ладно. Спи, моя дорогая.
Странно, она и в самом деле заснула. От усталости, испуга, от полноты чувств. Проснулась среди ночи. Александр Иванович не спал. Он сидел, бережно ее охраняя, и его строгое красивое лицо обращено было к окну, откуда светили звезды. Верочка всполошилась:
– Ой, я заснула.
– И очень хорошо, что заснула.
– Вы, наверно, устали меня держать, я такая тяжелая.
– Нет, я не устал тебя держать.
– Вы не спали?
– Нет, я не спал. Я думал.
– О чем?
– Я думал: чем я заслужил такое счастье? И чем я смогу тебе за него заплатить? Жизни не хватит.
Верочка заплакала (какие прекрасные слова!) и, сморкаясь, спросила:
– И тебе в самом деле не тяжело?
– Нет, не тяжело. Всю жизнь я буду держать тебя на руках, любимая. Не беспокойся, спи…
Встали они рано. Видно, все-таки Верочка была тяжеловата, и у Александра Ивановича затекли ноги. Утро сияло первым, еще прохладным блеском. В доме было тихо. Взявшись за руки, они вышли на крыльцо. Пахло укропом, колокольчики “крученого паныча” еще не раскрылись. Высоко-высоко в небе черными мухами носились ласточки – к хорошей погоде. На крыше соседнего дома, важно укрепившись на своем колесе, хозяин-аист ел лягушку, клюв его был ярко-красным, лягушка – зеленой, как на детской картинке. Рано встав, как и они, аист уже приступил к своим дневным заботам.
Рядом топили печь, и голубой дым, не тревожимый ветром, легким столбиком восходил кверху.
Александр Иванович обнял Верочку и сказал:
– Ты – вся моя жизнь.
Бессонница (1977)
АЛЕКСАНДР КРОН (1909–1983)
Я молчу. Бета закуривает. Руки у нее не дрожат, и она не ломает спичек, но я вижу, как она напряжена. Когда я нервничаю во время операции, у меня тоже не дрожат руки и я ничего не ломаю.
– Я знаю, что ты думаешь, – говорит Бета. – А если не подумал уже, то подумаешь непременно: “Ну хорошо, ты любила Пашу. Но зачем тебе был нужен я? Зачем ты играла со мной в любовь и держала меня на привязи? На всякий случай?” Вот это и есть главная причина, по которой я не хотела никаких объяснений. Я считала, что ты не смеешь так думать и обязан все понимать сам, а если не понимаешь, то тем хуже для тебя. А притом позволяла себе думать о тебе еще более плоско: вот женился на генеральской дочке, при поддержке тестя вполз в генералы… Откуда в нас эта гнусность?
Вопрос совсем не такой уж риторический. Я сам об этом думаю.
– Нынче я уже не та. Научилась быть строже к себе и терпимее к людям. Я больше не думаю так о тебе и все чаще спрашиваю себя: а не была ли я на самом деле маленькой хитрой дрянью, нарочно задиравшей нос, чтоб никто не посмел бросить ей в лицо что-то такое, чего она не знала, но боялась? Любила ли я тебя? Для того, чтоб ответить, надо знать, что такое любовь, а я узнала это много позже. Ты всегда был мне мил, и когда мы с тобой женихались, я искренне верила, что люблю тебя. Верила, а в это время где-то в самой глубине души кто-то более умный, чем я, знал, что тут что-то не то, и возводил баррикады. Помнишь, как мы отчаянно ссорились, как я пользовалась любым поводом, чтоб избежать последней близости, а ведь я не ханжа и не склочница, я сама не понимала, какая злая сила меня ведет, сколько раз я плакала от ненависти к себе и давала слово быть с тобой ласковой, доверчивой и покорной, а наутро все начиналось сначала, я следила за каждым твоим словом, за каждым шагом, как враг из засады, и не прощала тебе ничего – ты был моим избранником, и я требовала от тебя совершенства, недоступного мне самой, я гордилась своей способностью видеть твои слабости, своим беспристрастием, и мне почему-то не приходило в голову, что любовь – это и есть пристрастие, если женщина беспристрастна, то вернее всего она не любит. Вероятно, всего этого не надо говорить мужчине, в особенности если собираешься просить его не о пустой услуге. Но мне нечем отплатить тебе, кроме правды, и ты будешь знать то, что я могу доверить только тебе… <…>
Самшитовый лес (1979)
МИХАИЛ АНЧАРОВ (1923–1990)
“Ну а дальше что?” – подумал Сапожников.
– Вы, наверно, думаете, что вы еще молодой? – сказала Людмила Васильевна.
– Сейчас посмотрю, – сказал Сапожников и встал из-за стола. Но подошел не к зеркалу, а к распахнутому окну посмотреться в черное стекло. Серый пепел луны. Татарская гармонь за окном. У ворот псы болтают конечностями.
– Я не романтик, – сказал Сапожников. – Я социалистический сентименталист. Карамзинист. Ибо пейзанки тоже чувствовать умеют. Я бедная Лиза.
– Простудитесь, – сказала Людмила Васильевна.
В новой квартире нужен трехламповый торшер, а на стенку Хемингуэя. Белье дома не стирать. Ни в коем случае. Только прачечная.
– Людмила Васильевна, когда вы приходите на пляж, в Серебряный бор, и видите много молоденьких девчонок в бикини, вам никогда не хочется расстрелять их из пулемета? – сказал Сапожников.
– Из чего?
“Нет-нет, – подумал Сапожников. – Никаких художеств. Скука, конечно, не двигатель прогресса, ну а с другой стороны, зачем он, прогресс-то?”
<…>
– Они мне сообщили, что у тебя инфаркт был из-за меня.
– Они романтики.
Она усмехнулась пренебрежительно, а Сапожников, чтобы ее утешить и выделить из общей массы людей, сказал:
– Им непременно надо, чтобы из-за любви был инфаркт, а еще лучше – помереть. Тогда будет о чем рассказывать и бегать из дома в дом высунув язык.
– У нас же ничего с тобой не было, – сказала она.
– Им это неинтересно. Им интересно, чтоб было.
– Мне тоже.
– Но тут уже ничего не поделаешь.
– А может быть, ты циник? – спросила она.
– Нет, – сказал Сапожников. – Я механик.
– Ты всем голову морочишь.
– Что правда, то правда.
– Слушай, а из-за чего у тебя был инфаркт?
– Ну-у, товарищи! – сказал Сапожников. – Медицина этого не знает, а ты хочешь, чтобы я знал! А был ли инфаркт? Может, инфаркта-то и не было?
– У тебя ужасное отношение к женщине.
– Да, – подтвердил Сапожников, – что правда, то правда. Хотя, скорее всего, нет.
– А зачем ты мне тогда в любви объяснялся? Откуда я знаю, может быть, ты каждый вечер объясняешься?
– Господи, – удивился Сапожников. – Если б я мог каждый вечер объясняться, я бы объяснялся! Нет, каждый вечер я не могу. Я бы тогда был не Сапожников, а господь бог.
Это я, Эдичка
ЭДУАРД ЛИМОНОВ
Здесь должен был быть отрывок из романа “Это я, Эдичка”, но автор не дал своего разрешения на его публикацию.
Любовь с акцентом
Алена Долецкая
С Лимоновым-писателем я, как редактор глянцевого журнала, сталкивалась дважды. И, признаться, была готова к тому, что не все с ним получится гладко и комфортно. Первый раз для русского Vogue в 2007 году мы заказали ему колонку о том, как он относится к женщинам, которые установили себе искусственную грудь или произвели любую другую пластику. Как, мол, он относится к этой рукотворной красоте? Возбуждает ли она его как живописателя небезысвестной “пипки”, как известного ценителя юных девичьих тел. Лимонов, если кто не знает, всегда присылает написанное от руки, и мы ждали манускрипт, политый писательским потом. Получили и с трепетом развернули. Это была история о том, как он ехал с некой зечкой. И эта зечка была и такая и сякая, и она была то ли “не попиленная”, то ли “попиленная”, то есть в шрамах и татуировках. Так он интерпретировал эту тему. Мы ему про любовь или на худой конец про силиконовые красоты, а он нам в ответ старательно, рукописно – про политику и про страдание борца.
Было, однако, и продолжение знакомства, спустя четыре года для русского Interview. Решили мы сделать в журнале материал про группу “Война” и попросили Лимонова взять интервью у них. Идейно они были близки друг другу – и те и другие экстремисты, сомнений нет. Но засада поджидала не на месте идей, а на месте логистики. Лимонов общался только записками через дверь. “Война” конспирировалась от полиции так, что в редакцию на фотосессию пришлось провозить их в багажнике моего автомобиля. Но еще туда нужно было доставить Лимонова. Поехали за ним. Звонили, звонили, заранее условившись через записки десять раз. Ни гу-гу. Он просто не открыл дверь. Говорят, он был с некой девой. В общем, получилось не то что шершаво, а ровным счетом ничего.
Это, наверное, и есть экстремизм, когда на все договоренности и конвенции в широком смысле наплевать. Герой и его натура есть некоторая правда, которая выше любых норм. Понятно, почему Лимонов и теперь не изменился.
Роман “Это я, Эдичка” (в 1979-м – контрабандный, из-под полы) атомно ударил по всем эрогенным местам младой советской интеллигенции того времени. Это была какая-то дикая и очень желанная правда, идущая поверх всех барьеров приличия, это был язык другого мира.
Прямо от самого что ни на есть первого лица (как мы тогда думали) Лимонов рассказывал про свой секс, свою любовь, свою эмиграцию, терроризм и писательскую тяжелую судьбу – это звучало как откровение невиданного масштаба. Каждые пятнадцать страниц герой романа хватается за пистолет или за свой или за чужой половой член, который в наиболее трепетный момент он называет хуем:
“Я начал ласкать свой член. И он стал хуем”. Метаморфоза обычная, совсем не загадочная, но это по нынешним временам, а тогда, когда ничего было нельзя, названная прямо, она била наотмашь. Ошалевшие от удара дрочили на этот роман, на каждую его страницу, и никакое литературоведение не в состоянии затмить этого обстоятельства. То был в чистом виде терроризм. Лимонов хотел взорвать этот мир, хоть пулеметом, хоть членом – и мы взорвались.
Взорвались от фактов, событий и в неменьшей степени от языка. Английский писатель и блистательный стилист Джозеф Конрад знал и любил русскую литературу, и говорил, что англичанам достаточно одной фразы, а вот русским понадобится двенадцать, потому что они будут ходить вокруг да около, путаными закоулками, и никогда не назовут лопату – лопатой. Лимонов взорвал и эту традицию русской классики.
Никто из одаренных русских не писал матом про любовную тоску, одиночество и отверженность (Чарльза Буковски мы тогда не читали), все доступное нам “потаенное”. В любовных объяснениях Лимонова мат выступает почти как сакральный язык. Он не использует запрещенные слова как междометия или не по делу, он не позволяет себе фразочки типа “Я, бля, нахуй, в пизду, устал”. Срамная молитва о любви – вот что был его первый роман.
Но главное, конечно, было не в матерной лексике (за сорок лет провокация стала мейнстримом, хотя изобретательная Госдума много делает для возвращения утраченного) и не в пустырном соитии с негром Крисом (по нынешним нравам – почти целомудренном), а вот в этой голой, по-детски отважной нежности двух “бездомных детей города”: “Я сказал ему: – Дарлинг. Он ответил мне: – Май бэби”.
Тут, кажется, все заемное, все “импорт”, “джинсы” и “жувачка”. Отсюда и используемая им калька “делать любовь”. Английское “make love” или “have sex” он переводит как троечник по английскому языку (каковым герой Эдичка и был), и от этого в описании всех любовных страданий героя появляется нелепый и странный акцент. Как будто и любовь у него переводная, с невытравливаемым русским акцентом. Инсталляцией отчаяния и оставленности кажется и сама та легкость, с которой он ложится под роскошного черного Криса. Он говорит на чужом языке.
Лимонов проповедует в романе, что спасти мироздание можно только через любовь, что трагедия всех социальных устройств заключается именно в том, что люди перестали уметь любить, из-за не-любви появляется неравенство. Но ведет себя Эдичка как экстремист, он даже для самых левых американцев слишком экстремален.
И при этом, при его резкости, грубости и экстремизме – вдруг удивительная нежность и тонкость чувств. Он в бреду, Елена бросила его, как с этим быть?! Разве это проблема для экстремиста, хулигана, оруженосца? Он говорит, что фактически совокуплялся с духом. “В конце концов в ее отсутствие я совокуплялся с духом, обыкновенно совокупления были групповыми, т. е. она ебалась с кем-то у меня на виду, потом я ебал ее. Закрыв глаза, я представлял все это, воздвигал очень сложные конструкции. Во время этих сеансов глаза у меня были полны слез, я рыдал, ну что мне оставалось делать, рыдал и кончал, и сперма выплескивалась на мой уже загорелый живот. Ах, какой у меня животик, прелесть! Бедное Эдичкино тельце, до чего довела его паршивая русская девка, сестра моя, сестричка, моя дурочка”.
Моя сестричка, моя девочка, май бэби, дарлинг: это детский плач в темноте. Все партнеры Эдички – тень, дух, Крис, великий город, собственное тело – просто заместительные объекты, заместительный язык. Через много лет графиня Елена Щапова де Карли, прошедшая через десятки романов и недороманов, будет рассказывать, как по прибытии в Америку она стеснялась молодого Эдички – безнадежный провинциал, он плохо знал английский и не был принят в приличном обществе (а она, конечно, была принята с распростертыми), он ходил по мосту на высоких каблуках и в рубашке жабо, он был беден и нелеп в своей ревности и страсти, этот подросток Савенко из харьковского предместья, – и невозможно поверить, что из тоски по этой, в сущности, мещанской, самого благонамеренного толка красавице родилась великая книга, а потом и великая биография.
Что со всем этим сделало время? Какие угли остались от этого пожара? Единственное, что не стало мифом – страстный радикализм Эдуарда Лимонова.
Как он сегодня говорит о любви? Что он шептал той девушке, из-за которой сорвалось наше интервью? Трудно сказать. Мне хочется верить, что если чем и был вдохновлен тот шепот, то той любовной исповедью, что приведена в этой книге.
Иностранка (1986)
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ (1941–1990)
Сначала Рафаэль был обстоятельством места и времени.
Затем оказалось, что Маруся сидит в его разбитом автомобиле. Что они возвращаются из ресторана “Дель Монико”. Что Левушка уснул в машине. И что рука с фальшивым перстнем гладит Мусину ладонь.
– Ноу, – сказала Муся.
И переложила чью-то руку на горячее сиденье.
– Бай нот? – спросил латиноамериканец. И ласково потрогал ее округлое колено.
– Ноу, – сказала Муся.
И прикрыла его рукой свою ладонь.
– Бай нот? – спросил латиноамериканец. И потянулся к вырезу на ее блузке.
– Ноу.
Она переложила его руку на колено.
– Бай нот?
Он положил ей руку на бедро.
– Ноу.
Маруся потянула вверх его ладонь.
– Бай нот?..
Одна его рука возилась с пуговицами на блузке. Вторая с некоторым упорством раздвигала ей колени.
Маруся успела подумать: “Как он ведет машину? Вернее – чем?..”
Автомобиль тем не менее двигался ровно. Только раз они задели борт чужого “мерседеса”.
При этом рук своих латиноамериканец так и не убрал. Лишь шевельнул коленями.
– Ты ненормальный, – она старалась говорить погромче, – крейзи!
Рафаэль, не останавливая машины, достал из кармана синий фломастер. Приставил его к своей выпуклой груди, обтянутой нейлоновым джемпером. Быстро нарисовал огромных размеров сердце. И сразу полез целоваться.
Дети Арбата (1966, опубл. 1987)
АНАТОЛИЙ РЫБАКОВ (1911–1998)
Когда ему было семнадцать лет, он ездил с мамой в Липецк.
К хозяйке, у которой они жили, приехала невестка из Самары, муж ее служил там на железной дороге. Звали ее Елизавета Петровна – худенькая блондинка в халатике, едва запахнутом на голом теле. Она смотрела на Сашу узким, косоватым взглядом, двусмысленно улыбалась, жеманилась, маленькая мещаночка из Самары. <…>
– Са-шша… – сказала она однажды, растягивая букву “ш”,
Он подошел, сел рядом.
– Саш-ш-ша, – тянула она, поворачиваясь к нему, халатик ее распахнулся, обнажив белое худенькое плечо и маленькую грудь. – Саша… Где вы гуляете весь день? С девушками? Расскажите мне…
Он не мог выговорить ни слова, смотрел на ее плотно сжатые ноги, на маленькую белую грудь… Солнце пекло сухо, жужжала оса, пахло яблоками, Саша не мог встать, не мог пошевельнуться, со стыдом чувствовал, что она все видит, все понимает, улыбается своей двусмысленной улыбкой и в душе посмеивается над ним.
– Все читаете, читаете, совсем зачитаетесь.
Она взяла из его рук томик Франса.
– Не отдам!
И спрятала книгу за спину. Он потянулся за книгой, их руки сплелись, его обдало жаром ее тела, она бросила вороватый взгляд на калитку, откинула голову, тяжело задышала, на лице ее появилось что-то отрешенное, тайное. Она охватила его шею горячими руками, притянула к себе, губы его коснулись ее губ, и она опустилась на спину.
Потом она заглядывала ему в глаза и смеялась.
– Смотри, что наделал… Теперь придется застирывать. А тебе неприятно, скажи?.. Ничего, миленький, это только в первый раз неприятно, ты ведь в первый раз, ну скажи, правда?
Ему было стыдно, он избегал ее, но на следующий день за обедом она сказала:
– Саша, будьте мужчиной, покатайте меня на лодке.
– Поезжай, Саша, – сказала мама, горевавшая, что в Липецке Саше скучно.
Они переехали на лодке на другой берег Воронежа – так называется река в Липецке, – и здесь, на лугу, она рассчитанно и деловито отдалась ему.
Ночью она пришла к нему, он спал в столовой на диване, и приходила каждую ночь, а днем увозила на другой берег Воронежа.
Русская красавица (1980–1982, опубл. 1989)
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ (род. 1947)
<…> Ритуля вообще недолюбливает иностранных женщин за то, что они претендуют на львиную долю иностранных мужчин. Но ко мне она очень добра и ласкова, как козочка. Второй месяц живу у Ритули в состоянии ежеминутного переполоха. Я верю в нежные узы женской дружбы. Без них я бы совсем погибла. – Ты бы лучше позвонила своему Гавлееву! – советует Ритуля. А что Гавлеев? Он тоже от меня отшатнулся. Да ну их, опротивели все! А раньше я и трех дней не могла прожить, я благоухала, как голубой бергамотовый сад в лунную ночь, когда звезды торчат в южном небе, а рядом в волнах плещется моя Ксюша. Но сад растоптали.
<…>
Как передать состояние, когда отключаешься и начинаешь жить в другом измерении, заложив всю себя в ломбард, отдавшись на поруки доброму попечителю, с которым, однако, встреч не бывает? А иногда вдруг всплывешь на поверхность и держишься на воде, а потом снова под воду и – до свидания!
Так, всплывая в ту ночь в разомкнутые мгновения, я находила себя в кровати, а рядом барахталась Ксюша, ее искривленное лицо потянулось ко мне, вытянулось и укусило так, что я встрепенулась и не могла сообразить – не то возразить, не то согласиться с таким отношением, однако была отвлечена видением более категорического порядка, которое уставилось мне в щеку и стало горячим. Я схватила его и, оттянув – он вздрогнул и выгнулся, – сказала ему: Здравствуй, вождь краснокожих! Упершись коленями в мякоть постели, обласкав его для приветствия, была удивлена тем обстоятельством, отчего, видно, и всплыла, что некий другой вождь впился в меня с совершенно иной стороны, а Ксюша, как луна, взошла откуда-то с правого бока. Казалось, меня обложили, и я недоумевала, представленная на крыльце одному Антону, не мог же он настолько раздвоиться, однако была занята и только удивленно промычала, да и Ксюша наконец-то попалась, но вместо того, чтобы от меня отползти, она еще больше прижалась, и мы, обнявшись, поднялись в воздух. Охваченные волнением, пламенем и оттопырясь, мы набрали высоту и – понеслись! понеслись! вытянув головы, наперегонки, смеясь и повизгивая – понеслись! понеслись! И снова я отключаюсь, и память спит – вдруг боль и мой возглас! Наступив на бокал, я порезалась и притянула к себе ступню. Ксюша, как собака, зализывала мне рану, а я лежала навзничь и стонала под одобрительный гул – и снова Ксюша, с губами в крови, как в вишне, дурашливая, родная – и я заплакала от нестерпимой любви к ней – на фоне поверженного гиганта, который, собираясь с силами, повис уныло и безветренно. Тряпочка. Но не в наших с Ксюшей принципах отступаться! Я жалостливая, как всякая баба. Делаю чудеса и глупости одновременно.
<…>
Нет, было, конечно, немало достойных людей, от их трофеев ломится мой туалетный столик, и они меня будоражили, я всегда была доступна своему наслаждению, хотя Ксюша, мудрая, как кошка, научила меня смотреть на мужчин более независимо и зависеть от них лишь в согласии с прихотью, но прихоть моя в тот душный вечер фантазии и полевых цветов, когда мы с Владимиром Сергеевичем приближались к Москве, отражавшейся в небе, была безгранична. – Владимир Сергеевич, – сказала я. – Я сделаю чудо. Не скрою: я гений любви… НО ЗА ЭТО ВЫ НА МНЕ ЖЕНИТЕСЬ!
Что стало с ним! Нет, что с ним стало! Ксюша, ты не поверишь! Он захохотал так, что мы буквально сбились с пути и помчались прямо под фары летящей на нас машины. Мы чуть не погибли от его хохота, в котором звучал восторг и полнейшее недоумение. Мы едва увильнули. К нам подбегал бешеный шофер, приготовившийся драться от страха за свою шоферскую жизнь. Но Владимир Сергеевич нашел подобающие слова. Шофер моментально скис и унялся.
Владимир Сергеевич был сильной личностью. Мы стояли на обочине с заглохшим мотором. Владимир Сергеевич снова положил мне руку на коленку, и снова пожал ее, и сказал односложно: – Еодится.
В небе горела Москва. Мы протяжно поцеловались. Прочувствованный и невинный, поцелуй скрепил договор, от которого содрогнулась в широкой кровати мерзавка Зинаида Васильевна.
<…>
Динаму кручу, а встречусь: веди в ресторан, или в филармонию, или в театр, культуры хочу! Он сразу скукожится, жмется, я тебе, говорит, лучше машину куплю. Покупай! Нет, спасибо! Не надо! Я в театр хочу! Идем в театр. Официально была с ним на вы, вплоть до самой кончины, соблюдала дистанцию, из уважения к профилю и за заслуги, а как Ксюша на помощь явилась: – Отчего, – первый вопрос в двери, – он умер?
– Как отчего? – отвечаю не колеблясь: – От восторга!
Оговорюсь и сейчас, принимая в свидетели бабушку, чей портрет не продам, скорее удавлюсь в ванной, а ванная, разве это ванная! – С газовой горелкой, газоаппарат, насмешка над современностью, зато горячая вода есть всегда, оговорюсь и сейчас, ибо происходим мы из княжеского рода, хотя и заблудшего на дорогах, потерянного в обстоятельствах: – Мой Леонардик умер от восторга!
Положа руку на сердце, я его не убивала. Я только довела его до восторга. Дальше он сам себя довел…
Моя золотая теща (1994)
ЮРИЙ НАГИБИН (1920–1994)
То, что мы делали, отличалось воистину олимпийской разнузданностью, когда боги, не стесняясь, творили любовь посреди божественного синклита. Я был равен небожителям бесстыдством, но не удачливостью. <…> Она делала вроде бы все возможное, чтобы помочь, но то была симуляция помощи, она помогала себе в последний миг ускользнуть.
Мы оба задыхались. Свет – звезд ли, фонарей – молочно высвечивал ее нагое тело в пене почти растерзанных одежд, и это не позволяло мне отступить или хотя бы сделать передышку. Прекрасная и ужасная борьба изнуряла меня, но не обессиливала. <…>
…Я долго относил эти повторяющиеся промахи за счет собственной неумелости, неудобства позы, нашей общей перевозбуж-денности и только потом понял, что она сознательно не допускала завершения. Как-то в голову не приходило, что моя теща, мать моей жены, была женщиной в расцвете лет и вполне могла еще иметь детей, а это никак не входило в ее намерения. Страх зачатия был сильнее хмеля. <…>
– Погоди, – сказала она задушенным голосом. – Ты меня замучил.
– Только ничего не прячьте, – сказал я, боясь, что она начнет застегиваться.
– Да нет же, дурачок! – заверила она с таким видом, будто я сморозил какую-то ребяческую чушь.
В подтексте интонации была уверенность, что голая женщина на центральном московском бульваре – явление вполне естественное. А может, нам казалось, что мы невидимки? Из дали лет все это выглядит нереальным. Но было, было…
– А вы понимаете, что я вас люблю? – сказал я. – По-настоящему люблю.
– Правда? – никогда не видел я таких круглых, таких распахнутых глаз. – Меня давно никто не любил.
– Я вас сразу полюбил. Как увидел. Разве вы этого не знаете?
И тут что-то случилось, чего я в первые мгновения не понял. У нее на лице проступила душа. И какая милая, какая неожиданная душа! Я вдруг увидел ее девочкой – любопытной, застенчивой, благодарной за любую радость, которую может дать жизнь, но согласную и на обман, лишь бы хоть чуть-чуть посветило.
– Холодно, – сказала она. – Можно, я оденусь?
– Погодите, – сказал я и стал целовать ее от глаз и губ к коленям.
Но когда желание опять толкнуло меня на штурм, она сказала:
– Не надо. Здесь все равно не выйдет. Мы найдем место.
– Сейчас?
– Ну, где же сейчас?.. Уже поздно. Наши давно спят. Можно, я оденусь?
Меня растрогало, что она вторично спрашивает моего разрешения, словно у меня есть какие-то права на нее. И еще я понял: после моего признания здесь, на скамейке, уже ничего не будет. Взята слишком высокая нота.
Мы привели себя в порядок. Я помог ей застегнуть грацию. В начале бульвара, совсем недалеко, повернувшись к нам спиной, стоял Пушкин. Наверное, он одобрял нас своей веселой душой. Одевшись, мы снова сели на скамейку.
– А как ты будешь меня звать? – спросила она, и душа покоилась на ее лице, как бы заново его выстроив: рельефнее стали надбровные дуги, чуть глубже глазницы, возвысились скулы, нежнее округлился подбородок.
– Милая, – ответил я.
– А ты не можешь говорить мне “ты”, когда мы вдвоем?
– Если мы будем близкими.
– А мы не близкие? Куда ж ближе.
– Вы сами знаете. Это будет?
Она наклонила голову.
<…>
<…> И тут она пришла. В легком платье-халате, босоножках и накинутой на плечи старой замшевой куртке Василия Кирилловича. После недавней грозы, как всегда, похолодало.
– Ты мне не рад?
– Я не ждал вас.
– Ты злишься?
– Уже нет.
– Но злился?
Я не ответил.
– Тебе хорошо было в последний раз?
– Я люблю вас. Мне нужны вы, а не… – я не нашел нужного слова.
Она же не захотела его угадать. Есть такой неприятный способ разговора, когда цепляются за слова, сознательно не слыша подразумеваемого смысла.
– А разве я не с тобой?
– Нет. Вы все время ускользаете. Вам нравится мучить меня. Вы заставляете меня за кого-то расплачиваться?
Она скинула на пол куртку. Не знаю, что она сделала с собой, но я вдруг увидел, какой она была девочкой. Что-то юное и прежде промелькивало в ней, но не становилось, как сейчас, новым воплощением. Доверчивое, открытое до беззащитности, юное существо отдавало мне себя без условий и соглашений.
Тридцатая любовь Марины
ВЛАДИМИР СОРОКИН
Здесь должен был быть отрывок из романа “Тридцатая любовь Марины”, но автор не дал своего разрешения на его публикацию.
Цена оргазма
Александр Генис
Любовь, а тем паче секс, в книге Сорокина происходит не в постели, а в языке.
Этот парадокс не сразу заметен, потому что роман постоянно эволюционирует, меняя стилевую и жанровую природу и приспосабливаясь к ней. Сперва автор выдает свою книгу за “советский «Декамерон»”. Сходство усугубляет то обстоятельство, что, как и у Боккаччо, это пир во время чумы, которую Марине, героине романа, заменяет ненавидимая ею советская власть.
Она ненавидела государство, пропитанное кровью и ложью, расползающееся раковой опухолью на нежно-голубом теле Земли.
Делая это до ёрничества плакатное заявление, автор открывает призвание своей героини. Марина у Сорокина, как Джулия в книге Оруэлла “1984”, мстит идеологии тем, что размывает тоталитарный монолит, найдя уязвимую щель в его устройстве.
Собственно, именно поэтому Сорокин и сделал ее героиней, а роман – “женским”.
Женщина в советской ячейке была самым деидеологизированным звеном, – объясняет свой выбор автор, – она находилась под действием двух взаимоуничтожаемых сил: природы, идущей через вагину, и идеологии, которой пытались наполнять голову. Эти силы не могли найти консенсус: либо надо зашивать вагину либо отрезать голову.
Мир Марины предельно сексуализирован и максимально циничен. Принципиальная блудница, она спит с диссидентами и партработниками. Явно отличая одних от других, она и теми, и другими пользуется не по назначению. Для нее секс – средство обмена своего тела на чужие духовные и материальные блага. От одних Марина получает вдохновенно исполненный ноктюрн Шопена, от других – богатый продуктовый заказ из спецраспределителя. Таким образом, любовники дают ей всё, кроме удовлетворения.
Другое дело – женщины. Чтобы подчеркнуть разницу, Сорокин начинает роман подробным описанием двух половых актов. В первом Марина выступает бесстрастным наблюдателем, не участницей сексуальной эскапады, а хорошо налаженным инструментом мужской похоти. Дотошно задокументированный ход соития показан ее глазами и рассказан аналитическим языком, лишенным всякой претензии на эмоции, что подчеркивает кода якобы любовного свидания.
Марина лежала, прижавшись к его мерно вздымающейся груди, глядя, как вянет на мраморном животе темно-красный цветок.
Сочетание живого “цветка” с “мраморным” телом подчеркивает фальшь происшедшего: для Марины это было совокуплением с временно ожившей статуей.
Естественно, что такая близость не делает партнеров ближе. Посткоитальный разговор ведется на непонятном для Марины французском языке. Неспособная разделить наслаждение любовника, она не может понять и его слов. Ему, впрочем, теперь не о чем с ней говорить, а как было известно еще Алисе в Стране чудес, “когда не знаешь, что говорить, говори по-французски”.
Этим эпизодом разошедшаяся в альковном общении пара цитирует любимого (подозреваю) автора Сорокина – Льва Толстого. Как известно, в “Войне и мире” Пьер объясняется со своей будущей женой и ложной любовью Эллен на французском, а с настоящей, Наташей, – по-русски.
Все это означает одно: первая любовная сцена романа – не любовная. Она введена для того, чтобы со свойственной автору псевдоморализаторской иронией изобразить ложь секса без любви. Именно в этой части книга приближается к порнографии, но лишь потому, что автор прибегает к своему любимому приему – сплошному повествованию. Уравнивая в правах запретные детали со всеми остальными, Сорокин не выделяет, а прячет в обыденном эротическую составляющую своей прозы, что находит объяснение в авторском комментарии.
Эротика не является жанром, – говорит Сорокин, – поэтому я не склонен ограничивать эту область какими-то понятийными рамками. Это стихия, разлитая по всей культуре, следы которой, как и следы смерти, можно обнаружить во всем.
Отказавшись как-либо цензурировать текст, Сорокин ведет повествование единым неразрывном потоком, втягивающим в себя все без исключения попутные обстоятельства. Ни одно существительное не остается без уточняющего определения: “желтый кубинский сахар в краснодарском чае”. (Все подробности бесспорно достоверны и узнаваемы, особенно для читателей моего возраста: мы с его Мариной – ровесники.) Каталогизируя бесконечные приметы времени, автор создает массированную иллюзию подлинности.
Но на самом деле это набор этикеток, терпеливо до назойливости перечисляющих штампы двух поколений. Если отец Марины читает Хемингуэя, то она – Сашу Соколова.
Тщательно выписанная “жизнеподобная” словесная ткань (условно говоря, проза Гладилина) представляет нулевой – базисный – слой в речевой конструкции всего романа. Отсюда книга, озираясь и оглядываясь, отходит в иные повествовательные сферы, каждая из которых перехватывает сюжет и поднимает градус рассказа.
Как только Марина находит лесбийскую любовь, в текст вступает другой язык. Клинический стиль половых описаний постепенно, в ритме страсти, сменяется все более взволнованным письмом.
При этом описания все еще скрупулезны. Невидимый свидетель, рассказчик подглядывает и подслушивает, отмечая каждую подробность сцены совращения Марины:
Ловкие руки сняли с нее платье и трусики, потом с электрическим треском содралась Маринина водолазка, приглушенно зыкнула молния брюк, загремели отброшенные туфельки, щелкнула застежка лифчика, и дрожащее тело вплотную прижалось к ней.