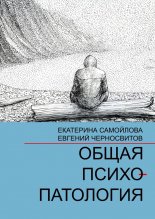Бедный попугай, или Юность Пилата. Трудный вторник. Роман-свасория Вяземский Юрий
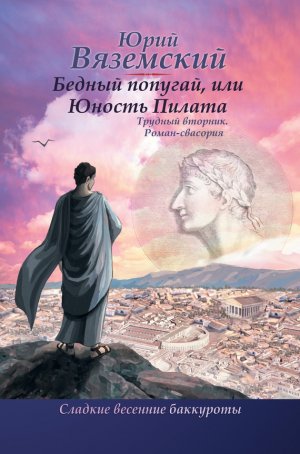
Юлия этот взгляд заметила. Лицо ее перестало противоречить голосу, а голос — лицу. С гневным лицом и гневным голосом она вскричала:
«Упрямый поэт! Я дважды тебя спросила, и дважды ты не потрудился ответить! Меня не интересуют страдания Медеи! Мне безразличны твои рассуждения о любви! Что вы, мужчины, вообще в любви понимаете?! Но если ты взялся писать о Медее, если ты выбрал её своей героиней, то прежде всего изволь объяснить — если не мне, то себе самому: как внучка Солнца посмела предать своего отца, сына Солнца? Как дерзнула она похитить и отдать в руки врагов солнечную святыню — золотое руно?! Чего стоят ее божественная кровь, ее сиятельная гордость, если они не удержали, не оберегли ее от измены в Колхиде, на родине Солнца, и от диких, кровавых убийств, которыми она осквернила себя по всему свету?!.. Мальчишка-Амур сильнее державного Солнца? Матерь Юнона, покровительница брака и семьи, толкнула Медею в объятья блудливой Венеры, на боль и страдания? Мудрая Минерва заставила внучку Солнца впасть в безумие и святотатство?!.. Чепуха! Богохульство. Ни злобствующий Еврипид, ни слащавый твой Аполлоний ничего не поняли в судьбе Медеи. И ты, наивный поэт, толкующий мне о каком-то сосновом факеле… Пиши свои игривые стишки и развлекай ими глупых девчонок, перезрелых матрон и слюнявых мальчишек. Но Медею не трогай. Тебе тем более ее не понять… Ты ведь даже не знаешь, любила ли она отца. А если нет, то почему не любила?»
«Представь себе, знаю! — вдруг почти радостно воскликнул Феникс. Он весь теперь раскраснелся, глаза его сияли, губы дрожали; и торопливо, боясь, что его оборвут, Феникс защебетал и залился: — Медея его не просто любила — она с детства боготворила его!.. Но он, могущественный и прекрасный, властительный и лучезарный, он, Ээт, не давал ей любить себя! Он ее унижал! Он ее, такую же солнечную, как и он, сделал жрицей Гекаты, мрачной подземной богини, и каждую ночь заставлял ей прислуживать, принося в жертву бродячих собак, ядовитых змей и шершавых жаб. И звезды и Луна смеялись над ней и дразнили!..
Старшую свою дочь Халкиопу он выдал замуж за Фрикса, и та родила от него прекрасных детей. А каждого юношу, на которого хотя бы случайно падал ее взгляд, Ээт умерщвлял на поле Медных быков, на Марсовом поле! Мать Медеи, Идию, царь выгнал из дома, взяв себе в жены Астеродею. От нее он родил Апсирта — тщедушного, самовлюбленного и капризного уродца. Но Ээт его обожал, провозгласил наследником своей солнечной власти и своих бескрайних богатств!..
И тогда явился Язон — прекрасный, отважный, красноречивый, покровительствуемый Юноной и Минервой, сопутствуемый Венерой и Амуром. Надежда Медеи приплыла по Евксинскому понту! Спасение Медеи на корабле Арго вошло в реку Фасис и поднялось до Города Солнца, в котором для Внучки Солнца не было уже ни света, ни надежды, а лишь одиночество и тоска! И этого искреннего и влюбленного в нее юношу, вместе с другими великими героями — цветом подлунного мира — злобный Эет собирался предать лютой смерти! На глазах у Медеи! Перед ликом Солнца, которое всё видит, Правду блюдет, Юпитеру, Властителю Мира, докладывает!.. А ты говоришь…»
«Ну хватит! Довольно!» — приказала Юлия, прерывая Феникса, и пошла по дороге. Феникс следом поплелся.
Они прошли с полстадии, когда Феникс опомнился и воскликнул:
«Ты прошла тропинку! Надо было раньше свернуть».
Не оборачиваясь, Юлия откликнулась, то ли возмущенно, то ли насмешливо:
«Ну и наглец! Командует, как мне идти и где поворачивать».
Двигаясь на север, они из садов Цезаря перешли в сады Помпея.
У выхода поджидала лектика — та самая, на которой Юлия прибыла на прогулку.
Юлия села в нее, и когда носильщики в красных плащах, взявшись за поручни, подняли вверх носилки, сказала, глядя не на Феникса, а на город, в блеске и великолепии открывавшийся взору по другую сторону Тибра:
«Вергилий для моего отца написал „Энеиду“. А ты для меня напиши „Медею“. Напишешь?»
«Я не Вергилий», — тихо возразил Феникс.
«А я — не Август, — сказала Юлия. — Так напишешь трагедию?»
«Честно говоря, я никогда не писал для театра…» — чуть громче произнес Феникс.
«Я в третий раз спрашиваю: напишешь или не напишешь?»
И Феникс тут же воскликнул:
«Обязательно напишу! Я уже почти сочинил ее у себя в голове! Осталось лишь записать на табличках…»
Юлия взмахнула рукой. Носилки тронулись в сторону Фабрициева моста. Но скоро остановились. Юлия жестом подозвала к себе Феникса и велела:
«Передай Гракху и Полле, что мне пришлось срочно вернуться домой. У них есть носилки. А за остальными я пришлю цизий».
…Когда, добравшись до Поллы и Гракха, Феникс передал им слова Юлии, Полла задумчиво произнесла: «Госпожа, наверное, почувствовала опасность». И Гракх одобрительно воскликнул: «Да! Она всегда ее чувствует. Умница!»
Колесница подъехала
Вардий медленно двинулся вдоль стены в глубь храма. И пока шел, говорил:
XVII. — Ты думаешь, он стал писать трагедию? Как бы не так! Зато каждый день теперь приходил ко мне и рассказывал о своем последнем разговоре с Юлией, воспроизводя не только слова, но описывая свое состояние, Юлины взгляды, ее выражения лица, ее голос. И каждый новый его рассказ отличался от предыдущего, иногда весьма заметно. Так что я пересказал тебе первый вариант, который, как мне подумалось, больше других соответствовал действительности…
И каждый раз, до прихода ко мне или уйдя от меня, отправлялся к храму Аполлона на Палатине… Он мне не говорил, что туда ходит. Но я несколько раз его выследил… Феникс долго стоял перед храмом и его созерцал. Полагаю, что внимание его привлекал фронтон. На одной из гемм был изображен Аполлон. Солнечный бог, лицом похожий на Августа, летел на квадриге над распростертым под ним божеством Нила…
Вардий остановился возле одной из статуй и, не указав на нее ни рукой, ни взглядом, ни кивком головы, объявил:
— Вот он — Марк Випсаний Агриппа, великий полководец и неуемный строитель, ближайший соратник божественного Августа, второй муж солнечной Юлии.
И тут же, без паузы и без всякого перехода:
XVIII. — Некоторые историки утверждают, что он умер в марте. Неправильно. Он умер в апреле, на празднике Палилий. Сначала в сопровождении друзей и клиентов вознес молитвы в храме Юпитера, затем участвовал в заклании беременных коров в курии, под руководством старшей весталки очистился пеплом телят, вынутых из материнской утробы. Затем отправился в загородное имение Мецената, где вместе с батраками и рабами прыгал через охапки зажженного сена. Прыгнул раз пятьдесят, даже молодежь перепрыгав.
А после пьяный, разгоряченный, измазанный в грязи, как и положено на этом празднике, улегся за пиршественный стол и стал уплетать жареную конину… В деревне в честь Палес режут куцего коня… И вдруг захрипел, закатил глаза, посинел и дышать перестал. Навеки.
Одни утверждали: он подавился куском жертвенного мяса. Другие с прискорбием возражали: в пятьдесят один год надо быть осторожным в питье и в гимнастике. Третьи испуганно шептали: его Аполлон умертвил тихой стрелой!.. Хозяин, Гай Меценат, вызвал из Рима Антония Музу. А тот, прибыв, осмотрел бездыханного Агриппу и поставил диагноз: «Умер. Теперь ничем не поможешь!»
Вечером в доме у Августа состоялось совещание. Решали, как хоронить, ибо Агриппа завещания не оставил. Меценат предложил хоронить по высшему разряду, за государственный счет, воздвигнув три арки и десять алтарей для принесения жертвы ларам и манам. Но Август возразил: хоронить надо торжественно, но скромно. Ибо умерший Агриппа происходил из простого народа, во всём любил и ценил простоту. Стало быть, «скромно, но торжественно» — таков был девиз похорон, утвержденный на совещании.
Было также решено хоронить Агриппу не на восьмой, а на седьмой день, потому как на восьмой день после его смерти приходился праздник Виналий.
Август предложил сожжение произвести на форуме. Но Меценат возразил: явится слишком много народу, вследствие скорби и чрезмерного рвения могут возникнуть беспорядки, разумнее будет воздвигнуть костер на Марсовом поле. И Август, который в последнее время всё реже и реже соглашался с Гаем Цильнием, на этот раз ему уступил и сказал: «Логично. Согласен. А ты, Меценат, будешь дезигнатором».
XIX. Тело, таким образом, было выставлено не на семь дней, как положено, а на шесть. Вернее, на пять, так как целый последующий день Агриппу бальзамировали и украшали. Бальзамировщика пригласили египетского, из храма Изиды, но бальзамы использовались не египетские и не аравийские, а иудейские, с Мертвого моря — наилучшие, с добавлением индийских мазей. Траурный кипарис был доставлен с победоносного Акция, у которого Агриппа почти двадцать лет назад одержал свою великую победу, — за этим кипарисом уже в день смерти Марка Випсания послали быстроходную либурну… Всё это означало «торжественно».
А «скромными» были одеяние покойного и то, на чем его выставили в атриуме: не было высокого ложа слоновой кости, не было пурпуровых тог и роскошных материй — в сером походном плаще Агриппа лежал на низкой складной кровати, украшенной папирусом.
Хотя поток посетителей привратники ограничивали, люди возле скорбного ложа стояли с утра и до вечера. Я был на пятый день: часа два отстоял на улице в ожидании своей очереди, а затем проник внутрь и имел возможность поклониться прославленному покойнику и заодно пронаблюдать за поведением его вдовы. Юлия не только не плакала, но на ее лице не было ни малейших следов от слез. Страдания и горя я также не заметил в ее глазах. Не было усталой отрешенности и тоскливой покорности судьбе, которую часто испытывают или напускают на себя скорбящие женщины, отдыхая от слез и причитаний. Напротив, Юлия была подвижна и оживлена, каждого входящего встречая если не радушным словом, то ласковой улыбкой или понимающим взглядом. И если кто-то, увидев покойного, начинал плакать или иначе выражать свою скорбь, она тут же подходила к нему и благодарила за сочувствие, утешала и призывала смириться с волей богов. Причем чем ниже был ранг человека и чем постороннее был он у нее в доме, тем заботливее и предупредительнее была с ним Юлия… На меня Юлия сначала не обратила внимания. Но заметив, что я подошел к Фениксу и тихо заговорил с ним, кивнула мне головой и благодарно мне улыбнулась…
Феникс все пять дней провел в доме Агриппы, с утра и до вечера. Сципион три раза зашел, Криспин — два, Гракх — один раз; Пульхр ни разу не появился: он боялся покойников.
XX. — Как я уже говорил, — продолжал Гней Эдий, — похороны состоялись за день до Виналий, в девятый день до майских календ. Опять-таки, с одной стороны — «скромные», с другой — чрезвычайно торжественные.
Не было пышного катафалка. Были вроде бы простые носилки, но изготовлены они были из дубовых ветвей и земляничных деревьев, украшенных густою листвой, — то есть точно такие, какие Вергилий описывает в своей «Энеиде», когда Эней хоронит Палланта.
И одет был Агриппа, почти как Паллант: поверх савана на него надели военные доспехи — говорили, те самые, в которых он бился при Акции, — а поверх доспехов… ну, точно:
- Полный печали, надел он один из плащей на Палланта,
- Плотно окутал вторым обреченные пламени кудри…
Поскольку расстояние между домом Агриппы и форумом напрямую было слишком незначительным, траурная процессия двинулась кружным путем: сначала к театру Марцелла, затем — к театру Помпея, а оттуда, с севера огибая Капитолий, — к рострам.
Вдоль этого пути были выстроены солдаты, без копий и мечей, но с большими щитами, которыми в случае необходимости можно было сдерживать народ.
Народа, в черных и серых траурных одеяниях, было очень много, несмотря на то, что основная масса людей с раннего утра скопилась и заняла места на Марсовом поле, возле погребального костра.
Впереди процессии, предшествуемый ликторами в синих туниках, шел распорядитель и дезигнатор похорон — Гай Цильний Меценат. Факел несли только один.
За ликторами и Меценатом двигались музыканты: старый трубач и не десять, а всего трое флейтистов. Но звуки, которые эта троица извлекала из своих инструментов, были более печальными, чем при полном составе команды.
За ними — вольноотпущенники Агриппы с колпаками свободы на головах. Сатиров при них не было, а стало быть, никто не исполнял обычный кривляющийся танец.
Далее несли изображения предков — несколько простых и грубых масок, так как, напомню, прославленный по всей империи покойник, Марк Випсаний Агриппа, родом был из крестьянской, никому не известной семьи.
За масками кавалерийской походкой, в развалку, дергая плечами, размахивая руками и чуть припадая на левую ногу, шел… сам покойник. То есть, загримированный под него Бафилл, архимим. Он так точно и ловко копировал походку умершего, что в первый момент даже знакомому с погребальными обычаями чудилось несусветное и дрожь пробегала по телу… Бафилл был любимым актером Марка Випсания и близким другом его.
А далее на плетеных вергилиевых носилках несли тело. Из дома его вынесли и донесли до театра Марцелла принцепс Август, Азиний Поллион, Марций Филипп и Мунаций Планк. От театра Марцелла до форума, сменяясь через каждую стадию, несли прочие сенаторы. А перед форумом спереди носилки приняли два действующих консула — Публий Сульпиций и Гай Вальгий, а сзади — два любимых легата покойного: пожилой Сенций Сатурнин и молодой Гней Пизон. Легаты были в серых военных плащах, а все остальные — в черных тогах.
За носилками с телом следовали десять других погребальных носилок. На четырех из них были установлены картины, а на шести остальных — гипсовые макеты. Картины изображали знаменитые битвы Агриппы, макеты — его великолепные постройки.
За всеми этими носилками, испуганно озираясь по сторонам, шел восьмилетний мальчик, Гай Цезарь, рожденный Агриппой от Юлии, а ныне усыновленный великим Августом — наследник империи.
За ним — многочисленные друзья, соратники и сотрапезники покойного. Все — в темно-синих одеждах и без колец.
За ними двигались женщины, причесанные, аккуратно задрапированные в темные паллы, тихие, так как всем им было предписано воздерживаться от шумного проявления скорби. Женщин тоже было немало. Средь них особенно выделялись: сестра Августа, седая и немощная Октавия — несмотря на то, что было ей всего пятьдесят три года, и царственная, прекрасная, восхитительно молодая в свои сорок пять лет Ливия, властительная супруга Цезаря. Октавию поддерживала Марцелла, ее дочь и бывшая жена Агриппы, уже выданная замуж за Юла Антония. А Ливию фланкировали с одной стороны — мужеподобная Ургулания, а с другой — женственная Марция. Сама же Ливия нежно и горестно опекала Випсанию Агриппину, свою невестку и дочь покойного, будто та в этой поддержке нуждалась больше других.
Юлию, вдову усопшего, я поначалу вообще не заметил. И лишь старательно поискав глазами, увидел: она шла совсем неприметная, спрятав под черным покрывалом свои рыжие волосы и затерявшись в толпе придворных дам и служанок. Лица ее я не смог разглядеть, так как она всё время смотрела себе под ноги, словно боясь оступиться.
Шествие замыкала полуцентурия легионеров. В до блеска начищенных доспехах рослые, специально подобранные великаны мерно вышагивали, высоко поднимая ноги и согласно ударяя калигами о мостовую, перевернув щиты и копья неся вниз острием, — ну точно, как у Вергилия.
На форуме погребальные носилки поставили на трибуну, но не стали поднимать их вертикально, а для всеобщего лицезрения рядом с носилками установили восковую фигуру, изображавшую покойного.
Траурную речь произнес Гай Цезарь. Но я не стану тебе ее пересказывать. Хотя бы потому, что слабенький голосок восьмилетнего мальчишки едва долетал до того места, где мне удалось расположиться. К тому же стоявшие возле меня молодые всадники, судя по всему, начинающие ораторы и юристы, принялись громко обсуждать, на каком юридическом основании Гай произносит похвальное слово своему отцу, Марку Агриппе, который, согласно закону, уже не является его отцом, так как Гая пять лет назад усыновил Август. Они замолчали, лишь когда мальчишка на ростре сбился и перестал говорить, и тотчас загудели длинные трубы и запищали флейты; — на форуме их было во множестве. А когда маленький Гай, уняв волнение, снова заговорил жалобным голоском, соседи мои принялись обсуждать, кто из прославленных риторов составил для мальчугана траурное выступление, перечисляя известные им имена… И снова глухо стенали трубы и пронзительно ныли флейты… И лишь под конец Гай Цезарь, видимо, освоившись уже с непривычной для него ролью оратора, вдруг звонким дискантом стал восклицать так, что и мне стало слышно:
«Марк Випсаний Агриппа, который подарил мне жизнь и который был самым близким и самым преданным другом моего отца, Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа, он, Марк Випсаний, был доблестным воином и мужественным человеком! Я ни разу не видел, чтобы он плакал. И вы, друзья мои, прошу вас, не плачьте! Радуйтесь, что такой замечательный человек жил среди нас, защищал нашу свободу, завоевывал для нас новые богатые провинции, преображал Рим великолепными постройками, дабы наш город был самым прекрасным городом на свете! Радуйтесь и здравствуйте за него, Марка Агриппу!»
Я затаил дыхание и ожидал, что теперь скажут мои соседи. Но они ничего не сказали. Они молча плакали, не вытирая слез…
А я стал отыскивать глазами Юлию. Я ожидал, что когда маленький Гай сойдет с трибуны, он кинется к матери. Но он кинулся и уткнулся в живот скорбной и величественной Ливии, которая тут же отступила от мужа и, наклонившись, окунулась лицом в русую детскую головку. Я видел, как у подножия ростральной платформы замер и возвышался Август, глядя в толпу и сквозь нее, такой же недвижимый и безжизненный, как восковая статуя его друга над ним, на трибуне, возле носилок. Я видел, как, закрыв лицо руками, рыдала трепетная Марция, как, борясь со слезами, свирепо таращила глаза Ургулания. Я отыскал взглядом сначала Октавию и Марцеллу, а затем Агриппину Випсанию. Мне даже Поллу Аргентарию, растерянно оглядывавшуюся по сторонам, удалось обнаружить. Но Юлии я не видел нигде. Юлия исчезла…
На трибуну поднялся Луций Варий Руф, друг покойного Вергилия. Зычным, хорошо поставленным голосом Варий читал скорбную элегию, им сочиненную. Но его почти никто не слушал. Люди стали уходить с форума, спеша в сторону Марсова поля.
Гней Эдий ненадолго умолк и, тяжко вздохнув, продолжал:
— По Аппиевой дороге тело перенесли на Марсово поле. Там был устроен костер — не слишком высокий, но и не низкий, увитый цветочными гирляндами и окруженный кипарисовой оградой. Дрова, надо полагать, были дубовыми и «смолисто-сосновыми», как у Вергилия.
Плащ и доспехи с покойного снял Гай Меценат.
Глаза Марку открыла, кольца на пальцы надела, монетку в рот засунула седая Октавия; мать Агриппы давно умерла, Октавия же в императорском доме считалась старейшиной среди женщин. Никто ей не помогал, сама быстро и ловко управилась. И голосом громким и чистым воскликнула: «Прощай! Прощай! Мы все последуем за тобой в том порядке, который нам назначит судьба!»
Затрубили трубы. Тело возложили на костер.
Животных на поле не резали. Жертвы были принесены заранее. Кровь их собрали в два серебряных кубка, и кубки теперь выплеснули на скорбное ложе. А также вылили на него два больших сосуда чистого вина и две полные патеры пенного молока.
Затем родственники и самые близкие из друзей приблизились к костру и стали обходить его слева направо, одаряя усопшего духами и ладаном, миррой и нардом, кинамоном и маслом. Легаты Агриппы с четырех сторон возложили дубовые венки, а Сенций Сатурнин, сирийский его квестор, увенчал своего командира лавром.
Последним шел Август. Дойдя до головы покойного, он, глядя на мертвого друга и чуть наклонившись к нему, беззвучно шевелил губами, то ли творя молитву, то ли прощаясь. Затем распрямился и остекленелым взглядом уставился на запад. К нему подошел Меценат и что-то шепнул на ухо. Но принцепс его не слышал. Как истукан стоял над костром и смотрел на Тибр, на Ватиканское поле, на Триумфальную дорогу на левом берегу реки. И тогда Меценат за него возгласил: «У нас всё готово! Благие ветры! Призываю вас на костер Марка Випсания Агриппы!»
И тут произошло непредвиденное событие. Дело в том, что на следующий день после смерти Агриппы в школах гладиаторов был проведен конкурс. От каждой из школ было выставлено по пять лучших бойцов, дабы им была оказана честь сражаться на похоронах лучшего из воинов. Но Август, когда ему доложили, сказал: «Спасибо. Не надо. Мой друг Агриппа не раз говорил, что кровь следует проливать, сражаясь с врагами Рима, а не истребляя друг друга»… Гладиаторов, стало быть, отменили. И чтобы лишний раз не возбуждать народ, даже животные, как я уже упоминал, были умерщвлены не на Поле, возле костра, а ранним утром в храме Либитины.
И вдруг незаметно проходят сквозь оцепление и неожиданно перепрыгивают через кипарисовую ограду два пожилых центуриона — как потом стало известно, Марк Пуппий и Марк Лактерий, которые с Агриппой сражались при Акции, в Сицилийской войне и чуть ли не при Филиппах. Подбежав к костру, оба Марка выхватывают из-под плащей короткие мечи и начинают сражаться, демонстрируя великолепное умение в нападении и в обороне, делая стремительные и коварные выпады и ловко парируя их, как заправские гладиаторы.
Все так растерялись, что некоторое время пребывали в неподвижности, не смея остановить ветеранов. Август лишь безразлично покосился на них и снова уставился вдаль и на запад. Решение за него принял Гай Цильний Меценат. Не отдавая никаких команд, он со скорбным выражением лица медленно направился к сражающимся. И оба Марка, несмотря на их видимое увлечение битвой, сразу заметили его приближение. Они опустили мечи, дотронулись ими до земли и поклонились лежавшему на костре покойнику. Затем, вскинув мечи над головой, как бы отсалютовали ими принцепсу Августу. А потом вздрогнули, зашатались и упали на землю: один — ничком, другой — навзничь. Как они проткнули друг друга, лично я не заметил, настолько мгновенным и обоюдным было это движение. Но люди потом говорили, что мечи вонзились им прямо в сердце…
Тела их еще не успели оттащить в сторону, когда зажигатель подал горящий факел маленькому Гаю Цезарю, и Меценат воскликнул: «Смелей, юноша! Принеси жертву жадному Диту и жене его Прозерпине!»
Гай первым поднес факел. Затем, передавая его из рук в руки, отворачивая от костра свои лица, стали поджигать сухие сосновые ветки Август и Меценат, Поллион и Тавр, Валерий Мессала и Фабий Максим, Сатурнин и Луций Пизон.
Черные клубы дыма поднялись в воздух. Марсово поле стали наводнять хриплые звуки труб и надрывные вскрики флейт. От костра над головами теснящегося народа они полетели в сторону Тибра, а там, будто ударившись о водную преграду и от нее отразившись, стали возвращаться назад уже сквозь толпу, возбуждая людей, вспенивая чувства. Тихие до этого женщины вдруг завопили. Некоторые из них сбрасывали с голов покрывала и, вцепившись в прически, выдергивали из них заколки, стараясь и волосы вырвать и отшвырнуть как можно дальше от себя, вперед, в сторону костра. Другие остервенело царапали ногтями лицо. Третьи ударяли себя в грудь и рвали на себе одежды.
Мужчины нагибались и, схватив землю или песок, сыпали себе на голову.
Некоторые настолько обезумели, что пытались прорваться к костру. Но солдаты, раз оплошав с двумя Марками, были теперь начеку и, выставив широкие щиты, никого не пускали.
Мне самому захотелось что-то сотворить с головой или с одеждой, настолько всеобщим и заразительным стало безумие. Я уже нагнулся, чтобы зачерпнуть пыли или сорвать какой-нибудь сорной травы. Но тут впереди мне раздался надрывный женский крик. Я выпрямился и глянул за кипарисовую ограду… Я стоял в первом ряду перед оцеплением, так как пришел на Поле внутри траурной процессии, в числе «друзей Агриппы», вместе с Криспином и Сципионом… Я глянул вперед и увидел, как Марцелла, дочка Октавии и первая жена Агриппы, рванулась к костру, будто вознамеривалась прыгнуть в огонь. Но Ливии удалось схватить ее за руку. И хотя Марцелла почти тут же у нее вырвалась, сильная Ургулания обняла ее сзади за плечи и удержала. Продолжая истошно вопить, Марцелла одним резким движением раздвинула на груди черную палу, а вторым рывком разорвала белую тунику, из-под которой вывалились груди… Похоже, она до этого долго и сильно била в них кулаками, потому что груди у нее были и впрямь посинелые. Как у Вергилия… В поэме его, разумеется… И Ливия, зайдя спереди, задергивала эти груди обрывками туники. Аобезумевшая Марцелла вопила и снова раздергивала. А дочка Марцеллы, Випсания Агриппина, металась между костром и матерью и восклицала: «Мама, не надо! Мама, уймись! А то я сама прыгну! Вместо тебя!»… Прыгать в костер она, конечно же, не собиралась. Но на всякий случай ее тоже схватили и обняли какие-то две женщины…
Я стал искать глазами Августа и не нашел его ни рядом с Ливией, ни среди друзей Агриппы, ни среди прислужников-либитинариев, следящих за костром. И лишь после весьма продолжительных поисков я наконец обнаружил его застылую фигуру. Он стоял близко ко мне, в правом углу кипарисовой изгороди, вполоборота к костру. С ним рядом была Юлия. Она обнимала отца, уткнувшись лицом ему в плечи, отчего траурная накидка съехала ей на затылок, открыв рыжие волосы. Август бесстрастно взирал в глубину Марсова поля, вдоль Фламиниевой дороги. По лицу его текли слезы. Медленно. По обеим щекам…
Дочь и отец были в одиночестве и вдвоем. Август молча плакал. Юлия его обнимала.
Вардий, помолчав, заключил:
— Прах Агриппы из костра извлекла седая Октавия. Собравшихся за оградой трижды обошел и окропил водой маленький Гай Цезарь. И он же, по древнему обычаю, отпустил их со словами: «Вы можете уйти».
Урну с прахом погребли в Мавзолее… Август начал его строить, когда вернулся из Египта…
Вечером были устроены поминки. Только для членов семьи и для самых близких друзей покойного. Никто из друзей Юлии на них не был зван.
XXI. Так что Феникса я легко разыскал в городе. Он был в доме Семпрония Гракха, куда меня уже давно стали пускать, хотя ни разу не пригласили на завтрак или на обед.
У Гракха, как и всегда, в атриуме толпилось много разного люда. И я, отыскав Феникса, отвел его в сторону.
«Я тебя почти сразу потерял, едва процессия двинулась на форум. Ты куда делся?» — спросил я. А Феникс, не отвечая на мой вопрос, восхищенно воскликнул:
«Ты видел?! Тутик, ты видел ее?!»
«Юлию имеешь в виду? — догадался я и ответил: — Я видел ее в траурной процессии. Но на форуме я ее потерял».
«Ты не заметил, что от нее исходило как бы сияние?!»
«Сияния, нет, не заметил, — признался я. — Я несколько раз оглянулся и видел, что она будто нарочно шла в стороне от других женщин…»
«Точно! — радостно перебил меня Феникс. — А мы с Гракхом шли позади нее, чтобы в любой момент, если понадобится, прийти ей на помощь… Неужто не видел, как у нее под ногами будто светилась земля?!»
Я ласково улыбнулся своему другу и промолчал. Феникс же продолжал восклицать:
«А на форуме! Видел?! Среди затаенной тысячелицей скорби, этой душераздирающей траурной музыки, трогательного лепета своего маленького сына, она… Тутик, милый! Она единственная утешала и согревала собой весь мир!»
«На форуме я ее вовсе не видел», — повторил я, так как Феникс перестал восклицать и вопросительно на меня уставился.
«А я только на нее смотрел! — воскликнул Феникс. — Она не поднялась на трибуну. Она осталась стоять рядом с Бафиллом, который играл роль ее умершего мужа. Бафилл был смертью. Она — жизнью. И смерть и жизнь стояли друг подле друга, взирая на людей и изредка обмениваясь понимающими взглядами… Все были мертвыми! Она одна излучала свет и жизнь!»
Тут Феникс снова вопросительно посмотрел на меня. Теперь уже с надеждой, что я задам ему тот вопрос, которого он от меня давно ожидает.
Но я не стал задавать ему этот вопрос.
XXII. — На следующий день, — продолжал Вардий, — в Риме справляли Виналии. Но, надо сказать, весьма целомудренно, — если такое слово вообще применимо к данному празднику. Опустились до оргий лишь заработчицы и самые разнузданные поклонники Вольгиваги. Но у Коллинских ворот, за чертой города. В Риме же было пусто и чинно.
А еще через день на Тибре было устроено состязание судов. В трех местах раздавали сырое жертвенное мясо, и народ, разводя костры, жарил и ел, поминая Агриппу, приглашая его душу присоединиться к трапезе и трижды, по обычаю, возглашая — «будь здорова, ушедшая душа» и единожды — «пусть земля тебе будет легка!».
Рассказывали, что когда утром на могиле Агриппы семья Цезаря — теперь, наконец, в полном составе, так как лишь к этому дню успели прибыть из Паннонии сыновья Ливии: Тиберий и Друз, — когда на девятый день после смерти Марка Випсания зарезали двух овец и двух «черноспинных» бычков — опять-таки, по Вергилию — и, разбросав цветы, совершив возлияния, выставили на могиле жертвенные чаши и кубки и стали приветствовать прах покойного, его тень и дух, утверждали, что из гробницы вдруг выползла большая змея, все подношения обползла и ото всех яств отведала… Но я этим рассказам не верю. Потому как уж слишком по Вергилию получается. И не думаю, чтоб змеи могли читать «Энеиду», а маны покойников о ней вспоминали.
Последние слова Вардий произнес без тени улыбки на лице. И от стены двинулся в глубь храма. А я последовал за ним.
В центре храма стояла статуя Божественного Юлия. А чуть в стороне от нее, заметно превышая ее размерами, — статуя пожизненного трибуна и проконсула, принцепса сената Гая Юлия Цезаря Октавиана Августа. Она была на редкость безвкусной: в три человеческих роста, мраморная, раскрашенная на греческий манер; Август изображался в воинских доспехах, с копьем, в шлеме с красным султаном.
Словно читая мои мысли, Вардий заметил:
— Да, таким… таким помпезным его только в провинциях изображают. Насколько мне известно, он даже во время походов, перед солдатами, шлема не надевал…
Вардий умолк. А я, который до этого никогда так глубоко не проникал в храм, а лишь теснился в толпе у входа, я принялся разглядывать статую Августа и массивный жертвенник.
Но Гней Эдий скоро прервал молчание и сказал:
— Феникс взял с меня клятву, что я никогда и никому не расскажу о его четвертом и, особенно, пятом разговоре с Юлией. И до сих пор я никому не рассказывал, клятвы не нарушая… Но где теперь Юлия? Где теперь Феникс?.. А мы с тобой — на краю света. Кто нас услышит? Август?.. Смотри, как он велик и непроницаем для людской суеты, человеческих жалких мнений… Боги, конечно, услышат… Но боги и мысли наши читают.
Сделав такую преамбулу, Вардий продолжил рассказ:
XXIII. — Феникс вновь увиделся с Юлией на вторые Флоралии, то есть в самом начале мая.
Как обычно, в одном из домов Гракха Феникс и Феба готовили встречу. Гракх ждал у входа, а Юлия с Поллой прибыли в закрытых носилках. Полла была разодета, как богатая матрона, на Юлии же была темная одежда служанки.
Вошли в атриум, и Юлия, ласково приветствовав своего возлюбленного, не удалилась с ним в спальню, а велела принести два кресла и поставить их возле имплувия.
Феникс принес оба кресла; рабов в доме не было. И Феба кивнула ему головой, делая знак, что пора вернуться в прихожую. Но Юлия радостно приказала:
«Нет-нет! Сегодня не так! Сегодня Гракх с Поллой будут сторожить на улице. Феба — в прихожей. А мы с этим хотим побеседовать. Кресла — для нас».
«С этим», по всей видимости, означало — с Фениксом. Кстати сказать, Юлия с ним даже не поздоровалась, когда вошла, и ни разу на него не взглянула, словно он был не доверенный друг Гракха, а раб его или слуга.
Полла Аргентария удивленно подняла брови. Но Гракх взял ее под руку и повлек к выходу. Феба помогла госпоже разместиться в кресле и вышла в прихожую. Феникс остался стоять, потому что Юлия не предложила ему сесть.
Вардий немного помолчал и продолжил:
— Собственно, разговора как такового не было. Говорила одна Юлия, а Феникс стоял и безмолвно внимал… Без всяких предисловий Юлия объявила:
«Нас двое солнечных — мой отец Август и я, его единственная дочь. А все остальные, которые нас окружают, — обычные люди. И хотя некоторые из них мнили и мнят о себе, что тоже горят и сияют, солнца в них нет никакого. Откуда в них, темных и землеродных, быть небесному свету? Он только в отце и во мне. Когда мы на них светим, они лишь отражают наши лучи, как это делают осколки стекла или начищенные песком монетки.
Двое нас, солнечных. И нет у отца никого ближе меня, а у меня — ближе его, породившего меня Сына Юлия-Солнца, от которого я получила и солнечный свет, и царскую кровь, и, видишь, даже огненные волосы.
Мужского наследника Августу боги не дали. Потому, что он оставил мою мать и, околдованный Ливией, женился на ней. Ливия же не способна родить от солнечного света: она для этого слишком темная, злая и лживая. Нет и не будет Внука Солнца. Есть лишь его Внучка — я, Юлия!
Но мы, увы, не в Египте. В нашем темном и варварском Риме женщине не дано царствовать и управлять. У нас только мужчины — диктаторы и триумвиры, консулы и трибуны, сенаторы и законодатели. Почти все они — неотесанные мужланы, некоторые воняют козлом. Но римская чернь их боится, солдатня почитает.
Учитывая это, мой отец долго размышлял и наконец остановил свой выбор на своем племяннике, Марке Марцелле. Этого жалобного смертного юношу он избрал мне в мужья, надеясь, что я согрею его нашим небесным теплом, просвещу солнечным светом, так что со временем из него может вырасти как бы Пасынок Солнца — нет, не ровня нам, конечно, но из земнородных людей самый светлый, более других пригодный к тому, чтобы грустным осенним вечером сесть на престол, когда Солнце уйдет и закатится. Отец мне об этом никогда не говорил, но я, Юлия дочь Августа, почувствовала его надежду и услышала просьбу.
Я принялась за работу, полагаясь на помощь богов: Юпитера, повелителя судеб, Юноны, скрепившей наш царственный брак, Минервы, у которой просила мудрости и терпения… Минерва мне помогла. Когда мой великий отец стал от меня отдаляться, всё больше свой солнечный свет проливая не на меня, а на моего юного мужа, мне достало мудрости понять, что он, Август, тоже должен согреть Марцелла, чтобы тот лучше и быстрее рос, и терпения, чтобы на отца не обидеться… Но Юнона меня не долго поддерживала. Юпитер позволил обрезать счастливую нить… Через два года Марцелла не стало…
Тут заканчивается первый акт трагедии… Той, которую я для тебя теперь сочиняю… Не всё же тебе сочинительствовать!»
«Переходим теперь ко второму акту, — продолжала Юлия. — На сцену выбегает козлоногий сатир, победительный, предприимчивый, вечно в подпитии. Имени не называю, потому что о покойниках, как известно… А Сын Солнца смотрит на него и понимает — с ужасом, я надеюсь, но, может, и без всякого ужаса, а с холодным расчетом, — смотрит и понимает, что после смерти прекрасного юноши Аттиса этот старый боец и усердный строитель, похоже, единственный, кому он, Август, может доверить свою солнечную девочку и вместе с ней — свои великие замыслы. И взгляд его, на меня обращенный, просит, приказывает: „Доченька! Боги обрезали одну нашу нить. И теперь выпрядают другую. Сатир этот — мой лучший и преданный друг. А ты у меня — мудрая и мужественная. Скрепи сердце, закрой глаза, заткни уши, зажми нос и роди нам наследника, чтобы наша солнечная судьба исполнилась, чтобы свет не погас над миром, после того как придется нам закатиться. Слышишь меня? Понимаешь?“
Как тут не услышать и не понять? Когда уже жертвенник всенародно воздвигнут и священной мукой тебя обсыпают. Подвели, распластали и посвятили.
Но не учли, что как ни старалась солнечная дева, как ни молилась богам и ни радела в своем материнстве, от старого деревенского сатира солнечной породе не произойти. Явился на свет сначала один звонкий, но пустой колокольчик, затем — рыхлый и сырой увалень. А Внучка Солнца, радостная и гордая оттого, что выполнила просьбу и подарила отцу наследника и преемника, надеялась, что уж теперь-то Сын Солнца по достоинству оценит ее преданность и любовь, мужество и жертвенность и будет любить ее, как когда-то в детстве, нежно и солнечно.
Наивная! Заполучив двух внуков, он весь свой свет стал изливать на них, этих полуплебеев. А дочь свою и истинную наследницу, жертву и жрицу одновременно, еще дальше от себя отодвинул — да, на царственном небосклоне, откуда видны все моря и все реки, все люди и народы. Но, словно луну, отодвинул и отдалил, чтобы светила вдали от него, не напоминала о своем ночном унижении с вонючим сатиром…
Дочь свою вытолкнул с колесницы. А рядом с собой усадил жрицу Гекаты. У нее, как у ее владычицы Тривии, три головы. Одна — прекрасная, которую она выставляет напоказ, ласковыми взглядами, добродетельными улыбками, сладким голосом привлекая землеродных мужчин и женщин. Но есть у нее два других лика, которые она старательно прячет. Один — ночной и собачий, а другой — подземный змеиный. Собачий вынюхивает. Змеиный жалит и убивает. И эти два лика, эти две головы — ее истинная суть, подлинное выражение ее злобной, завистливой и хищной породы.
Прикинувшись любящей женщиной, она соблазнила моего отца и лишила меня матери.
Заняв ее место, она продолжала прикидываться: я для нее, дескать, любимое дитя, более любимое, чем родные ее сыновья, Тиберий и Друз. Ибо, объясняла она, для истинной женщины ребенок любимого мужчины — еще любимее и драгоценнее… Чем сильнее она окутывала меня своей лживой нежностью и одаряла лицемерным вниманием, тем чаще, когда она отворачивалась, я видела, как у нее из шеи — из ее пленительной шеи, которая, я знаю, когда-то свела и до сих пор сводит с ума моего отца — из ее шеи торчат два другие ее лика: аспида и собаки!.. Никто их не видит, потому что смертному глазу они недоступны. Но меня не обманешь! Я Внучка Солнца. А Солнце всё видит и знает!
Знаю, что змеиным своим жалом она извела моего первого мужа, Марцелла.
Знаю, что собачья ее голова уговорила отца выдать меня замуж за Агриппу. Надеялась, что старый сатир подомнет меня под себя и раздавит. Когда же увидела, что я выстояла и не погибла, что с каждым ребенком я расцветаю, решила отобрать у меня моих мальчиков и вместе с ними — внимание и заботу Августа, на них отныне направленные. Дескать, позволь мне, любимый мой муж, помочь твоей замечательной дочери: пусть Юлия ухаживает за мужем и воспитывает двух дочерей, твоих внучек, а мне поручи воспитание наследников…
Таков второй акт драмы, в которой меня заставляют играть.
Ты спросишь: а третий какой?»
Юлия замолчала и, злобно сощурившись, смотрела на Феникса, ожидая если не реплики, то хотя бы ответного знака. Но Феникс, и до этого окаменевший, еще больше окаменел.
И Юлия тогда рывком поднялась из кресла и вплотную приблизившись к Фениксу, так что он ощутил на своих губах ее жаркое дыхание, прошептала, душно и нежно:
«Я его никому не отдам! Теперь, когда умер Агриппа, ей не удастся меня извести! Я спихну эту подлую тварь с колесницы! Не позволю ей околдовывать отца и вместе с ним управлять империей! Она — лишь прислужница Сына Солнца. А я, Юлия — его дочь и порода! Если я его не спасу, она его тоже погубит… Ты понял меня, поэт? Или ты ничего не понял, несчастный?!»
«Понял», — закрыв глаза, едва слышно прошептал Феникс. Это единственное слово он произнес по слогам, потому что на первом слоге его губ коснулись губы Юлии, и он замер от удивления и испуга. А потом прошептал второй слог, но губ ее уже не почувствовал…
Когда Феникс открыл глаза, Юлии в атриуме уже не было.
Скоро в атриум вошел Гракх. И Феникс забормотал:
«Я стоял, а она говорила. Она говорила, а я молчал… Клянусь тебе, я даже не сел…»
Семпроний Гракх смотрел на него своими мудрыми силеновыми глазами, полными ласковой иронии. И спросил:
«Хочешь, я принесу тебе вина?»
«Она мне не предложила сесть. Поэтому я стоял и слушал. А она говорила, говорила… Я не смел ее перебить…» — бормотал Феникс.
«Тебе какого вина принести: цельного или разбавленного?» — спросил Гракх и, не дождавшись ответа, ушел в сторону погреба…
Вардий усмехнулся и заключил:
— Насколько я знаю, они с Гракхом легко объяснились. Вернувшись с вином, Семпроний, не желая больше выслушивать однообразные бормотания Феникса, дружески объяснил ему, что всё он правильно сделал, что отныне, как бы ни вела себя Юлия, надо не смущаться и выполнять все ее пожелания, как если бы это были его, Гракха, просьбы. «Женщина в трауре — а тем более такая женщина, как Юлия, — еще более непредсказуема, чем в радости и в любви», — то ли лукаво, то ли наставительно изрек Гракх и предложил выпить сначала за благополучное странствие великой души Агриппы, а следом за этим — за здоровье его скорбящей вдовы.
Третий тост был у них за благоденствие Августа и за процветание Рима.
XXIV. — Через три дня после этого, — продолжал Гней Эдий, — Феникс был вызван в дом покойного Агриппы на Палатине. Было велено надеть темную тогу.
У Юлии он застал всю обычную компанию: Гракха, Криспина, Сципиона, Пульхра, Секста Помпея и трех женщин — Поллу Аргентарию, Аргорию Максимиллу и Эгнацию Флакциллу. Все были в скорбных одеяниях, женщины — безо всяких украшений и в темных накидках. И только вдова, Юлия, была обильно увешана крупным, ярко-желтым, прозрачным и светящимся янтарем, а рыжие свои волосы стянула у висков черной повязкой.
Собравшись, тут же отправились к Мавзолею. И когда кто-то по дороге заметил: день вроде бы неурочный, до сороковин еще далеко, Гракх ему и всем заодно разъяснил: госпожа каждое семидневье навещает усопшего мужа, следуя не римским, а египетским обычаям, более древним и заботливым в том, что касается «надолго ушедших»; а ныне как раз двадцать первый день со дня кончины Агриппы.
Правду сказать, кроме выбранного дня, ничего необычного в посещении не было. Могильный алтарь украсили гирляндами из вербены и сабинской травы, поставили на него фрукты и пироги, саму могилу обсыпали фиалками и гиацинтами и в углубление вылили две чаши молока, смешанного с медом, и две чаши вина. Вдова произнесла молитву — самую простую, какую и бедняки произносят. Никаких знамений не наблюдали: гром не гремел, молнии не сверкали, филин не ухал, змеи не выползали.
Но Феникс вернулся… я его поджидал у подъема на Виминал… когда я его встретил, он был чем-то напуган. Он постоянно оглядывался. Лицо было бледным, взгляд — тревожным. Домой он меня к себе не пустил. А когда я не выдержал и спросил: «Да что с тобой сегодня творится?» — он схватил меня за руку и зашептал:
«Понимаешь, она не такая!.. Не такая, как была до этого… У нее совсем другое лицо… И мне иногда было страшно на нее смотреть!.. Мне казалось, я упаду. И не просто на землю — со скалы сорвусь и полечу в пропасть!»
О том, что происходило возле могилы, он мне ни словом не обмолвился. Что всё было обыкновенно, я потом узнал у Квинтия Криспина, с которым уже успел сойтись и сделать из него своего информатора.
Следующее посещение Агрипповой могилы состоялось через семь дней после первого, то есть на следующий день после Марсовых игр. К гробнице отправилось только шесть человек: Гракх, Феникс, Криспин и Юлия, Полла и Феба, трое мужчин и три женщины. Несли с собой два горшочка, увитых тоненькими веночками из полевых цветов. Один из горшочков, с полбовой кашицей и несколькими крупинками блестящей соли, поставили на могилу, а другой, с лепестками фиалок и кусочком хлеба в красном вине, Юлия велела оставить на перекрестке Широкой улицы и Фламиниевой дороги… Более чем скромные подношения. И никаких молитв не читалось: ни Юлией, ни кем-либо из сопровождавших ее.
А Феникс теперь уже не был напуган. Он пребывал в тоске… В этот раз, зная теперь о Юлиных седмицах, я подглядывал за ними издали и на обратном пути как бы случайно столкнулся со своим другом. Я пытался с ним заговорить. Разные темы затрагивал. Но Феникс отмалчивался. А потом простонал сквозь зубы: «Такая, Тутик, тоска на сердце, что, прямо, не знаю… Пошел бы сейчас и…» — Он не объяснил, куда он хотел пойти и что с собой сделать. А я предложил: «Давай вместе пойдем и выпьем по чаше целительного массикского… Помнишь, у Горация: „Так же и ты, мой Планк, и печали и тягости жизни нежным вином разгонять научайся…“»
«Пусть твоему Горацию белым калом вороны обгадят голову! — яростно вскричал Феникс и, тяжко вздохнув, опять простонал: — У меня не печаль и не тягости жизни. У меня тоска. Ее никаким вином не прогонишь».
И мы скоро расстались, ибо мне показалось, что со мной моему любимому другу было еще тоскливее…
Третье возлияние они совершили на тридцать пятый день после смерти Агриппы, в середине мая, за несколько дней до праздника очищения труб. Юлию сопровождали только мужчины: Гракх, Феникс, Криспин и Пульхр, так как Юлия объявила, что ее покойный супруг не любил женщин, особенно женщин из ее окружения, и душа его ни за что не явится, если они будут присутствовать.
Что происходило на кладбище, мне неведомо, потому как к выходу процессии из дома на Палатине я опоздал, а Квинтия Криспина, моего информатора, они еще по дороге отправили принести жертву в святилище Пенатов на Велинском холме.
Но Феникс сам ко мне прибежал, вздрагивая и святясь от радостного возбуждения. И принялся декламировать Катулла, взад и вперед расхаживая по моему атриуму. Ни в одном из стихов, которые он декламировал, не говорилось о любви и о женщинах. И все стихи были разными. Но одно он прочел три раза, перемежая его с другими элегиями, — то самое, где говорится:
- Пусть в Ливийских песках или на Инде
- Встречу льва с побелевшими глазами! …
Этого льва он с особым восторгом выкрикивал.
«А что вы делали у гробницы?» — пытался выяснить я.
«Госпожа вылила жертвенную кровь. Мы в стороне стояли», — коротко отвечал Феникс и продолжал декламировать Катулла.
«А тень Агриппы… Я слышал, вы вызывали его душу…»
«Какая тень?! Какие могилы?!.. Отстань, Тутик! Ты видишь, я счастлив, как никогда!» — воскликнул мой друг и снова стал читать про африканские пески и про индийские воды…
Сороковой день, по римскому обычаю, отмечали Семьей, с Августом и Ливией во главе. Юлия в тризне, разумеется, участвовала, но никого из своих спутников на сороковины не пригласила.
Зато на сорок второй день, в самом конце мая, отправилась на мужнину могилу, взяв с собой либитарного осла с погонщиком, а из сопровождающих — одного Феникса! Вдвоем они шли по городу! У всех на виду: мимо театра Марцелла, мимо портика Октавии, мимо Фламиниева цирка, мимо терм Агриппы и храма Изиды! На них глазели со всех сторон, а они шли, глядя перед собой и иногда — друг на друга.
На могиле Юлия сначала выдергивала плющ, утверждая, что он «душит кости» ее мужа и что Агриппа ей, дескать, явился во сне и велел прополоть. А затем, велев своему спутнику отойти в сторону, что-то тихо причитала, обращаясь к покойному: про детей говорила, про мачеху, Ливию. Феникс с трудом различал отдельные слова.
Теперь же, то вздрагивая и настороженно вглядываясь в углы комнаты, в которой мы сидели, то вдруг расцветая в странной улыбке… представь себе: радостный блеск в глазах и печаль на губах, в морщинках у глаз… теперь он пытался описать мне свои чувства и говорил: «Мне было радостно и светло. Но радость не была легкой. А свет был каким-то печальным… Вернее, чем радостнее и светлее становилось у меня на душе, тем грустнее и тоскливее ныло под сердцем… А тут еще страх налетал…»
«Страх? Что тебя пугало?» — спрашивал я.
«Меня пугало… Как бы это тебе объяснить?.. Меня радость моя пугала. Когда она становилась слишком сильной и яркой, то следом являлся страх. Понимаешь, радостный страх! Он словно отрывает тебя от земли и возносит. А под ногами — печаль и… сумрак… И чем больше радости, тем больше и страха.
А когда страх проходит, то радость тоже слабеет. И снизу на тебя надвигаются грусть и печаль…»
«Фаэтон?» — спросил я.
«Какой Фаэтон?» — удивился Феникс.
«Пятый Венерин амур, Фаэтон, который в тебя вселился. Ты мне о нем когда-то рассказывал».
«Ну да… Фаэтон… — сказал Феникс, растерянно на меня глядя. — Но почему непременно он?… Как будто одни фаэтоны тянутся к солнцу».
Я решил наконец высказаться. Но начал издалека:
«А холода ты не почувствовал?»
«Холода?.. Почему холода?»
«Потому что и Август, и его дочь должны излучать не только свет, но и холод. Царственный холод», — сказал я.
«Она — холод?! — испуганно воскликнул Феникс. — Ты думай, Тутик, о чем говоришь! Не знаю, как Август, но Госпожа — само Солнце: искреннее, вдохновляющее, животворящее!»
«А ты не боишься, что это искреннее Солнце сожжет тебя, сначала внутри, а потом и снаружи?»
«Сожжет? За что?»
«За то, что ты на нее покусился».
«Как это — покусился?»
«А так: взял и влюбился!»
«В кого?»
«В нее, в Юлию, дочь великого Августа, Сына Солнца!»
Феникс даже из кресла выпрыгнул да как закричит на меня, испуганно и негодующе:
«Ты с ума сошел, Тутикан! Как я могу в нее влюбиться, когда она возлюбленная моего друга, Гракха?! Я его самый доверенный человек, посвященный в такие тайны, в которые и самых близких друзей не пускают!.. Ну, как ты у меня, так и я теперь у Семпрония!.. Да, я иногда украдкой смотрю на нее, любуюсь ее красотой, восхищаюсь ее умом и радуюсь… да, слышишь? радуюсь за моего друга, который не только на нее смотрит… Но чтобы хоть на мгновение!.. Я люблю ее, как любят солнечный свет. Я греюсь в ее лучах, когда они вдруг на меня светят. Чувства мои самые чистые… В них нет ни малейшей примеси того, на что ты сейчас намекаешь!»
«Я ни на что не намекаю, — возразил я. — Я лишь высказал тебе свои подозрения».
«Какие, к ламиям, подозрения?!» — яростно выкрикнул мне в лицо мой несчастный друг.
«Я уже сказал: я боюсь, что она… она сожжет тебя».