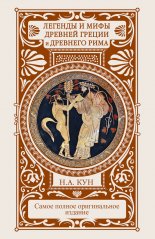Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет Леви Джо
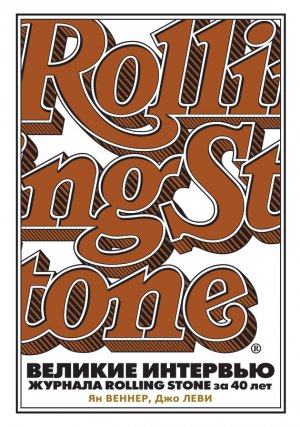
Трумен. А, кетчуп.
Энди. Но, похоже, в этой поездке было так много материала, и ты прекрасно все описываешь.
Трумен. Да, материал, но и только. Материал. И только. Он не находит отзвука. Не то чтобы хотелось забыть о нем из-за того, что он неприятен, нет, просто он не находит отзвука. Нигде во всей этой истории о The Rolling Stones я не смог найти ничего, достойного сочувствия, кроме наивности детей… да и сочувствие, возможно, в сущности, тоже не было настоящим. Может быть, всего лишь сентиментальность.
И вот что я особенно не выносил в отношении «Стоунз»… Когда дети стояли там, а они заканчивали выступление, Чип Монк[58] говорил: «Спасибо, дамы и господа. The Rolling Stones». И загорался свет – или уже горел, – а там стоят дети и просто аплодируют до упаду. Ведь они месяцами этого ожидали. Они мечтали об этом, понимаешь… так долго. И потом The Rolling Stones… Они не только уходили, не только не думали выходить на бис, но уже взмывали на своем самолете, а дети все еще стояли в зале и аплодировали, аплодировали и просили: «Пожалуйста, еще, пожалуйста, еще!», а все знали, что они уже давно в пути… Я дважды не садился в самолет, чтобы посмотреть на эту сцену. Просто сердце разрывалось. Они могли стоять там и полчаса, и никто никогда не сообщал им, что группа и не думает выходить. А потом дети наконец расходились…
Это одно… Но, видишь ли, я написал об этом и о детях в техасском Форт-Уэрте, в сущности, понимая, что группа не выйдет и что все закончилось; и тогда дети уходили в эту ужасную июльскую жару, постепенно растворяясь в темноте улиц, освещенных редкими фонарями.
Энди. А кого считать человеком номер один? Как там все происходит? Мика действительно считают воплощением всей группы?
Трумен. Мм… Гм…
Энди. Да?
Трумен. Да. Мика и Кита Ричардса. Они и есть The Rolling Stones.
Энди. Но другие ребята вполне приличные. Чарли Уоттс действительно хорош…
Трумен. Ой, лучше и быть не может, да. Но не в этом дело. Когда вникаешь в суть, то два человека, которые действительно руководят шоу…
Энди. Но тогда все возвращается к твоей мысли, когда ты говорил, что тебе жаль слушателей, потому что когда «Стоунз» ушли, то остался один негатив. Ну, значит, публике это нужно.
Трумен. Публике нужна музыка. Публике нужно сохранить приятное ощущение. Публике нужно и дальше танцевать и обниматься, танцевать шейк и рок-н-ролл.
Энди. Но люди слушали группу на стерео в ее отсутствие.
Трумен. Но это смешно. Думаю, Мик – один из тех, кто обладает любопытным свойством гермафродита, так же, как Марлон Брандо или Грета Гарбо, только в рок-н-ролле, но это подлинное свойство. Я хочу сказать, что в нем нет ничего от трансвестита – просто свойство гермафродита. И в этом есть нечто столь сексуальное и очаровательное, что оно привлекает и юношей, и девушек из публики, не говоря уже о природном таланте. Это очень специфическое свойство. Им особенно отличается Брандо. И у Гарбо оно всегда было, в нем – секрет ее неизменно шумного успеха. И каким-то странным образом им обладал и Монтгомери Клифт[59]. У него это как раз имелось. Во всем этом присутствует нечто бесполое. Но это не оскорбляет парней из публики и даже в какой-то мере возбуждает их; в большой степени это передается и девушкам, и это часть единого унисекс-синдрома. Как ты думаешь?
Энди. Да. Это заразная болезнь?
Трумен. Ко мне не пристает. Я просто не знаю, куда она распространится отсюда, потому что не знаю, куда уехали The Rolling Stones. Я не знаю, может ли именно эта группа и то, что они делают, просуществовать более года или двух лет. Мне кажется, вся карьера Мика зависит от того, способен ли он на что-то еще. Уверен, он будет процветать и дальше. Только не знаю, в какой сфере.
Энди. Прежде всего скажи, почему ты отправился в это турне?
Трумен. Меня уговорили… о-о-о, не знаю… Ян Веннер засыпал меня телеграммами на этот счет. И тогда я просто подумал: «Ну, ладно…» И потом я чуть ли не догонял «Стоунз». Почти полпути я говорил себе, что не собирался ехать, но затем постепенно перестал об этом думать.
Полагаю, The Rolling Stones обладают фантастическим драйвом и профессионализмом, благодаря чему по-своему держатся на плаву. Вообще, мне всегда нравился рок-н-ролл сам по себе, и среди множества групп они лучшие. Теперь все говорят: «О, они уже на спаде», то да сё, а я с этим не согласен. Сколько можно говорить? The Rolling Stones – первоклассная группа. Лично мне больше нравятся их пластинки, чем исполнение вживую.
Энди. Ян хочет знать твое мнение по поводу того, какие темы проходят красной нитью через их последние альбомы.
Трумен. Ну, я не вижу никаких тем, пронизывающих все их песни… Мне кажется, когда им что-то удается, это поистине случайность, пусть даже все, что они исполняют, отрепетировано до мелочей. В песнях The Beatles очень часто есть какой-то смысл, но не думаю, что у группы The Rolling Stones имеется хотя бы одна песня, которая с начала до конца несет в себе логический смысл. Все в саунде.
Энди. Еще вопрос от Яна: «Приятно провел время в турне?»
Трумен. Да. Потому что я очень любознательный. Это был новый мир и его механика. Пронизывающая все безумная атмосфера. Я поистине ею наслаждался. Мне не было скучно. Я приятно провел время.
Энди. Ты чувствуешь себя виноватым, что не закончил статью?
Трумен. Нисколько. Когда я что-то решаю, то никогда не чувствую себя виноватым. Вот. Ни один художник не должен чувствовать себя виноватым. Если начинаешь писать картину, и она тебе не нравится, то бросаешь работу.
Энди. Почему ты Яну так долго не говорил?
Трумен. Ну, потому что я на самом деле не решил. У меня был весь материал, и он сидел во мне и волновал меня, и я все думал: «Ну, было бы так просто об этом написать». В конце концов пришло время, когда я решил, что не буду писать. Я просто ему сказал. Они присудили мне звание «Начинающий репортер года». (Смеется.)
Просто у меня свои представления обо всем, как и у любого человека… Не то чтобы я действительно хотел этого или было что-то другое, чего мне действительно хотелось сделать, что бы мне действительно хотелось создать. Хотя с той темой я, конечно, сблизился, так что…
Неизвестная. Извините, мистер Капоте. Пусть ваши друзья наденут это, когда у вас будет очередная тусовка.
Трумен. О, вы так милы…
Энди. Что это?
Трумен. А кто его знает…
Джонни Кэш
Интервьюер Роберт Хилберн
1 марта 1973 года
Похоже, музыка изначально составляла важную часть вашей жизни. Не помните, когда вы впервые услышали музыку?
– Самое раннее воспоминание: мама играет на гитаре. Я еще не ходил в школу. Мне было лет пять, не больше, но я помню, как вместе с ней пел. Много песен семейства Картер[60]. Не помню, какие именно, но знаю, что это были церковные песнопения, госпел.
Ребенком вы не только слушали музыку, вам приходилось работать на ферме. Оказало ли это существенное влияние на формирование вашего характера?
– Тяжелая работа? Не знаю. Уборка хлопка – это нудная работа. Не знаю, была ли она вообще мне полезна. Не знаю, полезна ли вообще нудная работа.
Но создается впечатление, что вы сочувствуете людям, выполняющим тяжелую работу, хотите подбодрить их своей музыкой, внушая, что их жизнь имеет смысл.
– Да. Я очень уважаю людей, которые не чураются работы. Не думаю, что человек может быть счастлив, если не трудится. И я усердно тружусь над своей музыкой. Вкладываю в нее много мыслей. Недосыпаю, провожу бессонные ночи, думая о своих песнях и о том, что хорошо и что плохо в моей музыке. Переживаю, стоило ли выпускать последнюю пластинку, не мог бы я записать ее лучше. Иногда мне кажется, что последняя пластинка была точно такой же, как и релиз четырнадцатилетней давности. Я думаю: не буксую ли я иногда, продвигаюсь ли я вперед, расту ли музыкально, артистически? Мне кажется, я миллион раз цитировал Боба Дилана, его строчку: «Тот, кто не трудится после своего рождения, трудится над своей смертью». Я всегда так и думал.
Вернемся к вашему детству. Каким был ваш следующий шаг – в музыкальном плане?
– Я сам начал писать песни, когда мне было лет двенадцать. Начал писать стихи, а потом подбирал к ним музыку. Это были песни о любви, грустные песни. Думаю, виной тому впечатление от смерти моего брата Джека; он умер, когда мне было двенадцать лет. Мои стихи в то время были ужасно грустными. Я был очень дружен со своим братом.
Вы пели свои песни в домашнем кругу? Как они воспринимались?
– Ну, вы знаете, как бывает в семьях. Папа гладил меня по голове и говорил, что все неплохо, но лучше подумать о чем-то, что обеспечит в будущем кусок хлеба. Мама на сто процентов одобряла мою музыку. Когда мне исполнилось шестнадцать лет, она решила, что я должен брать уроки игры на фортепьяно и пения. Она даже работала прачкой, чтобы заработать на это деньги.
Когда вы впервые пели для публики?
– Кажется, на выпускном вечере в средней школе. Я пел «Trees» Джойса Килмера. В подростковом возрасте у меня был высокий голос, тенор. Я пел в сопровождении фортепьяно. Очень волновался. И больше не выступал до тех пор, пока не демобилизовался.
Было ли у вас предчувствие, когда вы уходили служить в авиацию, что не будете по-настоящему заниматься музыкой?
– Нет, я всегда знал, что буду заниматься музыкой. Правда, знал. Всегда знал. Помню, еще во время службы я написал брату, что начну записываться в тот же год, когда демобилизуюсь. Во время службы в Германии я написал песню «Folsom Prison Blues». Написал ее ночью после просмотра фильма «За стенами Фолсомской тюрьмы». Еще будучи летчиком, я написал также «Belshazzar» и «Hey Porter».
Когда вы вернулись в Мемфис, как вы начали заниматься музыкальным бизнесом?
– Я узнал о студии Sun Records в Мемфисе. Примерно в то время они были в запарке с Элвисом, поэтому я позвонил и попросил, чтобы меня прослушали. Помню, как я волновался, первый раз переступая порог студии. Там были Сэм Филлипс[61] и его секретарша мисс МакГиннис. Они даже не помнили, что пригласили меня на запись. Я услышал первое из семи «Приходите позже». Я сказал Филлипсу, что пишу песни в жанре госпел. Я думал, что «Belshazzar» – это лучшая песня, которую ему покажу. Он сказал: «На рынке госпел не пользуется спросом. Приходи, когда у тебя будет что-то еще».
Но позднее мы встретились и, кажется, записали в тот же день «Hey Porter». Первая сессия – это было нечто. У Лютера Перкинса был небольшой подержанный усилитель Sears с шестидюймовым динамиком. У Маршалла Гранта был контрабас, обмотанный клейкой лентой. У меня была гитара за четыре доллара восемьдесят центов, привезенная из Германии. Должно быть, Филлипс был гением, потому что извлек нечто из этого барахла.
Вскоре после выхода «Hey Porter» я вернулся в студию и записал все свои песни и несколько чужих. Дело пошло быстро, и это будоражило. Помню, однажды я пришел в студию, а там оказались Элвис и Джерри Ли Льюис. Спустя несколько минут пришел Карл Перкинс, и мы вчетвером стояли у фортепьяно и распевали гимны. Кажется, мы пели часа два; и, как я понимаю, Сэм включил магнитофон и записал десяток гимнов в исполнении этого «квартета».
Как вы познакомились с Лютером Перкинсом и Маршаллом Грантом?
– Мы познакомились в гараже, где работал мой брат. Они были механиками и просто баловались музыкой. Рой сказал, что оба играют на гитаре. Маршалл в то время ни разу не прикасался к бас-гитаре. И вот мы встретились – три гитариста. Мы пытались заставить Маршалла начать играть на бас-гитаре, а Лютер согласился попробовать играть на электрогитаре. Мы понимали, что нам нужны хорошие инструменты.
Как вы делали аранжировки?
– Я просто все держал в голове, показывал Лютеру ноты на гитаре, а он проигрывал их до тех пор, пока не выучивал.
Как выработался звук Джонни Кэша?
– Этот «бум-чик-э-бум»? Лютер снял металлическую пластинку с гитары Fender и сделал сурдинку, потому что, как он сказал, он играет так неровно, что ему стыдно, и он попытался приглушить звук.
Что сказал Филлипс, услышав такой звук?
– Он счел его по-настоящему коммерческим. Этот звук просто привел его в восторг.
Что вы почувствовали, держа в руках первую пластинку? Должно быть, это был для вас великий день?
– Это было самое фантастическое чувство, какое я испытал в жизни. Помню, как я подписывал контракт в день выхода пластинки. В тот день я ушел из студии, держа в руках контракт и сингл «Hey Porter». И с пятнадцатью центами в кармане. Помню, вышел из студии и увидел какого-то бездельника. И отдал ему пятнадцать центов. Правда. Потом я отнес пластинку на радио, держа ее так, как будто это картина старого мастера. А диск-жокей уронил ее, и она разбилась. Случайно. Только на следующий день я смог получить другую пластинку. Душераздирающее событие. Но пластинку долго крутили на радио, особенно на Юге. Боб Нил, первый импресарио Пресли, позвонил мне, он хотел, чтобы я принял участие в нескольких концертах вместе с Элвисом. Прежде всего я выступил на эстраде «Овертонпарк» в Мемфисе. Я исполнил песни «Hey Porter» и «Cry, Cry, Cry». И они были хорошо, очень хорошо приняты.
Пластинка «I Walk the Line» имела для вас большое значение. Испытали ли вы, записав ее, какое-то особенное чувство?
– Я думал, что это очень хорошая песня, но не был уверен в записи. Когда впервые услышал ее по радио, я был во Флориде и позвонил Филлипсу с просьбой не делать копии. Запись показалась мне такой плохой. Мне казалось, что пластинка ужасна. И он сказал: «Давай дадим ей шанс и посмотрим». Но я не соглашался. Мне хотелось тогда же с ней покончить. Я поссорился из-за нее с Сэмом. Мне казалось, что она звучит так плохо. И до сих пор плохо звучит.
Ваш голос или аранжировка?
– Аранжировка. И мне не нравился саунд, модуляции и все остальное. Но оказалось, именно это и сделало пластинку такой продаваемой.
В этом Сэм оказался прав.
Почему вы впоследствии расстались со студией Sun Records?
– Из-за расхождений по некоторым деловым вопросам. Филлипс спустя три года продолжал платить мне как новичку, а я считал это неправильным. Но, самое главное, я знал, что способен на многое с более громким лейблом. Например, я мог бы записать альбом с гимнами для студии Columbia, а в то время мне это было важно.
Каким было возвращение на родину, в Арканзас, когда вы стали знаменитостью?
– Ну, для земляков я так и остался деревенским парнем. То есть я не представлял для них особого интереса. Во многих местах, где я бывал в те дни, я чувствовал себя знаменитой звездой радио, какой я и мечтал стать, и это было приятно.
Я этим просто упивался. Но на родине старики подходили ко мне и говорили: «Парень, помню, как ты доставлял мне пахту каждый второй четверг» – или что-то в этом роде.
Было ли что-то, из-за чего вы теряли контакт с этими людьми? В тяжелые времена, когда вы уже не думали о них как о друзьях?
– Да, верно. Мне казалось, что я там чужой, и лет семь туда не возвращался. Я не мог общаться с этими людьми. Не хотел, чтобы меня видели.
Это было плохое время для вас, таблетки и прочее?
– Да, вскоре я перебрался в Калифорнию. До сих пор не знаю, почему именно в Калифорнию. Мне там понравилось, я там довольно много сочинил и подумывал остаться там жить. Но на самом деле я был там чужим. Никогда не чувствовал там себя в своей тарелке. Пытался, но не смог. Я пристрастился к амфетаминам. Употреблял их семь лет. Просто нравилось создаваемое ими ощущение.
Это был подъем?
– Да, создается ощущение подъема, а при некоторых обстоятельствах обостряются все твои чувства – таблетки внушают мысль, что ты величайший сочинитель в мире. Просто пишешь песни ночь напролет и просто любуешься своей работой, тащишься от себя и все время глотаешь таблетки. Потом, придя в себя, понимаешь, что все не так уж хорошо. Когда я просматриваю написанное мною тогда, мне всегда становится тошно… необдуманное, невероятное, смехотворное нагромождение звуков – поверить невозможно.
Снова принимаешь таблетки, чтобы заглушить чувство вины. И я привык чередовать возбуждающие средства с антидепрессантами, образовался порочный, порочный круг. И это меня засасывало. Но главное, я думал, что я стальной и мне все нипочем. Я разбивал все легковушки, все грузовики, все джипы, которые мне случалось водить на протяжении тех семи лет. Как-то раз я решил сосчитать все свои поломанные кости. Кажется, получилось семнадцать. По милости Божьей ни одна из этих костей не оказалась моей шеей.
Впрочем, через некоторое время после начала употребления амфетаминов начинаешь осознавать, что они медленно сжигают тебя. Потом ты превращаешься в параноика, думаешь, что все против тебя ополчились. Ты никому не веришь – даже тем, кто тебя больше всех любит. Теперь это напоминает дурной сон.
Был ли момент в вашей жизни, когда вам показалось, что вы на дне? Вроде того случая в Джорджии, когда вы очнулись в тюрьме?
– Да, это случилось в 1967 году. Именно тогда все стало меняться. Но это было лишь одно из многих моих пробуждений. Знаете, тот случай был описан во множестве книг и журналов, но то был лишь один из десятков или сотен раз, когда я приходил в себя и осознавал, что что-то хорошее должно случиться со мной, что я должен собраться с силами, что жизнь должна измениться в лучшую сторону.
Я семь лет работал над собой и почувствовал, что прошли семь хороших лет и наступает хорошая жизнь. Я действительно почувствовал в 1967 году, что впереди – семь значительных лет.
Как вы начали выходить из этих плохих времен?
– Ну, по-настоящему это началось примерно тогда, когда мы с Джун[62] поженились. Любовь в мою жизнь пришла одновременно с началом духовного роста. Большую роль в этом сыграла религия. Религия, любовь – это одно и то же, насколько я понимаю, потому что для меня религия – это именно любовь. Примерно тогда, когда я женился на Джун, мы начали духовно расти вместе. И это проявилось на сцене.
Публику не проведешь. Себя не проведешь. Сразу видно, ты на сцене или не ты. Теперь я действительно счастлив. Но это не значит, что я удовлетворен. Мне все еще надо расти как исполнителю, как артисту, как личности. Поэтому я продолжаю усиленно над этим работать. Выходя на сцену, я всегда ощущаю страх. Всегда боюсь, что кто-нибудь забросает меня яйцами, и все такое.
Как вы готовились физически и эмоционально к записи в те трудные годы?
– Я пропустил много записей. Приходил в студию одурманенный, и мне было без разницы, в каком я состоянии. Просто собирал всю свою волю в кулак и пытался играть. Это заметно на многих моих записях.
Что привлекло вас в Бобе Дилане?
– Я думал, что он один из лучших певцов в стиле кантри, каких я когда-либо слышал. Правда. Мне нравилось, как он исполняет песни, с таким привкусом кантри, со звуком кантри. «World War III Talkin’ Blues» и все песни в альбоме «Freewheelin’» – не думаю, что где-либо может быть больше кантри. Конечно, стихи Дилана сразили меня, и мы стали переписываться. Почти год мы переписывались, а потом встретились.
Когда я впервые услышал один из его альбомов, я играл здесь, в Лас-Вегасе. Я прослушал его альбом за кулисами, в гримерной, и написал ему, как мне нравятся его песни; он ответил на мое письмо и многословно выразил свое отношение к моим песням, сказав, что ему они тоже нравятся. Дилан помнил меня со времени песни «I Walk the Line», тогда он жил в Хибинге, Миннесота. Я пригласил его приехать ко мне в Калифорнию, но когда он впоследствии приехал, то не смог найти мой дом.
Я получил еще одно письмо из Кармела, но ко времени моего ответа Дилан уже вернулся в Нью-Йорк. Когда я вскоре оказался в Нью-Йорке, Джон Хаммонд сказал мне, что Боб в городе. И вот он приехал, и мы встретились в студии Columbia Records. Мы провели вместе несколько часов, разговаривали о песнях, пели друг другу, и он пригласил меня к себе в Вудсток. После Ньюпортского фестиваля он пригласил меня к себе снова.
Говорят, что Дилан замкнутый или зажатый, что с ним трудно общаться. Вы тоже так считаете?
– Вообще-то мы не вели долгих разговоров. Между нами существует взаимопонимание. Я никогда не пытался влезть в его личную жизнь, а он – в мою. Если он замкнут и с ним трудно общаться, я понимаю почему. И я его не осуждаю. Так много людей пользовались им, пытались провести его, сближаясь с ним, что я не хотел бы осуждать его за то, что он замкнут и что до него не достучаться. Все советуют ему, что ему писать, как думать, что петь. Но ведь это же его дело.
Давайте поговорим о ваших песнях. Помните что-нибудь особенное?
– Конечно, почти все мои песни навевают воспоминания. При каких обстоятельствах они были написаны, где я был, когда они вышли, и так далее.
Помню, «Train of Love» я написал в 1955 году, на шоу Louisiana Hayride в Шривпорте. Там оказался и Сэм Филлипс. И я позвал его в гримерную и спросил, что он думает о песне. Она ему очень понравилась. На следующей сессии мы ее записали.
Я написал «Give My Love to Rose» примерно в десяти кварталах от тюрьмы в Сан-Франциско. Однажды ночью я играл там в клубе, в 1956 году, когда впервые приехал в Калифорнию. И один парень, бывший заключенный, пришел за кулисы поговорить со мной о Шривпорте. Он был оттуда родом. Не уверен, что его жену зовут Розой, но она жила в Шривпорте, и он сказал нечто вроде «скажи моей жене, что я ее люблю, если вернешься в Шривпорт раньше меня». Его только что выпустили из тюрьмы. В ту ночь я написал эту песню.
«Big River» я написал как протяжную песню в стиле блюз. Помню, что сидел на заднем сиденье машины, проезжая через Белые Равнины, и напевал: «Я у-чил плаку-чую и-ву плакать»… Да, протяжная песня, и в стиле блюз.
Я написал «Hey Porter», когда был за морем. Это была песня, в которой я выразил тоску по Югу. «So Doggone Lonesome» я написал с мыслью об Эрнесте Таббе[63]. Много раз я писал песни, представляя себе певцов, но на самом деле не собираясь даже дать послушать им эти песни, а только думая об этих певцах. После того как я записал «So Doggone Lonesome», Табб услышал ее и тоже записал. «Get Rhythm» я написал для Элвиса. Но он ее услышал, только когда я ее записал. «Come in Stranger» – просто песня о жизни в пути.
Разве вы не подсказали Карлу Перкинсу идею песни «Blue Suede Shoes» («Голубые замшевые ботинки»)?
– Помнится, ребята в армии говорили: «Не наступай на мои голубые замшевые ботинки». Мне показалось, что это хорошая строка, и я посоветовал Карлу вставить ее в какую-нибудь песню. Но он сам ее написал. Это его песня.
Вы много думаете о будущем?
– Я просто чувствую, что время идет, и делаю то, что считаю правильным для себя в данное время. Не собираюсь обгонять кого-то или что-то.
Вы оптимист?
– О, да. Конечно. В моей жизни было семнадцать хороших лет, если говорить о моей музыке. Это были добрые для меня годы. Да все годы были для меня добрыми. И я не вижу ничего, кроме подъема в том, что касается музыкального бизнеса. Я оптимист, потому что верю, что музыкальным бизнесом будут заниматься настоящие таланты. Подлинные таланты всегда будут. Ничто не сможет заменить человека. Можно владеть всеми синтезаторами Муга, но ничто не заменит человеческое сердце.
Нил Янг
Интервьюер Кэмерон Кроу
14 августа 1975 года
Как случилось, что вы наконец-то решили побеседовать? Последние пять лет журналисты, просившие Нила Янга об интервью, слышали в ответ, что ему нечего сказать.
– Я многое могу сказать. Никогда не давал интервью, потому что они всегда доставляли мне беспокойство. Всегда. И никогда не получались как надо. Они мне просто не нравятся. Вообще, чем дольше я не давал интервью, тем чаще о них просили, и тем чаще я говорил, что мне нечего сказать. Но, знаете ли, все меняется. Теперь я чувствую себя очень свободным. Со мной нет моей старушки[64]. Это многое объясняет. Снова живу в Южной Калифорнии и впервые за долгое время чувствую себя более открытым. Я выхожу и со многими общаюсь. Мне кажется, в моей жизни произойдет нечто новое.
Я действительно повернут на новой музыке, которую делаю сейчас, снова с группой Crazy Horse. Сегодня, даже во время этой беседы, в моей голове звучат песни. Я чувствую вдохновение. Думаю, все, что я сочинил, имеет право на жизнь, а иначе я бы никогда не записал своих песен, но я сознаю, что с тремя последними альбомами были определенные сложности. Я знаю, что они принесли мне дурную славу. Так или иначе, мне хотелось бы выплыть из некоего мрака. И доказательством будет мой следующий альбом. Я бы сказал, что альбом «Tonight’s the Night» – это последняя глава пройденного мною мрачного периода.
Почему мрачный период?
– Ох, не знаю. Вероятно, смерть Дэнни одурманила[65]. Это случилось как раз перед турне «Time Fades Away». Предполагалось, что он будет в группе. Мы[66] репетировали вместе с ним, и он просто не мог никуда от этого деться. Он ничего не помнил. Был в отключке. Где-то очень далеко. Мне пришлось сказать ему, чтобы он вернулся в Лос-Анджелес: «Так не пойдет, брат. Ты недостаточно собран». Он только сказал: «Мне некуда больше идти, брат. Как я скажу моим друзьям?» И он ушел. В ту ночь коронер[67] позвонил мне из Лос-Анджелеса и сказал, что Дэнни умер от передозировки. Я был ошеломлен. Жутко потрясен. Я любил Дэнни. Я чувствовал свою вину за то, что случилось. И именно тогда я должен был отправиться в это длительное турне с выступлениями на огромных аренах. Я очень нервничал и… чувствовал себя в опасности.
Почему же вы выпустили концертный альбом?
– Мне казалось, он того стоит. «Time Fades Away» – это трепетный альбом. И именно так я себя чувствовал во время турне. Если бы сесть и прослушать все мои записи, то для него нашлось бы место. Я не говорю, что его следует слушать всякий раз, когда хочется насладиться музыкой, но он важен, когда ты подсел на наркотики. Каждая из моих записей для меня – это как бы автобиография в развитии. Я не могу писать каждый раз одну и ту же книгу. Есть артисты, которые это могут. Они выдают три-четыре альбома ежегодно, и все они звучат чертовски одинаково. Здорово. Какой-нибудь исполнитель пытается пообщаться с людьми и дает им ту музыку, которую, как ему известно, они хотят слышать. Это не по мне. Надо то и дело менять. Рубашки, подружек – все. Предпочитаю то и дело меняться и многих терять по пути. Если такова цена, я заплачу. Мне плевать, слушает меня сотня людей или сто миллионов человек. Какая разница?! Убежден: то, что делается на продажу, и то, что делаю я, – совершенно разные вещи. Если мои пластинки хорошо продаются – это чистая случайность. Просто, когда я хочу и выпускаю альбом вроде «Tonight’s the Night», я ценю свободу.
В том альбоме вы поете так, как будто сильно пьяны.
– Я сказал бы, что это самый «пьяный» из записанных мною альбомов. (Смеется.) Надо бы надеть противогаз, чтобы весь его прослушать. Мы все пили текилу… и, опять же, по-моему, это следует слушать. Если людям нужен достоверный портрет артиста, то им надо слышать, как он поет в разных обстоятельствах. Все фонареют, парень. Все фонареют, рано или поздно. Ты просто притворяешься, если не позволяешь своей музыке стать такой же пьяной, как и ты, когда ты действительно забалдел.
В этом идея альбома?
– Нет. Нет. Это последнее, что он несет. «Tonight’s the Night» – это как послание сверхдозы. Оно все о жизни, дурмане и смерти. Когда мы[68] исполняли эту музыку, мы все думали о Дэнни Уиттене и Брюсе Берри, о двоих из нашего коллектива, умерших от передозировки героина. Впервые после смерти Дэнни группа Crazy Horse собралась для записи альбома «Tonight’s the Night». Мы решили собраться с силами и заполнить образовавшуюся брешь. Брюс Берри, тоже погибший от передозировки, долгое время работал в группе Crosby, Stills, Nash & Young. Его брат Кен руководит Studio Instrument Rentals, где мы записывали альбом. Поэтому у нас было много виброфонов. В музыку, которую мы исполняли, мы вложили душу. Смешно, но я помню все это как бы в черно-белых тонах. Мы отправились в S.I.R. около пяти часов вечера и начали пить текилу и играть в пул. Около полуночи занялись музицированием. И мы ночь напролет играли в манере Брюса и Дэнни. Я не героинщик, и даже не буду пробовать наркотик любопытства ради… но тогда мы все изрядно забалдели, прямо там, и оказались на той грани, когда чувствуешь себя открытым нараспашку всему на свете. Было жутко. Вероятно, я чувствую этот альбом больше, чем что-либо иное в моем исполнении.
Почему вы выпустили «Tonight’s the Night» только сейчас, через два года после его записи?
– Я его так и не закончил. Записал только девять песен и все отложил, а вместо того занялся записью «On the Beach»[69]. Понадобилось вмешательство Эллиота[70], чтобы закончить «Tonight’s the Night». Видишь ли, некоторое время назад кое-кто собирался сделать шоу на Бродвее из истории о Брюсе Берри. Был уже и сценарий готов. Все вместе мы делали запись, и в процессе прослушивания старых треков Эллиот обнаружил три ранних песни: «Lookout Joe», «Borrowed Tune» и «Come on Baby Let’s Go Downtown», живой трек с того концерта, когда я играл в «Филлмор Ист»[71] с Crazy Horse. Дэнни там даже запевает. Эллиот добавил эти песни к девяти оригинальным и расставил их так, чтобы они образовали связный рассказ. Но я все еще не планировал выпускать пластинку. Я уже закончил новый альбом «Homegrown». Готово все, даже обложка. (Смеется.) Да, но его никогда не услышат.
О’кей. А почему?
– Я все вам расскажу. Я собрал тусовку для прослушивания «Homegrown» – человек десять. Мы все не в себе были. Все слушали альбом, и случайно «Tonight’s the Night» оказался на той же бобине. Мы и его послушали, смеха ради. Оказалось, «Homegrown» не идет с ним ни в какое сравнение.
Поэтому вы выпустили «Tonight’s the Night». Так получилось?
– Не потому, что «Homegrown» не слишком удался. Многие сказали бы, вероятно, что он лучше. Я знаю, что при записи «Tonight’s the Night» все пели фальшиво, это была самая фальшивая вещь, какую я когда-либо слышал. Я не мог скрыть эту фальшь. Но, слушая эти два альбома друг за другом на вечеринке, я стал различать слабые места в «Homegrown». Я выбрал альбом «Tonight’s the Night», потому что он отличается силой исполнения и глубиной чувства. Возможно, тема немного угнетающая, но в целом в нем больше подъема, чем в Homegrown. Выпуск альбома «Tonight’s the Night» – это почти эксперимент.
Вы родились не в музыкальной семье…
– Ну, мой отец немного играл на гавайской гитаре. (Смеется.) Так уж случилось. Я это чувствовал. Беспрестанно об этом думал. Вдруг мне захотелось иметь гитару, а гавайская гитара уже была. Я начал выступать в клубах Виннипега, на танцах в средних школах. Играл в свое удовольствие.
С группой?
– О да, всегда с группой. Играть соло попробовал лет в девятнадцать. В восемнадцать или девятнадцать.
В это время вы писали?
– Я начал с инструментов. Слова появились много позже. Моим идолом в то время был Хэнк Б. Марвин, гитарист группы The Shadows, с которой выступал Клифф Ричард. В то время он был героем всех гитаристов в Виннипеге. И Рэнди Бахман, он тоже там постоянно играл. У него был отличный саунд. Он тогда играл под уже записанные на магнитофон партии.
Когда вы начали петь?
– Помнится, я пел вещи The Beatles… Первой песней, исполненной мною перед публикой, была «It Won’t Be Long», а потом – «Money (That’s What I Want)». Я пел в кафетерии средней школы Кальвина[72]. Мой «звездный час».
Вы знали тогда Джони Митчелл[73]?
– Мне было восемнадцать лет, когда я узнал Джони. Познакомился с ней в одном кафе. Она была красавица. Таково было мое первое впечатление. Такая хрупкая, с осиной талией. И такие красивые скулы. Всегда одевалась в платья из легких шелков. Помню, мне казалось, что если сильно подуть, то, вероятно, она взлетит. Впрочем, она довольно хорошо играла на акустической гитаре. Какой же у нее невероятный талант. Она гораздо живее меня описывает свои чувства. Я использую… по-моему, я набрасываю больше флера на то, о чем я говорю. Я написал несколько песен, сравнимых с песнями Джони. Такие, как «Pardon My Heart», «Home Fires», «Love Art Blues»… почти все из «Homegrown». Ни одну из них не выпустил. И вероятно, никогда не выпущу. Думаю, мне не хватило бы духу их выпустить…
Что бы вы сказали о группе Buffalo Springfield в целом?
– Это было здорово. По-настоящему хорошие дни. Замечательные люди. Все в той группе были чертовски гениальны, что касается исполнения. Это была замечательная группа, парень. Другой Buffalo Springfield не будет. Никогда. Все теперь идут разными путями, просто не знаю. Если бы все собрались в одном и том же месте в одно и то же время со всеми усилителями и прочим оборудованием, мне бы это понравилось. Но уверен, что мне было бы чертовски неприятно собирать их вместе. Мне бы хотелось снова сыграть с этой группой, просто чтобы посмотреть, сохранился ли кураж.
Хотел бы задать вам вопрос о нескольких мифах относительно группы Buffalo Springfield. Что можно сказать об истории со старым катафалком?
– Все верно. Мы с Брюсом Палмером колесили по Лос-Анджелесу в моем катафалке. Мне нравился катафалк. Шестеро человек могли разместиться спереди и сзади, и никто не мог заглянуть внутрь – загораживали занавески. А подъемник… открывалась боковая дверца, и он выдвигался прямо на тротуар. Что может быть круче? Так удобно выходить из машины и выгружать аппаратуру! Во всяком случае, мы с Брюсом Палмером побывали в Калифорнии. Земля обетованная. Мы направлялись в Сан-Франциско. Стивен Стиллз и Ричи Ферэй, которые вместе в городе формировали группу, тоже оказались поблизости. Стивен встречался со мной раньше и запомнил, что у меня есть катафалк. Как только он увидел катафалк, то сразу понял, что это я приехал в Калифорнию. И нам показалось вполне логичным образовать группу. Через четыре-пять дней мы взяли в качестве ударника Дьюи Мартина – это была моя идея. Стивен вообще-то в то время ратовал за Билли Манди. Он сказал: «Да, да, да. Дьюи хорош, но, Господи Иисусе… он же чертовски много болтает». Впрочем, я оказался прав. Дьюи был чертовски хорош.
Почему вы оставили группу?
– Просто не смог руководить ею до конца. Сдали нервы. Я вовсе не планировал сольную карьеру – все из-за нервов. Все стало развиваться чертовски быстро, не могу передать. Я сходил с ума, знаете, то вместе со всеми, то отдельно, то опять вместе. У меня возникло чувство, что я не должен ни перед кем отчитываться и никому повиноваться. Мне требовалось больше пространства. У меня в голове засела большая проблема. Поэтому я ушел, потом вернулся, потому что группа звучала так хорошо. Вечная проблема. Я просто не был достаточно зрелым, чтобы с ней справиться. Я был очень молод.
Как вы жили после группы Buffalo Springfield[74]?
– Нормально. Мне надо было на некоторое время выбраться и просто отдохнуть. Я отправился в каньон Топанга, чтобы оклематься. Купил большой дом с видом на каньон. Со временем забросил этот дом, потому что уже не выносил всех людей, которые все шли и шли. Да, это было чертовски удобное место… 1969 год, примерно тогда я стал жить с моей первой женой Сьюзан. Красивая женщина.
Ваш первый сольный альбом был песней любви для Сьюзан?
– Нет. Очень немногие мои альбомы – посвященные кому-то песни любви. Музыка так велика, парень, просто безмерна. Пока что я отдаю свою жизнь музыке. И всякий раз, когда я даю ей ускользнуть куда-нибудь, это чувствуется. Музыка длится… много дольше, чем отношения. Мой первый альбом во многом был как все первые альбомы. Мне хотелось доказать самому себе, что я способен сочинять. И я доказал это благодаря чуду современной техники. Мой первый альбом был как густо населенный город. Впрочем, он остается одним из моих любимых. «Everybody Knows This Is Nowhere», вероятно, моя лучшая песня. Все, что я когда-либо сочинил с группой Crazy Horse, невероятно. Просто там было чувство, пусть даже больше ничего не было.
Тогда почему вы при соединились к Crosby, Stills & Nash? Вы ведь уже постоянно работали с Crazy Horse.
– Стивен. Я люблю играть с другими ребятами, но играть со Стивеном – это что-то. Дэвид – отличный ритм-гитарист, а Грэм поет так здорово… черт, мне не надо никому говорить, что это феноменальные ребята. Знаю, это было бы смешно. Мне не следовало себя выпячивать, мог бы и в сторонке постоять. Не надо было все время быть на виду. Они были отличной группой, и мне было легко. Я все еще мог работать с Crazy Horse. С Crosby, Stills & Nash я был в основном просто инструменталистом, который пел пару песен. Было легко. И музыка была отличная. Команда Crosby, Stills, Nash & Young, по-моему, всегда значила нечто большее для всех, кроме нас. Ко мне всегда обращаются как к Нилу Янгу из Crosby, Stills, Nash & Young, да? Это не основное мое занятие. Это то, чем я занимаюсь время от времени. Я постоянно работаю в своем направлении. А теперь, когда Crazy Horse снова сформировалась, я ушел в себя даже еще больше.
Насколько вы обязаны своим сольным успехом группе Crosby, Stills, Nash & Young?
– Конечно, группа CSNY принесла мне известность. Они меня прославили. Но, без ложной скромности, «After the Gold Rush»[75], своего рода поворотный пункт, был сильным альбомом. Я правда так думаю. Там было все. Нарисованная в нем картина впечатляла. «After the Gold Rush» отразил дух каньона Топанга. Казалось, я понял, что чего-то достиг. Я присоединился к группе Crosby, Still & Nash и продолжал много работать с Crazy Horse… Все время играл. Отлично проводил время. Сразу после того альбома я ушел из дому. Это был хороший аккорд.
Как вы справились с вашей первой вспышкой настоящей звездной болезни после этого?
– Первое, что я сделал, провел турне по небольшим залам. Только я и гитара. Мне очень это нравилось. Фактически один на один с публикой. Уже позднее, после «Harvest»[76], я спрятался. Попытался ото всех уйти. Я думал, что запись («Harvest») была хорошей, но знал и то, что нечто умирает. Я стал очень замкнутым. Мне не хотелось появляться на людях.
Почему? Вы испытывали депрессию? Нервничали?
– Думаю, я был вполне счастлив. Несмотря ни на что, у меня была моя старушка, и я переехал на ранчо. Много хлопот доставляла мне моя спина. В течение двух лет между «After the Gold Rush» и «Harvest» я то и дело лежал в больницах. У меня одна половина спины особенно слабая, все мышцы одрябли. Позвоночные диски расшатались. Я не мог держать гитару. Вот почему все сольное турне я провел сидя. Я не слишком хорошо мог двигаться, поэтому долго лежал на ранчо и просто отрубал все контакты, знаете ли. Носил корсет. Приезжал Кросби проведать меня; мы гуляли, и мне требовалось сорок пять минут, чтобы добраться до студии, что всего в 400 ярдах от дома. Я мог быть на ногах всего четыре часа в день. Почти весь «Harvest» записал в корсете. Неспроста получился такой нежный альбом. Я физически не мог играть на электрогитаре. Песни «Are You Ready for the Country», «Alabama» и «Words» были записаны уже после операции. Врачи поговаривали об инвалидной коляске и прочем, так как мне удалили несколько дисков. Но почти все два года я провел лежа на спине. Уйма времени, чтобы подумать о том, что со мной произошло.
Вы обращались к аналитику?
– То есть обращался ли я к психиатру? Нет. (Смеется.) Впрочем, они все по-настоящему мною интересуются. Всегда задают мне много вопросов, если я оказываюсь рядом.
О чем они спрашивают?
– Ну, у меня бывали припадки. Обычно мне задавали много вопросов о том, как я себя чувствую, всякое такое. Я рассказывал им обо всех мыслях и об образах, которые меня посещали, если, понимаете, у меня кружилась голова или я падал. Впрочем, это не так уж важно.
У вас и сейчас случаются припадки?
– Да. Лучше бы их не было. Мне казалось, я с ними справился.
Это физическое или психическое?..
– Не знаю. Об эпилепсии никто ничего толком не знает. Это просто часть меня, часть моей головы, часть того, что в ней происходит. Иногда что-то в моем мозгу ее провоцирует. Иногда припадки случаются, когда я действительно забалдеваю, – испытывать припадки типично для тех, кто принимает психоделические препараты. Попадаешь в совсем иной мир. Твое тело корчится, и ты закусываешь себе язык и бьешься головой о землю, а твой разум при этом – где-то в другом месте. Но жутко не то, что ты оказываешься в таком состоянии, – жутко осознавать, что ты вполне комфортно чувствуешь себя в этом… вакууме. И твое возвращение в реальность становится для тебя шоком. Ты абсолютно дезориентирован. Очень нелегко взять себя в руки. Когда последний раз это случилось, понадобилось полтора часа, чтобы просто пройтись по ранчо с двумя моими друзьями, чтобы прийти в себя.
А на сцене такое случалось?
– Нет. Никогда. Я чувствовал пару раз, что это может произойти, и всегда уходил со сцены. Я был слишком забалдевшим или что-то в этом роде. Это просто давление извне, понимаете? Вот почему я не люблю скопления людей.
Почему вы покинули ранчо?[77]
– Просто оно находилось слишком далеко. Слишком много разъездов за последние года два. Причем вовсе не в связи с музыкой. Просто вокруг было слишком много чуваков, которые, в общем-то, меня не знали. Вольно или невольно, но они паразитировали на мне. Они жили за мой счет, пользовались моими деньгами для покупок, моим телефоном для разговоров. Обычные кровососы. Когда до меня это дошло, я почувствовал себя оскорбленным. Мне не хотелось верить, что меня использовали. Мне не нравилось быть хозяином, и мне не нравится говорить: «Пошли к черту!» Вот почему у меня теперь разные дома. Когда вокруг меня собираются люди, я теперь просто сбегаю. То есть мое ранчо теперь прекраснее и обширнее, чем всегда. Оно и без меня стоит. Я просто больше не нуждаюсь в нем как в единственном месте, где бы я чувствовал себя в безопасности. Я стал сильнее.
Вы придумали название для нового альбома?
– Думаю назвать его «My Old Neighbourhood». Или «Ride My Llama»[78]. Странно, но все эти мои песни о Перу, ацтеках и инках… Материал поездок… У нас есть песня «Marlon Brando», «John Erlichman», «Pocahontas and Me». Я много играю на электрогитаре, и это мне нравится больше всего. Две гитары, бас и ударные. И это действительно отрывает от земли. Чертовски невероятно. Я поспорил с Эллиотом, что альбом выйдет до конца сентября. После этого мы, вероятно, отправимся в осеннее турне по стадионам вместимостью три тысячи зрителей. Я снова с Crazy Horse. Ничто не может сделать меня более счастливым. Вкупе с холостяцкой жизнью… Я чувствую себя великолепно. Впервые, насколько я себя помню, я порвал отношения, решительно не желая строить новые. Я так счастлив тому, что вышел на простор. Как будто наступила весна. (Смеется.) Я продам тебе две бутылки этого за доллар пятьдесят центов.
Брайан Уилсон
Интервьюер Дэвид Фелтон
4 ноября 1976 года
Только что появился новый альбом «15 Big Ones»[79], состоялось турне[80] и вышла передача на телевидении. Откуда такой всплеск энергии?
– Могу только поразмышлять, как выплеснулась моя энергия. Я воздерживаюсь от сексуальных отношений. Пытаюсь заниматься йогой. В ней излагается, как при подавлении сексуального желания, если вы не занимаетесь сексом, высвобождается подобный тип энергии, а не ваша кундалини. Вот уже примерно два месяца я совсем не занимаюсь сексом. Это просто личный ответ.
Очень личный, я бы сказал.
– Да. А также потому, что наступила весна. Правда, наступила. Просто всегда говорят, что весной вы начинаете летать, а мы начали летать еще до наступления весны – выпустили наш альбом и все такое.
Впрочем, это первая весна за долгое время.
– Да, правда. Ну, мы начали летать несколько весен назад, но тогда это было не так серьезно, как теперь.
Возможно, подействовало сочетание весны и подавления сексуального желания?
– Да, именно это, полагаю.
Тебе кажется трудным писать музыку?
– Да. Не так давно мне было чертовски трудно закончить песню. Смешно. Вероятно, во мне осталось не так много песен, знаешь ли, а может, вообще не осталось, потому что я написал что-то около 250 или 300 песен. Хотя это не кажется таким уж огромным числом. (Зевает.) Поэтому на этот раз в наш альбом мы включили много старых, но хороших песен. В общем, на этом и держимся.
Я еще не слышал этого альбома. Есть ли в нем что-то новое?
– Как-то не очень представляю. Пожалуй, только трансцендентальная медитация, мы взяли ее за основу. Мы в нее верим, поэтому (зевает) чувствуем, что должны, хотя бы отчасти, донести послание Махариши в мир. Думаю, это великое послание. Думаю, медитация – это великая вещь.
Ведь в последнее время ты и сам этим занялся?
– Да. Я медитирую, а также думаю о медитации. Смешно. Я думаю о Махариши, о самой идее медитации. В этом что-то есть.
Как ты считаешь, это помогло бы тебе больше писать?
– О да, думаю так. Думаю, что по мере овладения медитацией больше мира будет в душе, и мне будет легче собраться с мыслями. Не дергаться по всякому поводу. Думаю, это будет способствовать моей творческой активности.
Ты описал бы трудность с написанием песен как «сочинительский спазм»?
– Ну, как раз сейчас у меня «сочинительский спазм». Как раз сегодня я занялся песней, а тут «спазм». Бог его знает, что это такое. Но якобы и есть спазм. Знаешь, невозможно просто сказать себе: «Ну ладно, давай-ка напишем песню». Он снова здесь, тут как тут.
Другое дело, что я, как правило, писал, сидя на таблетках. Как правило, глотал возбуждающие таблетки и писал, и мне нравился их эффект. В общем, мне бы хотелось употреблять их и сейчас и писать, потому что они дают мне, знаешь ли, некий подъем и некую перспективу. И в этом нет ничего неестественного. То есть неестественной могла бы быть и энергия, но сама песня неестественной на таблетках не получается. Креативность справляется.
Ну, так почему ты их не употребляешь?
– Думаю, надо спросить врача, можно ли мне к этому вернуться, да.
Но ты полагаешь, что сочинители действительно исчерпывают свой материал.
– Я полагаю, что сочинители исчерпывают свой материал, правда. Я неколебимо верю в то, что, когда естественное время заканчивается, то сочинители действительно исчерпывают свой материал. (Зевает.) Для меня это черное и белое. Когда песня есть, то есть, когда ее нет, то нет. Конечно, ты истощаешься, возможно, не до конца, но все исчерпывают какой-то материал, тему, о которой какое-то время пишут. И это очень пугает. Тягостно об этом думать: «О боже, только это всегда приносило мне успех и помогало делать деньги. А теперь я этого лишаюсь». Так что сразу появляется чувство незащищенности. Именно поэтому я провожу все эти сексуальные и прочие эксперименты – чтобы понять, что может случиться, чтобы понять, есть ли еще что-нибудь, чего я еще не обнаружил.
А многим ли еще ты мог бы заняться, если бы не писал песни?
– Нет, правда, нет. Я вообще не создан для того, чтобы делать многое.
* * *
Почему бы нам не поговорить немного о «Good Vibrations»[81]?
– С этого неплохо было бы начать. На «Good Vibrations» ушло полгода. Самое начало мы записали в Gold Star Recording Studio, потом мы отнесли запись в Western, потом – в Sunset Sound, потом мы обратились в компанию Columbia.