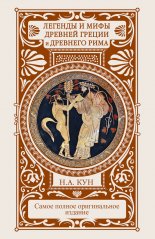Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет Леви Джо
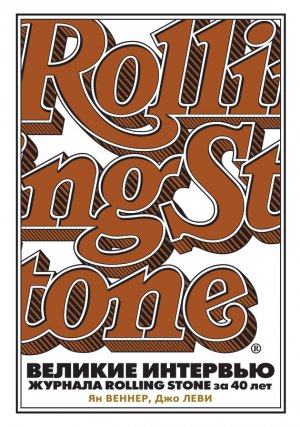
Это оказалось хорошим шагом, потому что танцоры репетировали вечерами. Они репетировали в половине восьмого, поскольку учительница танцев была настоящей учительницей танцев и могла репетировать с нами от половины восьмого до десяти вечера. И стало быть, я приходил домой, обедал и говорил: «Мама, мне пора». И уходил из дому, а это было даже лучше, чем уходить из школы. Я уходил на три часа, и оказалось, что танцоры были именно теми людьми, о которых я вам рассказывал, – неудачники в той школе. Они были немного с придурью, и вкусы у них были разные. Невероятно приятное для нас время. Иногда учительница говорила: «Мне надо уйти пораньше», а мы: «Ой, как плохо, значит, мы лишний часок будем пить джин из бутылок из-под колы и танцевать с этими девчонками, чертовски плохо». И я возвращался домой навеселе от джина с кока-колой, и мама спрашивала: «Ну, и как?», а я отвечал: «Ух, я ушиб ногу». Она думала, что я Барышников или что-то в этом роде, так я этим увлекался. Самое потрясающее время моего пребывания в школе – это работа над этим спектаклем, поэтому я попался на удочку шоу-бизнеса.
Каков был ваш следующий шаг?
– Ну, в колледже я записался в класс театрального мастерства, потому что думал, что там сладкая жизнь, и в нем было много девушек. Я знал, что могу играть так же, как эти девушки, которых я видел в кафетерии. И я подумал: если ты мужчина и поступишь на курс, где в основном женщины, то не сможешь получить более низкую оценку, чем твоя соученица. А все эти девушки получали хорошие оценки, потому что учитель слыл у них настоящим артистом – знаете, «О да, я – артист». Но когда урок заканчивался, он оставался один. И если ты не смотрел на него с насмешкой, когда он таращился на какую-нибудь девицу, то получал хорошую оценку. Но я прозанимался там всего один семестр. Так-то вот.
Значит, вы не подражали никакой звезде.
– Значит, нет. И на самом деле так случилось, что мой брат Брайан начал выступать, а я пошел на него посмотреть. Брайан старше меня на пять лет. После средней школы – когда я еще учился в начальной школе – он пропал. Некоторое время учился в Калифорнии, а потом бросил и стал стрелочником на железной дороге. Однажды он утопил в бухте Сан-Франциско два автомобиля, но мне кажется, все железнодорожники совершают нечто подобное. Он совершал много несуразностей.
Когда умер отец, Брайан вернулся, якобы для того, чтобы помочь семье. Он нашел хорошую работу, и если бы не бросил ее, то в конце концов сильно разбогател бы. Но через полгода он бросил эту работу и устроился в актерскую студию Second City. Он начал с того, что подрабатывал там, а потом стал работать полный рабочий день. Мама была вне себя от радости. Не могла в это поверить.
Брайан жил в Старом городе, где жили все хиппи, и я стал туда наведываться. Именно там я познакомился с Гарольдом Реймисом, Джоном Белуши, Джо Флаэрти и Делом Клоузом, который руководил шоу, и Берни Салинсом, который руководил студией Second City. Они думали, что я нарушитель спокойствия – хиппи по выходным, знаешь ли, который каждый вечер возвращается к своей обычной жизни.
У меня были хорошие друзья на Северо-Западе, и я притащил их туда, и мы все прокрадывались в шоу, чтобы посмотреть бесплатно. А когда ты уже посмотрел шоу сто раз, то кому же придет в голову, что ты будешь платить.
Вы с Брайаном были главными юмористами в семье?
– Нет, все были прикольными. Все были смешные.
И отец был смешным?
– Он был действительно смешным, но рассмешить его было нелегко. И он, черт побери, ни за что бы не засмеялся, если бы не было по-настоящему смешно.
Отец моего отца был настоящий дурак. Он и умер сумасшедшим. Он прожил до девяноста лет. Он был из тех ребят, что носят клоунские галстуки-бабочки. Но его действительно надо было достать, чтобы он нацепил этот галстук. Он делал это только по самым нелепым случаям, случаям с особым поводом.
Он был очень хороший человек, мой дед. У него в кармане всегда была лакрица, банка пива Budweiser и пачка сигарет Camel. Зубы у него были вставные. В нашей семье всегда был маленький ребенок, и дед всегда говорил: «Иди сюда, малыш». А потом вынимал свои зубы, как привидение в «Охотниках за привидениями», и до смерти пугал ребенка. Мама ужасно злилась на него: «Дед! Разве так можно?» Он ничего не говорил – просто потягивал свое пиво.
А у мамы как обстояли дела с чувством юмора?
– Ну, я никогда не думал, что она смешная, но теперь я понимаю, что она как бы не владеет собой, с чудинкой. Просто я никогда этого не замечал. Я как бы принимал все это всерьез, знаете ли, и делал вид, что все нормально. Теперь я понимаю, что за ней занятно наблюдать так же, как занятно наблюдать за детенышем панды в зоопарке. Я даже стал записывать ее телефонные звонки, когда работал в программе Saturday Night Live[136]. Никогда не думал, что кто-то может вести себя так, и понял, что слушал это всю свою жизнь. То есть можно слышать работу ее ума. Я все время урываю у нее материал.
Можно какой-нибудь пример?
– Сразу не соображу. То есть я заимствую столько, что иногда Брайан смеется и говорит: «Мама». Если бы я начал уделять внимание моей маме, когда мне было двенадцать лет, а не пытался бы улизнуть из дому и не общаться с ней, я бы не только смог немного лучше обращаться с ней, но мог бы составить гораздо более полное представление о женщинах и вообще о людях. Мне кажется, мною владел страх перед неизвестным. Теперь она стала мамой в шоу-бизнесе. Она сходит с ума. Помню, как она однажды выбралась в Голливуд, и мы повезли ее в клуб Polo Lounge. Брайан позвал Дуга Кенни[137] и сказал: «Покажи моей маме Polo Lounge». И вот этот парень с внешностью мексиканского генерала идет сквозь толпу, зычно выкрикивая: «Люсиль Мюррей, Люсиль Мюррей», и все посетители Polo Lounge оглядываются на Люсиль Мюррей, а она как будто ждет бурных аплодисментов всей толпы. И вдруг с ней что-то произошло. Она заговорила, как журнал Photoplay 1959 года, об Эдди Фишере и Лиз Тейлор, о Ричарде Бертоне и всех прочих. Недель шесть или семь она просто чудила. Она подзывала меня и говорила нечто вроде: «Ну, теперь им надо прийти за тобой». То есть мы привезли ее в наш темный мирок, а теперь она фигура шоу-бизнеса. Это было безумие. Такой была моя мама, женщина, некогда спросившая меня: «Разве ты не был бы счастлив, если бы создал театр общины?», вдруг она стала вести мои дела.
А когда она сказала о театре общины?
– В самом начале, после Second City. Вообще-то, она могла сказать это и Брайану. Она ничего не понимала в актерском мастерстве, хотя Брайан получил хорошие рецензии в Чикаго и действительно здорово играл. А может быть, это было в тот период, когда он уехал в Голливуд и пробовал себя на разных работах и снова голодал. Она сказала: «Это не работа. Не попробовать ли тебе играть в театре общины?» Ей хотелось, чтобы он занялся чем-то, что может обеспечить заработок. «Прекрасно, у тебя все зашибись, а у меня дома восьмилетний ребенок, и его надо кормить». То есть просто удивительно, как ей удалось поставить на ноги всю семью. Удивительно и то, как сделал это отец на свои деньги.
Когда вы впервые работали с Белуши?
– Возможно, раза два я импровизировал с ним в труппе Second City. Но стал работать с ним, только когда приехал в Нью-Йорк. Это случилось в шоу National Lampoon. Джон был одним из продюсеров. Он вытащил всех этих людей в Нью-Йорк – Флаэрти, и Гарольда, и Брайана – и устроил их на радио. У него жило много людей. Потом он организовал шоу National Lampoon, и мы отправились в турне: Филадельфия, Онтарио, Торонто, Лонг-Айленд. 1975 год. Впоследствии мы открыли филиал Бродвея в местечке Нью-Палладиум. По дороге мы жили с Белуши в одной комнате. В то время мы пили много пива Rolling Rock.
То есть вы не употребляли кокаин ночи напролет?
– Нет, нет, нет. На кокаин у нас денег не было. Да и кокаин в то время не пользовался спросом.
А легкие наркотики?
– Ох, курили травку. В то время мы в основном выпивали. Почти на всех выступлениях мы получали бесплатное спиртное, ну и пили. Мы все еще были голодающими актерами, так что нам приходилось цепляться за любые чаевые. Мы пили шампанское с апельсиновым соком в Нью-Палладиуме. Сок там был особенный. И это мировой напиток, чтобы продолжать работу, потому что в нем есть сахаристая мякоть и он приятный и холодный. А кондиционеры в том месте неважнецкие, и мы просто обливались потом. После трех представлений в субботу вечером приходилось буквально отжимать рубашку и класть ее в пластиковую сумку.
В представлении все были хороши: Белуши, Гильда Рэднер, мой брат Брайан, Гарольд Реймис, Джо Флаэрти, а потом и Ричард Белзер. Однажды что-то случилось, и я опоздал, поэтому стал смотреть представление. И это было самое смешное представление, какое я когда-либо видел. Они были самыми смешными людьми в мире. Я хохотал. А ведь я уже участвовал в этом шоу три с половиной месяца.
Как вы ушли из шоу «Lampoon» в шоу «Saturday Night Live»?
– Ну, в то время как мы играли на сцене, начался кастинг для Saturday Night Live с Говардом Козеллом и для собственно Saturday Night Live. Организаторы обеих программ приходили посмотреть наше шоу. Мы все прошли просмотр для Лорна Майклза в Saturday Night Live. Программа все не выходила, и мы с Брайаном и Белуши собирались начать работу в Saturday Night Live с Говардом Козеллом, потому что, казалось, Майклз и не думает нас нанимать. Потом Белуши стал работать в собственно Saturday Night Live, а Брайан, Крис Гест и я – в Saturday Night Live с Говардом Козеллом. Все остальные были заняты в другом шоу. И значит, мы были на ТВ, и они тоже. Но они делали шоу, а мы выходили с китайскими акробатами, со слонами и всем таким прочим, и нас могли снимать раз в две недели. А потом это шоу отменили, и мы получили работу в документальном фильме, который снимался на ТВ о супербоуле[138]. Снимал фильм Майкл Шэмберг, и ему были нужны смешные люди для смешных ситуаций.
Потом Шэмберг поинтересовался, не хотел бы я поработать с ним еще над парочкой документальных фильмов, и тогда я отправился на девять месяцев в Калифорнию. В это время Saturday Night Live продолжал крутиться, а Чеви ушел из шоу, и им понадобился кто-нибудь новенький, и они обратились ко мне. Я работал с Гильдой и Белуши в шоу Lampoon; я познакомился с Дэнни, когда мы были в труппе Second City. Поэтому они решили, что мне знакомы стили. «Мы работали с ним. Он подойдет».
Ну и как вам в качестве новенького?
– Ну, было нелегко. Почти полгода мне пришлось быть на вторых ролях. Они устроили мне своего рода недельный тест – столько на меня взвалили, что я просто обалдел, до того мне это понравилось. Я просто хохотал. Они поставили меня в три шоу. В три шоу – чтобы проверить, справлюсь ли я. После первого шоу Лорн сказал: «Ну, мне кажется, ты отправишься в Нью-Йорк». Мне было приятно, но потом, в следующие полгода, я был не у дел. Они нагрузили меня в первую неделю, а потом я понял, какой на самом деле был конкурс.
Нелегко было потому, что шоу делали писатели, а они не знали меня, и писали для тех, кого знали. Если ты разок отлично справишься с какой-то сценой, то в другой раз писатели будут для тебя писать. Если ты проявишь остроумие в чьем-либо скетче, ты попадешь в историю.
Я слышал, вам пришлось согласиться на «Охотников за привидениями», чтобы получить поддержку для съемок фильма «Острие бритвы». Так и получилось?
– Случилось так, что мы с Джоном Байрумом поставили «Острие бритвы» на экспериментальной сцене в Columbia – нам выделили небольшие деньги для работы над сценарием, но никто не спешил им заняться, а хотели сначала посмотреть, как пойдет переработка. Потом Дэн Эйкройд позвонил мне по поводу замысла «Охотников за привидениями», и я сказал: «Да, это здорово». Они прислали страниц семьдесят пять, и в течение часа мы заключили сделку. У них был продюсер, у них был режиссер, у них было все. Но еще не было конкретной студии; просто проект, витающий в воздухе. Потом неожиданно все студии узнали об этом, и все захотели снимать. И вот Дэн сказал: «Ну, пожалуй, мы на это пойдем». Я сказал: «Ну, знаешь, я бы попробовал поступить по-другому. Я постараюсь убедить эту студию дать делу ход». И он сказал: «Ну, скажи им, что они получат „Охотников за привидениями“, если снимут „Острие бритвы“». Итак, в следующие сорок пять минут у нас был продюсер и режиссер фильма «Острие бритвы». Мы поехали и сняли его в то же лето. Columbia стала проявлять нетерпение по части «Охотников за привидениями». Все время, пока мы находились в Ладахе[139], мы получали послания, обычно трехдневной давности, в которых говорилось: «Билл закончил? Двадцать пятого он должен быть на съемках „Охотников за привидениями“». Я сделал ошибку, позвонив в Америку из Агры, из того белого здания – знаешь, из Тадж-Махала. Рядом с ним была телефонная будка. Они сказали: «Возвращайся немедленно». Я хотел дней десять отдохнуть. Так устал, что даже четыре или пять дней не покидал гостиничный номер в Дели. Практически ничего не делал, только спал. Потом я узнал, что они собираются к концу недели закончить съемки черновой версии фильма «Острие бритвы», поэтому решил лететь в Лондон и посмотреть ее. Прилетел, посмотрел. На другой день я сел на «Конкорд», полетел в Нью-Йорк и прямо из аэропорта отправился на съемочную площадку на углу Мэдисон и Шестьдесят второй улицы. Кажется, я весил около ста семидесяти одного фунта. Похудел на тридцать пять фунтов. Поэтому сразу набросился на еду. (Смеется.) Ассистент продюсера спросил: «Чашечку кофе?» И я ответил: «Да, и парочку пончиков».
Первые несколько недель я работал из-под палки. Примерно так: «Где Билл?» – «Ой, он спит». Потом за мной трижды присылали; ко мне стучались и говорили: «Ты там действительно нужен». Я выползал, что-то там делал и снова шел спать. И все время думал: «Десять дней назад я был там и работал с важными ламами в гомпе[140], а здесь я изгоняю привидений из аптек и рисую слизь на своем теле». Почти месяц потребовался, чтобы врубиться. Я думал: «Какого черта я здесь снимаюсь?» Вот ты бы посмотрел на съемочную площадку в Ладахе, там тридцать пять монахов глазели на меня, просто глазели. И было ясно, что у них есть для этого основания. Я все время об этом помнил. Помнил, что я человек, смертный человек, и поэтому мне лучше не тратить здесь время. Поэтому, когда я оказался в Нью-Йорке, я сидел, глядя на другую сторону улицы, а мне из окна махал весь штат «Дайана Росс Продакшнз», а потом они пришли взять автограф. Это был первый рабочий день. Вдруг мир совершенно преобразился. Но спустя какое-то время стало приятно работать над фильмом, и я снова включился в ритм Голливуда, столь отличный от ритма Ладаха. Занятно быть с Дэном и Гарольдом Реймисом. Опытные актеры, просто фантастика. К тому же они так понимают обстановку: сейчас ты просто парень, а потом тридцать секунд или полторы минуты ты – кинозвезда, а потом снова парень. А потом ты снова кинозвезда. Они видят разницу, и видят веселые моменты вокруг, когда ты якобы кинозвезда.
Вообще-то у вас было время обдумать вашу роль в «Охотниках за привидениями». Вы же не попали с «Конкорда» прямо на съемочную площадку?
– Нисколько. Я просто играл. Гарольд и Дэн написали сценарий. Если чего-то не хватало, они говорили: «Ну, допишем». Мы просто снимали. Когда я на днях увидел фильм, я понял, что в нем больше импровизации, чем мне казалось. Особенно в смысле игры актеров.
Я никогда не снимался в фильмах с хорошими сценариями. И мне кажется, сейчас почти все киноактеры меняют слова своих ролей. Раньше я так не думал. Потом я работал для Дастина Хоффмана[141]. Дастин долго менял свою роль. В ходе каждого эпизода он играл по-иному. Он снял пять разных фильмов. Даже если он не менял слова, то менял смысл. Не знаю, как они сняли этот фильм. Думаю, только так и следует работать. По-моему, невозможно играть одинаково во время каждой съемки. Это физически невозможно, так что же волноваться? Если ты не делаешь того, что происходит в данный момент, это не реально. Тогда ты скатываешься назад.
Вы пресытились комедиями?
– Думаю, что все комедии, которые мы снимаем, становятся лучше. И пусть даже они не совершенны и, может быть, кажутся глупыми, мы каждый раз учимся тому, как их снимать. Никто же не ожидает от плотников, что они овладеют мастерством, изготовив шесть стульев, а мы сняли всего шесть фильмов. Надо снять их много, а это требует времени, просто так много трудностей, потому что деньги такие большие. За неделю снимается так много фильмов. То есть в былые времена я бы снял уже тридцать пять фильмов и поработал бы со многими людьми и многому бы научился. А так я работаю с шестью режиссерами, семью режиссерами, восемью режиссерами, что-то вроде того. Знаете, это ерунда по сравнению с тем, что делали старики. И мне хотелось бы поработать со многими актерами, хотя именно режиссеры чему-то нас учат и операторы. Эти ребята знают. Это как чистое знание, никакого притворства. Они или знают, или не знают. Никакой лжи.
Вы надеетесь сыграть в будущем более серьезные роли? Зависит ли это от успеха фильма «Острие бритвы»?
– Ну, в какой-то мере это зависит от успеха или провала фильма «Острие бритвы», потому что если режиссеры посмотрят его и скажут: «Этот парень вроде бы умеет играть», то я получу предложение от серьезных режиссеров. А пока я в телефонной книге на букву «К» – «Комедия».
Клинт Иствуд
Интервьюер Тим Кэхил
4 июля 1985 года
По некоторым данным, вы – самая популярная кино звезда в мире. Случается ли, что иногда, проснувшись утром, вы смотритесь в зеркало и говорите: «Неужели это я?» То есть удивительно ли это для вас?
– Возможно, если бы я много об этом думал. Да, мне кажется. Мне кажется, ты оглядываешься назад и говоришь: «Как парень из Оклэнда так продвинулся?» Уверен, что и другие так или иначе задаются этим вопросом о себе.
Начнем с фильма «За пригоршню долларов». Как все началось?
– Ну, в то время я уже лет пять снимался в телесериале «Сыромятная плеть». Позвонили из агентства и спросили, не будет ли мне интересно сняться в вестерне в Италии и Испании. Я ответил: «Не особенно». Мне уже изрядно надоели сплошные вестерны. Меня спросили: «Может быть, хотя бы взглянете на сценарий?» Ну, мне стало любопытно, я прочел его и сразу же узнал в нем фильм Куросавы «Телохранитель», который мне очень понравился. Когда я посмотрел его много лет назад, то подумал: «Э, да это же настоящий вестерн». Впрочем, ни у кого в Штатах не было желания снимать такой вестерн, и когда я понял, что у кого-то где-то такое желание есть, то подумал: «Здорово».
Правда, Серджио[142] был в это время режиссером другого фильма, но мне сказали, что у него хорошее чувство юмора, и мне понравилось, как он интерпретировал сценарий «Телохранителя». А мне нечего было терять, потому что, отдохнув, я должен был вернуться к сериалам. И я сказал себе: «Почему бы нет?» Я ни разу не был в Европе. Уже одного этого было довольно, чтобы поехать туда.
Вы сказали, что в оригинале сценария Человек без имени простреливает себе рот так, как будто выстрел произведен не из его ружья.
– Сценарий был очень подробный, да. Однако мне показалось, что этому персонажу надо придать больше таинственности. Я то и дело говорил Серджио: «В подлинной картине категории „А“ ты позволяешь зрителю размышлять по ходу действия; в картине категории „В“ ты все разъясняешь». Так я его убеждал. Например, была сцена, где стрелок решает спасти женщину с ребенком. Она спрашивает: «Почему ты это делаешь?» По сценарию он просто очень долго говорит. Он говорит о своей матери, обо всех побочных линиях, возникающих ниоткуда, – поэтому в ночь перед съемками я просто переписал эту сцену.
О’кей, женщина спрашивает: «Почему ты это делаешь?» – а он…
– «Потому что когда-то я знал одного человека в таком же положении, но никто не пришел ему на помощь».
Вам удалось вместить десять страниц диалога в одно предложение.
– Мы оставили ответ недосказанным, чтобы зрители были заинтригованы, думали: «Эй, погодите, что же случилось?» Это попытка дать людям возможность проникнуть в повествование, что-то найти в нем, выбрать мелкие, полюбившиеся им детали. Равносильно тому, чтобы найти то, над чем вы работали и чего искали, и это доставляет больше удовольствия, чем когда тебе на блюдце подносят толкование.
Значит, вы очень верите в ваших зрителей.
– Приходится. Вы не подыгрываете людям, не говорите: «Пожалуй, сделаю это проще, понятнее». Например, в фильме «Джоси Уэйлс – человек вне закона», когда герой в конце уезжает, мы с редактором хотели наложить на него лицо девушки. Редактор сказал: «Хочется, чтобы зрители знали, что он к ней возвращается». Ну, мы все знаем, что он вернется. Если он отправляется в другой конец города, то зрители скажут: «Ну, сейчас повернет налево». Если разъяснять зрителям то, что им уже известно, это поистине означает смотреть на них свысока. Равно как не стоит говорить им о том, до чего они могут дойти сами, потому что это следует из сюжета. Я стараюсь предоставить им такую возможность.
Возможность…
– Немного думать о сюжете.
Вы снялись еще в двух итальянских вестернах Леоне: «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой, злой».
– Да. Эти два были более приглаженными, более изысканными по исполнению. Сюжеты у них не очень содержательные. Они состояли из множества смонтированных вместе виньеток. Мне это очень нравилось, было интересно. Эскапизм. Американский вестерн в это время переживал мрачный период. Но когда Серджио предложил мне сняться в одном из очередных вестернов, я подумал, что это уже слишком. Вернулся в Голливуд и снялся в картине «Вздерни их повыше». Серджио был заинтересован в том, чтобы его фильмы становились длиннее и свободнее, а мне были интереснее люди и развитие сюжета. Полагаю, это диктовал мой эгоизм, потому что я – актер и мне хотелось глубже проникнуть в характеры.
Вы описали себя как интроверта. Как вы думаете, не объясняется ли это тем, что в детстве вы вместе с семьей переезжали с места на место?
– Да, возможно. Мы много разъезжали по Калифорнии. Жили в Реддинге, Сакраменто, Хейворде. Мои родители поженились году в 1929-м, как раз в начале Великой депрессии. Это был трудный период для всех, а особенно для молодого парня, каким был тогда мой отец, только вступавший в жизнь. В то время все искали работу. Иногда работа не удавалась или вас просто не могли держать. Мы разъезжали в старом «понтиаке» или в чем-то подобном, тащившем за собой прицеп. Это были не «Гроздья гнева», но и не жилые кварталы.
Вырасти в обстановке, когда всего не хватает, значит, получить консервативную основу. Помню, однажды мы переезжали из Сакраменто в Пэсифик Пэлисейдз, потому что отец устроился заправщиком на бензоколонку. Она до сих пор существует, та бензоколонка. На пересечении Шоссе 101 и Сансет-бульвар.
Чем вы увлекались в школе?
– Я немного играл в баскетбол. Немного в футбол, в команде юниоров. Но я не мог по-настоящему заняться командными видами спорта, потому что мы все время переезжали. Немного занимался плаванием, а в одной школе я даже стал чемпионом по гимнастике, так что некоторое время этим хвастался. Я не особенно подходил для гимнастики, потому что был таким рослым, но она мне нравилась.
Полагаю, одно из моих самых больших увлечений в детстве – это джаз; я всегда его любил. Джаз в самом широком спектре. В 40-е и 50-е годы я слушал Брубека и Маллигана. Любил Эллингтона и Бейси. Я читал книги обо всех: о Биксе Байдербеке, Кинге Оливере, Бадди Болдене. Я был очень любознательным.
Потом, на протяжении 40-х годов, я посещал джазовые концерты в филармонических залах. Однажды побывал на концерте с участием Коулмена Хокинса, Лестера Янга, Чарли Паркера и целой группы исполнителей классического джаза. Теперь, когда я разговариваю с композиторами, которые, возможно, лет на десять моложе меня, они все завидуют мне: «Вы видели этих ребят живьем!»
Вы сами исполняете джазовую музыку на пианино.
– Да, в детстве я играл. Баловался и некоторыми другими инструментами, но был ленив. На самом деле я не занимался музыкой. Просто начал снова в последние годы. Я хвастался своими композициями. Пять-шесть вещиц. Одну я использовал как тему моей дочери в картине «Петля», а еще сочинил тему для девушки в фильме «Имя ему Смерть».
Мне немного жаль, что я бросил заниматься музыкой, особенно когда я слушаю людей, которые сносно играют. Я играл немного при записи звуковой дорожки для фильма «Заваруха в городе». После сессии я разговорился с Питом Джолли и Майком Лэнгом о том, как мы все начали играть на фортепиано. Начали совершенно одинаково, только те ребята продолжали учебу. Мы начинали с блюзов – блюзы играли на вечеринках. Я был застенчивым подростком, но мог сесть за инструмент и играть блюзы. А девушки окружали фортепьяно, и вдруг тебя приглашали на свидание.
У вас был хит в стиле кантри «Barroom Buddies», дуэт с Мерлом Хаггардом. Когда вас стала интересовать музыка в стиле кантри?
– Ну, думаю, можно сказать, что у Мерла Хаггарда был хит, и это меня увлекло. У меня не было горячего желания проникнуть в музыку кантри. По-настоящему я почувствовал ее в восемнадцать или девятнадцать лет, когда работал на бумажной фабрике в Спрингфилде (Орегон). Всегда было сыро, это располагало к депрессии. Зима. Сырость. Я никого не знал, и кто-то посоветовал мне пойти туда, где исполняют музыку кантри. Мне это было не очень интересно, но тот парень сказал, что там много девушек. И я пошел. Я увидел Боба Уиллса и его ансамбль Texas Playboys. В отличие от многих групп, исполняющих кантри, у них были медные и деревянные духовые инструменты, и они исполняли свинг в манере кантри. Хорошо играли. На удивление хорошо. К тому же там было много девушек, что меня совсем не удивило. Так что, полагаю, можно сказать, что эта страсть расширила мои музыкальные горизонты.
Почему вы бросили занятия музыкой?
– Я собирался продолжить. Пробовал поступить в Университет Сиэтла, где был сильный факультет музыки. Впрочем, я еще не поступил туда, когда получил повестку в армию… Думаю, с музыкой просто не заладилось.
Я отслужил два года и поехал в Лос-Анджелес, где поступил в Городской колледж на специальность «Бизнес». На службе я познакомился с Мартином Милнером и Дэвидом Янссеном – ребятами, которые были актерами, и когда мы демобилизовались, оператор устроил мне кинопробу. Я получил предложение подписать контракт с «Юниверсал», для начала на семьдесят пять баксов в неделю. Через полтора года меня уволили. Но для молодого парня это было неплохо. Каждый день мы занимались актерским мастерством.
Именно тогда вы поняли, что быть интровертом – это ценное качество для актера? Что на этом можно выехать?
– Не знаю, выезжал ли я на этом сознательно. Знаю, что уже много лет я известен тем, как играю теперь, – я играл не слишком разговорчивых персонажей. Скупые характеры. В некоторых книгах – даже у последователей Станиславского – говорится, что иногда меньше значит лучше. Иногда скупыми средствами можно сказать больше, чем чрезмерным словоизлиянием.
Сериал «Сыромятная плеть» был прекрасной учебной базой. Вдруг все, что вы когда-либо изучали об актерском мастерстве, можно было каждый день вкладывать в игру. Одно дело работать неделю в какой-то картине типа «Фрэнсис Говорящий Мул» – а именно так и случилось со мной – и совсем другое – работать каждый день на протяжении восьми лет.
Это вроде истории о великом классическом трубаче, которого однажды увидели в оркестре бейсбольной команды в Ригли Филде. Кто-то узнал его и сказал: «Боже мой, Маэстро, что делает величайший трубач мира в каком-то бейсбольном бэнде?» Он ответил: «Играть надо каждый день».
В «Сыромятной плети» я играл каждый день. Этот сериал на учил меня, как разгоняться и бежать, как набирать скорость, как воспарять.
В New York Review of Books недавно появилась статья о вас, в которой говорилось: «То, что особенно отличает Иствуда… это как эффективно он преодолевает поглощение собственно жанром, собственно стилем, пусть даже он предстает с его астеническим телосложением и внешностью гипнотизера, которые являются не чем иным, как выражением всего лишь стиля». Не желаете ли прокомментировать это высказывание?
– Ну да, стиль. Возьмите таких ребят, как Кирк Дуглас и Берт Ланкастер. Они потрясающие актеры, но их стиль более агрессивен. Оба сделали нечто необычайное, а некоторые фильмы не были известными хитами, но все равно были замечательными: Дуглас в фильмах «Одинокие отважны» и «Тропы славы»; Ланкастер в «Трапеции». Но их стиль немного отличается от, скажем, стиля Гэри Купера и Генри Фонды, потому что эти ребята были более застенчивы, более обращены внутрь себя, а вы всегда рвались вперед и удивлялись, о чем они думают. Школа Дуглас/Ланкастер никогда не вызывала сомнений. Фонда или Купер – с ними у вас нет полной уверенности. У них качество mysterioso.
Именно то, к чему вы стремитесь: малая толика неопределенности.
– Точно.
Давайте обсудим некоторые ваши фильмы. «Грязный Гарри»…
– В нем было что-то, чего, как мне казалось, недостает некоторым людям. Один критик сказал, что Грязный Гарри убивает парня в конце с такой радостью, что это привело его в восторг. Но там была вовсе не радость, а печаль. Посмотрите фильм еще раз, и вы увидите.
«Как ни крути – проиграешь»…
– Вдруг приходит Норман Мейлер и говорит, что ему нравится этот фильм, а поскольку он так хорошо зарекомендовал себя как писатель, все думают: «Постойте, а может быть, этот фильм не так уж и плох». Когда я читал сценарий, я и сам думал, что он хипповый. Вот парень, отдавший свое сердце обезьяне и потерявший девушку. Мне нравится и соотнесенность с моими вестернами. Парень нарочно проигрывает сражение в конце, потому что не хочет слыть самым метким стрелком на Западе.
«Бронко Билли»…
– Фильм об Американской Мечте и о мечте Билли, за которую он так отчаянно борется. И все это в контексте вневременной картины Дикого Запада; у этого фильма нет абсолютно никакого шанса стать хитом. Но он милый. Он чистый.
В центральной сцене Билли позволяет шерифу унизить себя, но не дает арестовать своего друга. Это так противоречит закрепившемуся за вами имиджу, должно быть, было занятно это сделать.
– Действительно, занятно. Мыслилось, что Билли вернется в конце и вытурит этого парня. Это разрушило бы картину, всю тему верности. Билли не оправдывает этого парня в том, что тот дезертир, и не может вполне осмыслить то, что такие чувства у его друга были вызваны войной во Вьетнаме. Он знает только то, что он его не одобряет, но не оставит в беде. Ну, а если бы Билли вернулся и в конце выбил бы из шерифа деньги, то весь фильм пошел бы насмарку. То, что ты достаточно успешен как актер, не служит оправданием тому, что ты можешь снимать все, что хочешь, на продажу. Надо снимать чисто. Не пытаться адаптировать фильм, чтобы сделать его коммерческим. Это не «Грязный Бронко Билли».
«Человек из притона»…
– Прототипами Реда Стовэлла в чем-то послужили мои знакомые, склонные к саморазрушению. Он гневливый и смешной, но придет время – и он проявит себя трусом. Он не желает отвечать за свои амбиции. Он не великий певец, но пишет интересные вещи. Когда приходит время ловить момент, он уже полностью разрушен.
И на студии предложили, что, возможно, было бы неплохо, если бы Ред не умер в конце?
– Я этому воспротивился.
Ваш новый фильм «Бледный всадник».
– Это вестерн. Одним из первых фильмов в Америке был вестерн «Большое ограбление поезда»[143]. Если рассматривать фильм как художественную форму, как делают некоторые, то вестерн был истинно американской художественной формой, во многом как джаз. В 60-е годы американские вестерны выдохлись, вероятно, потому, что великие режиссеры – Энтони Манн, Рауль Уолш, Джон Форд – уже почти не работали. Потом появились итальянские вестерны, и мы вполне обходились ими; они умерли естественной смертью. Теперь, по-моему, наступило время анализа классических вестернов. Все еще можно говорить о тяжелой работе до седьмого пота, о духе, о любви к земле и об экологии. И по-моему, обо всем этом можно сказать в вестерне, в классической мифологической форме.
Обычно вам не приписывают никакого чувства юмора, но некоторые предназначенные для этого эпизоды ваших фильмов вызывают взрывы хохота. Например, первая половина «Человека из притона» была очень смешной.
– Так и было задумано: юмористическая история, обернувшаяся трагедией. Комики – эксперты по этой части. Вспомните, каким был Джеки Глисон в фильме «Медовый месячник»: живость его героя, его реакция – стоит лишь взглянуть на его лицо, и вы смеетесь до упаду. Такое было под силу Джеку Бенни. Вовсе не обязательно, чтобы комедия представляла собой диалог. Вспомним о Бастере Китоне: бесстрастное лицо и весь этот хаос вокруг него. Иногда это вопрос времени, правильного ритма.
Вы обрели репутацию человека, который быстро снимает фильмы с низким бюджетом. Как вы думаете, связано ли это с тем, что вы выросли в период Великой депрессии?
– Я бы сказал, что это просто хороший бизнес, но может быть и то, о чем вы говорите. Возможно, депрессия повлияла на то, чтобы пропало желание видеть расходы.
Ходит слух, что актеры на ваших съемочных площадках работают быстро, потому что у вас нет стульев.
– Этот слух был порожден одним моим комментарием. Кто-то спросил, почему мне нравится снимать на натуре в отличие от студии. Я сказал: «В студии все ищут стулья. На натуре все работают». Но и в студии, и на натуре стулья имеются.
У вас также репутация человека, который открывает яркие или недооцененные таланты. «Громила и Попрыгунчик», например, был первым фильмом Майкла Чимино. Кое-кто мог бы сказать, что вы делаете это, потому что услуги таких режиссеров недороги.
– Нет ничего дешевого, и не думаю, что отрезал бы себе нос, чтобы досадить моему лицу. Не думаю, что я кого-то получаю дешево, потому что думаю, что он дешево стоит. Думаю, мне хотелось бы, чтобы фильм был как можно лучше. Иначе вы недооцениваете сами себя. Дорогих режиссеров ужасно много, но неизвестно, как они себя при этом чувствуют. Иногда это лишь вопрос умения преподнести товар и посредничества.
Я не работал со многими именитыми режиссерами, но я вырос в эпоху, когда они все уже уходили. Никогда не работал с Хичкоком или Уайлером, со Стивенсом или Капрой, с Хоксом или Уолшем. Я все это пропустил.
По-моему, самый дорогой режиссер, с которым я работал, это Дон Сигел. Пожалуй, от него я узнал о режиссуре больше, чем от кого-либо другого. Он научил меня, как вести свою линию. Он снимает на нищенские средства и снимает то, что хочет. Он точно знает, что ему нужно, и не прикрывает свою задницу сменой ракурсов.
Я узнал, что надо доверять своим инстинктам. Наступает момент, когда актер входит в образ, и режиссер это знает. За камерой этот момент виден вам еще отчетливее. А как только вы это поняли, как только это почувствовали, вам уже нельзя менять свое мнение. Если бы я стал спрашивать всех на съемочной площадке, как это выглядит, возможно, кто-нибудь и сказал бы: «Ну, господи, не знаю, муха 600 футов назад». Кто-то всегда найдет какой-то изъян, и очень скоро это пятно разрастется до невероятных размеров, и придется делать дубль. В то же время все забывают, что существует определенный фокус, и никто не увидит эту муху, потому что вы используете стомиллиметровую линзу. Но вот что вы можете сделать. Вы можете в чем угодно убедить или разубедить. Вы можете найти тысячу причин того, почему что-то не работает. Но если вы чувствуете, что это правильно и выглядит правильно, то оно работает.
Чтобы не казаться псевдоинтеллектульным тупицей, я должен оставаться верным самому себе. Если это работает на меня, значит, это правильно. Если я делаю неправильный выбор, то сдаю свои позиции и позволяю кому-то другому сделать это вместо меня.
Эрик Клэптон
Интервьюер Роберт Палмер
20 июня 1985 года
Поскольку мы начинаем с самого начала, то почему бы вам не рассказать немного о городе Рипли, где вы выросли.
– Он всего в тридцати милях от Лондона, но это уже сельская местность. Рипли – это даже не город, а деревня в окружении ферм. Мало кто уезжает оттуда. Люди, как правило, живут там, работают, женятся.
Какую музыку вы слушали в детстве?
– Прежде всего поп-музыку. В основном песни, которые пелись с военного времени: «We’ll Meet Again» Перри Комо – вот такую, мелодичную поп-музыку.
В субботу утром была такая занятная радиопередача для детей, которую вел странный человек Дядя Мак. Очень старый человек на одной ноге и с небывалой привязанностью к детям. Он исполнял вещи вроде «Mule Train», а потом каждую неделю сбивался на что-то вроде записей Бадди Холли или Чака Берри. Так я впервые услышал блюзы: песня Сонни Терри и Брауни Макги в исполнении Сонни Терри, который завывал и играл на губной гармонике. Это свело меня с ума. Мне было десять или одиннадцать лет.
А когда вы впервые увидели гитару?
– Гм… Помню, что первый рок-н-ролл, который я увидел по ТВ, был «Great Balls of Fire» в исполнении Джерри Ли Льюиса. Я был в отпаде, как будто увидел инопланетянина. И внезапно осознал, что вот я живу в этой деревне, в которой не предвидится никаких перемен, а там, на ТВ, уже кусочек будущего. И мне захотелось попасть туда! Вообще-то у Льюиса не было гитариста. У него был бас-гитарист, игравший на инструменте Fender Precision, и я сказал: «Это гитара». Я не знал, что это бас-гитара, но знал, что гитара, и снова подумал: «Это будущее. Вот, что мне нужно». Потом я начал мастерить гитару, пытаясь вырезать Stratocaster из деревяшки, но я не знал, что делать, когда дошел до грифа, ладов и остального.
Я жил и воспитывался у дедушки с бабушкой, и поскольку был единственным ребенком в семье, то они ужасно меня баловали. И я изводил их до тех пор, пока они не купили мне пластиковую «гитару Элвиса Пресли». Конечно, она всегда была расстроена, но я мог поставить пластинку Джина Винсента, стоять перед зеркалом и имитировать игру.
Когда мне исполнилось пятнадцать, мне подарили настоящую акустическую гитару, но играть было так трудно, что некоторое время я к ней вообще не прикасался. И очень скоро гриф начал деформироваться. Но я открыл аккорды: сначала ми, потом ля. Я думал, что совершил неслыханное открытие. А потом я снова отложил гитару, потому что заинтересовался профессией артиста. Манила жизнь богемы; вообще, красивая сторона жизни артиста привлекала больше, чем работа. И в это время, когда мне было лет шестнадцать, я начал по выходным наведываться в Лондон.
Проводя время в кафе и подобных заведениях, я познакомился со многими людьми, и некоторые из них играли на гитаре. Одним из них был Лонг Джон Болдри, который в то время играл на 12-струнной гитаре, исполняя фолк-музыку и блюзы. Каждую пятницу вечером все собирались у кого-нибудь, кто-нибудь приносил пластинки, только что привезенные из Штатов.
Короче говоря, кто-то принес альбом «The Best of Muddy Waters» и песни в исполнении Хаулина Вулфа. Это было то, что надо. Потом я нашел записи Роберта Джонсона и стал много слушать Мадди. Я очень серьезно относился к тому, что слышал. И я начал сознавать, что могу слушать эту музыку только с людьми, которые воспринимают ее так же серьезно.
Увлечение этой музыкой вернуло вас к гитаре?
– Да, Болдри и остальные просто сидели в углу и играли фолк-музыку и блюзы, а все вокруг пили и балдели. И я понял, что при желании это действительно возможно – просто сидеть в углу и играть, а на тебя даже не будут смотреть. Понял, что в этом нет ничего страшного, и не надо робеть. Так я и сам стал исполнителем.
А что исполняли, фолк-блюзы?
– Да, песни Биг Билла Брунзи и Рэмблин Джек Эллиота. Но потом я стал все больше тяготеть к электрическим блюзам, вместе с друзьями, с немногими избранными. И конечно, тогда нам приходилось быть пуристами и всерьез не любить остальные вещи.
Когда мне исполнилось лет семнадцать, меня вышибли из школы искусств, и я начал зарабатывать физическим трудом на карманные расходы. И в это время я познакомился с парнем, Томом Макгиннесом, который собирался организовать группу, а я уже знал достаточно, чтобы играть, и был в курсе дела. Так что меня приняли в группу под названием The Roosters[144], и это было приятно.
Какую музыку исполняли The Roosters?
– Кажется, «Boom Boom» и парочку других вещей Джона Ли Хукера, «Hoochie Coochie Man» и некоторые другие вещи Мадди. По правде говоря, мы исполняли все, что слышали на пластинках, вплоть до рок-н-ролла, вроде «Slow Down» Ларри Уильямса, потому что надо было иметь в репертуаре необычный рок-н-ролльный номер.
Потом Том Макгиннес принес сингл «Hide Away» Фредди Кинга, где на стороне «В» была запись «Have You Ever Loved A Woman», которая до сих пор остается одной из самых известных. И я впервые услышал солирующую электрогитару с ее дребезжащими нотами – стиль исполнения Ти-Боун Уокера, Би-Би[145] и Фредди Кинга. Именно прослушивая сингл Фредди Кинга, я избрал свой путь.
Согласно фамильному древу разных групп, составленному историком рока Питом Фреймом, The Roosters просуществовали с января по август 1963 года.
– Да, некоторые работали днем, и работа была для них важнее группы. Группа распалась. Но к тому времени у меня уже не было других интересов. Я много играл.
После The Roosters я играл с Томом Макгиннесом в другой группе – Casey Jones and the Engineers. С ней я записал всего один сингл, когда услышал, что появилась группа The Yardbirds.
В ричмондском клубе Crawdaddy выступали «Стоунз», а когда они закончили, то началось выступление группы The Yardbirds. На тусовках я познакомился с двумя парнями из группы, а в то время они исполняли музыку Джанго Рейнхардта – «Nuages» и так далее. Мы подружились, я ходил слушать их в клуб Crawdaddy и относился к ним довольно критично, особенно к их гитаристу. И не помню уж точно, как это вышло, но я занял его место. Одну неделю я был зрителем, а другую – исполнителем.
Вы правда не слушали ничего, кроме блюзов?
– Нет, я слушал современный джаз. Вслед за альбомом Джона Ли Хукера я ставил какой-нибудь альбом Джона Колтрейна. Не думаю, что я понимал Колтрейна, но слушал его много. Мне нравились его интонации, создаваемое музыкой ощущение.
Было ли предложение ангажемента группе The Yardbirds со стороны Санни Бой Уильямсона первой возможностью для вас играть с исполнителями американских блюзов?
– Да, и, по-моему, именно тогда я впервые понял, что на самом деле мы не были верны музыке – когда пришел Санни Бой, мы не знали, как ему угодить. Было по-настоящему страшно, потому что этот человек был реальным, а мы – нет. Он был не очень-то терпимым.
Через некоторое время мы ему понравились, но прежде он заставил нас пройти через чертовски трудный период. Прежде всего, он хотел, чтобы мы знали его мелодии. Он говорил: «Мы будем исполнять „Don’t Start Me to Talkin“ или „Fattening Frogs for Snakes“». А потом он мог передумать.
В группе царила особая атмосфера, некая гордость тем, что ты англичанин и белый и можешь «завести» толпу, и своего рода сопротивление тому, чего от нас требовали, – к чему нам изучать записи этого человека? Даже я немного заразился этим, потому что мы сталкивались лицом к лицу с реальностью, а она сильно отличалась от покупки пластинки, которую можно было при желании снять. Поэтому мы все его ужасно боялись, особенно я, видимо, потому что я только пробовал свои силы. Спустя годы Робби Робертсон из группы The Band сказал мне, что Санни Бой вернулся на Юг и жил вместе с ними и говорил, что тогда он пришел просто, чтобы играть с белыми ребятами, которые вообще не знали, как надо играть.
Да, Робертсон как-то раз сказал мне, что Санни Бой говорил: «Эти англичане так ужасно хотят исполнять блюзы – и они исполняют их так ужасно!»
– Точно. В то время мне казалось, что мы делаем это вполне прилично. Но к тому времени в группе наметилась тенденция в сторону поп-музыки, а приехал этот человек – и все снова скатилось к традиционным блюзам. И мне пришлось практически переучиваться.
Это мне много дало; я постиг особенности той музыки, которую чувствую до сих пор.
Что заставило вас уйти из группы The Yardbirds как раз незадолго до их успеха? Вам якобы опротивел тот первый поп-хит «For Your Love».
– Да. В какой-то период мы начали организовывать гастроли вместе с Ronettes, Билли Джей Крамером, The Kinks, The Small Faces и со многими другими испонителями и группами, и связь с клубами утратилась. Мы решили одеться в костюмы, и я придумал для всех нас фасоны костюмов. Потом мы подготовились к «Рождественскому шоу The Beatles», и в это время по-настоящему стали ощущать нехватку хита. Выступление занимало двадцать – тридцать минут, и надо было либо быть очень развлекательными, либо исполнять свои хиты. Много раз нас захватывала волна угара, а много раз – нет. Стало совершенно ясно, что если группа хочет выжить и делать деньги, то ей надо стать популярной. Мы уже не могли вернуться в клубы, потому что все вошли во вкус и поняли, как здорово быть известными.
Выбор песен был большой, и Джорджио[146] предложил песню Отиса Реддинга. Я думал, это будет потрясающий сингл, потому что это все еще были ритм-энд-блюз и соул, и мы могли исполнить их так, что закачаешься. Потом Пол[147] раздобыл демо «For Your Love»[148]. И вот мы отправились в студию, чтобы записать обе песни, но сначала записали «For Your Love». Все так обалдели от того, какой она была коммерческой, что даже не стали записывать песню Отиса Реддинга, и это меня страшно разочаровало, разрушило мои иллюзии. Поэтому мое положение в группе пошатнулось, и стало ясно, что мне лучше уйти. Потому что они уже рады были видеть гитаристом Джеффа Бека – в то время он был гораздо более покладистым, чем я.
Я замкнулся в себе, стал нетерпимым, просто догматиком. И они как бы попросили меня уйти, и я ушел, и почувствовал себя намного лучше.
Это то время, когда вы ничего не делали, а только занимались каждый день целый год? Или это недостоверная история?
– Ну, не год, всего несколько месяцев. Я никогда по-настоящему серьезно не занимался музыкой, делая это просто по ходу игры, пока не вышел из группы The Yardbirds. Тогда я отправился в Оксфорд к Бену Палмеру, который был клавишником в группе The Roosters и одним из моих закадычных друзей, и в то время я стал всерьез подумывать об исполнении блюзов. И вот во время моего пребывания там мне позвонил Джон Майалл, который узнал о моем серьезном настрое, если угодно, и о том, что я не гонюсь за деньгами или популярностью, и пригласил меня на прослушивание – да просто приехать и поиграть. Я получил работу и почувствовал, что стал главным в этой группе с первой же минуты. Я сразу же стал подбирать материал для репертуара группы.
И Майалл спокойно к этому отнесся? У него репутация своего рода деспота.
– Ну, по-моему, он нашел во мне родственную душу – нам нравилось одно и то же. С прежним гитаристом он не мог готовить некоторые номера, которые ему хотелось, например песни Отиса Раша, а мне их действительно хотелось исполнять. В этом мы были едины.
Отис Раш такой исступленный. Что вы подумали, когда впервые его услышали?
– Мне всегда нравились буйные парни. Мне нравились Бадди Гай, Фредди Кинг и Отис Раш, потому что они звучали как бы на грани срыва, как бы теряя контроль над собой, и в любой момент могли взять фальшивую ноту, и все распалось бы – но, конечно, этого не случалось. Мне это нравилось гораздо больше, чем Би-Би. Впоследствии я вошел в группу Би-Би, когда понял, что лоск тоже кое-что значит.
Некоторое время вы работали с Майаллом, а потом, еще до альбома «Blues Breakers», ушли от него и уехали в Грецию. В чем дело?
– Я жил вместе с совершенно безумными людьми – но с ними было по-настоящему здорово. Мы просто пили вино весь день напролет и слушали джаз и блюзы, и мы решили скинуться, купить «бьюик» и отправиться в кругосветное путешествие. Работа с Майаллом стала просто работой, а мне хотелось получать и удовольствие. Итак, мы очутились в Греции, играли блюзы, пару песен «Стоунз», все что угодно. Мы познакомились с одним владельцем клуба, который нанял нас для начала в греческую группу, исполнявшую песни The Beatles. Я там застрял, с этой греческой группой. Прошло недели две, и мне как-то удалось сбежать с намерением вернуться сюда.
Когда я вернулся к Майаллу, бас-гитаристом был Манфред Манн, и к Майаллу вернулся Джон Макви. Я подумал, что мне гораздо интереснее играть с Джеком[149]. В нем была творческая жилка. Почти все, что мы делали с Майаллом, – это подражали имевшимся у нас записям, а у Джека было еще что-то – он безо всякого пиетета относился к тому, что мы делали, и сочинял новые партии по ходу исполнения. Я буквально никогда такого не слышал, и это меня куда-то уносило. Я думал: вот если бы он мог исполнить это, а я бы смог свое, и мы бы смогли раздобыть ударника… Я мог бы стать Бадди Гаем с бас-гитаристом-сочинителем. Вот так появилась группа Cream.
Но еще раньше вы записали альбом «Blues Breakers», который стал поистине классическим. Как вам это теперь?
– В то время я просто думал, что это запись того, что мы исполняли каждый вечер в клубах, с несколькими придуманными переходами, своего рода запоздалые мысли, чтобы кое-что заполнить. Не велико достижение. И только когда я понял, что альбом «заводит» людей, я изменил о нем свое мнение[150].
Вы уже думали о создании группы Cream или по крайней мере группы с Джеком Брюсом?
– Ну, после того, как я познакомился с Джеком и музицировал с ним, мы с Майаллом работали там же, где и группа Джинджера Бейкера Graham Bond Organisation, и мне нравилась их музыка, только для меня она была слишком джазовой – джаз в духе Рэя Чарльза, Кэннонболла Эддерли, вот что они исполняли. Но потом Джинджер пришел за кулисы и сказал: «Мне нравится, как ты играешь. Хочешь организовать группу?» Я ответил: «Да, но тогда я взял бы и Джека Брюса», и он как бы нехотя согласился. Оказалось, что он и Джек противоположны на каком-то химическом уровне, просто разнополярные, они всегда конфликтовали. Но мы еще поговорили, потом встретились у Джинджера дома, где они с Джеком немедленно поссорились. А мне и невдомек: я не думал, что все так серьезно. Довольно быстро после этого я ушел от Майалла.
Как вы себе изначально представляли Cream? Вы снискали известность длинными джем-сейшенами, но в вашем первом альбоме Fresh Cream было много кантри-блюзов и других песен, и все довольно компактные.
– Думаю, наши представления о том, какими мы будем, были довольно абстрактны. Сначала я набросился на песни Скипа Джеймса и Роберта Джонсона. Джек сочинял, и Джинджер сочинял. У меня возникла мысль, как нам выглядеть прилично и быть при этом хорошей группой. Мы пробивались вперед, не получая большой отдачи, пока не стали играть перед зрителями. Вот тогда-то мы поняли, что они хотят «оторваться». И у нас хватило на это сил.
Я слышал выступление группы Cream в кафе Au Go Go в Гринвич-Виллидж во время вашего первого турне в США. Звук был действительно сильный – куча усилителей в таком маленьком помещении! И вы закатывали эти двадцатиминутные джемы. Я и не знал, что у Джека и Джинджера такая прочная джазовая основа, но казалось, что они способны на более свободное исполнение, которым как бы окружали ваши блюзы, составлявшие музыкальный костяк. Вам было комфортно в этой роли?
Время от времени, когда верх во мне брал пуризм, я мог почувствовать неуверенность. Но если бы я организовал трио, например, с ударником и бас-гитаристом для исполнения блюзов, то мы скатились бы к имитации, как это уже было с Джоном Майаллом. Я бы никогда не научился играть ничего своего. В Cream я был вынужден пробовать и импровизировать; часто ли мне это удавалось – другой вопрос.
Наша троица все время была в пути, мы верили друг другу, мы жили друг у друга в сердцах, и я увидел, что отдаю, понимаете, больше, чем когда-либо, и верю товарищам. Джек такой музыкальный гений, он никак и ни в чем не мог ошибиться. Я должен был верить этим людям, и я верил, я с этим жил. Конечно, когда мы возвращались в наши номера в отеле, то слушали нечто иное. И тогда у меня порой возникали сомнения, потому что я как бы раздваивался. Знаете, это страх, страх реального выражения и обнажения.
Похоже, в ваших музыкальных вкусах между записью «Fresh Cream» и вторым альбомом «Disraeli Gears» произошли изменения. Вы начали прибегать к звуковым эффектам и, должно быть, находились под сильным впечатлением от Альберта Кинга, потому что ваши соло в композиции «Strange Brew» и несколько других вещей были чисто альбертовскими.
Большие изменения произошли потому, что появился Хендрикс. Cream выступали в лондонском Политехническом колледже, и один чувак привел этого весьма странно одетого парня. Это был Джими. Он долго причесывался перед зеркалом. Очень умный, но в то же время очень непосредственный и очень стеснительный. Я сразу же привязался к нему, чисто по-человечески. Потом он спросил, можно ли ему поиграть, и исполнил «Killing Floor», мелодию Хаулина Вулфа. И это сразило меня наповал. Я был потрясен его техникой и выбором нот, звуков. Джинджер и Джек насторожились, считая, что он думает меня оттеснить. Но я сразу же влюбился в Джими. Он стал моим закадычным другом, а в музыке он делал то, что мне хотелось слышать.
Вскоре мы стали играть в некоторых лондонских клубах и слушать синглы Альберта Кинга, которые издавал лейбл Stax Records. Нас обоих очень это привлекало.
Даже после появления Хендрикса ваше исполнение все еще сильно отличалось от его исполнения.
– Он был руководителем своей группы, вот и все. Относительно Cream я чувствовал, что не должен пытаться слишком навязывать себя двум другим исполнителям, хотя я это делал. Кроме того, мне не нравилось – и все еще не нравится – полагаться на эффекты, которые не я сам создал. Значение имеет то, что ты собираешься исполнить.
Это был период, когда вас боготворили.
– С группой Cream я возвысился, уже начал складываться миф «Клэптон – Бог». Я стал задаваться; я был почти уверен в том, что я лучше всех, достигших популярности. Потом мы получили первый плохой отзыв, который, смешно сказать, появился в журнале Rolling Stone[151]. Журнал взял у нас интервью, и мы действительно задирали нос. Интервью сопровождалось рецензией, где говорилось о том, каким скучным и монотонным было наше исполнение. И это правда! Я не смог устоять перед правдой; я сидел в ресторане и потерял сознание. А когда очнулся, то сразу же решил, что с группой покончено.
Под конец стало ясно, что мы очень долго были замкнуты на себе и не понимали, что в музыке происходят изменения. Появлялись и развивались новые группы, а мы повторяли самих себя, держались за легенду, отстав уже на год или два.
По-настоящему Cream не была группой. Мы редко играли ансамблем; мы, три виртуоза, вели каждый сольную партию.
Должно быть, к концу группы Cream вы вошли в наркотическую фазу. Некоторые из исполнителей имели такую… особенность.
– Да, мы принимали много «кислоты», принимали много доз в свободное время. И пару раз мы выступали, накачавшись «кислотой».
И по сей день многие полагают, что музыка Cream была абсолютным зенитом рока. Многое из того, что сейчас называют «тяжелым металлом», вышло из вашего репертуара, вслед за группой Led Zeppelin. Что вы можете сказать этим людям?
– Надо двигаться дальше.
Я знаю, что вы не найдете хороших слов для альбома «Blind Faith», но он не устаревает.
– Ну, у «Blind Faith»[152] не было направления, или же просто мы не говорили себе, куда мы движемся. Потому что казалось достаточным просто делать деньги, а это не хорошо; все определяли звукозаписывающая компания и менеджмент. Я чувствовал, что все происходит слишком поспешно для Стиви[153]. Он чувствовал себя некомфортно, а поскольку изначально это была моя идея, то и мне было некомфортно. Я стал искать иное направление, альтернативу, и обнаружил, что «Дилэни и Бонни и друзья»[154] были посланы свыше. После турне группы Blind Faith я некоторое время жил бок о бок с «Дилэни и Бонни…».
Мы познакомились однажды вечером в Нью-Йорке и отправились в клуб Стива Пола, который назывался Stage, и приняли «кислоту». Оттуда мы отправились навестить Мака Ребеннака[155] и не вылезали из его номера, а потом вернулись в наш отель, то ли в номер Дилэни, то ли в мой. И Дилэни заглянул мне в глаза и сказал, что у меня певческий дар и что, если я не буду петь, Бог его отнимет. Я сказал: «Нет, старик, я не умею петь». А он: «Нет, умеешь. Возьми эту ноту: ааааа…»
И вдруг произошло невозможное: я взял эту ноту и почувствовал, что если я достоин его уважения, то должен продолжать петь. В тот вечер мы стали говорить о том, что мне следует сделать сольный альбом в сопровождении бэнда.
Не возвращались ли вы вспять, когда начали исполнять фолк-блюзы для битников?
– Да, я начал петь в пабах, но голос мой был очень слабым. У меня до сих пор несильный голос, потому что диафрагма у меня – лучше не говорить. Еще я спел пару старых песен с группой The Yardbirds, вот и все. Почти все свое время я отдавал гитаре. Позор, потому что, возможно, было бы лучше, если бы мне удалось сбалансировать пение и игру на гитаре на более ранней стадии моей карьеры.
Ходят слухи, что Дилэни, будучи уроженцем Миссисипи, вступил в баптистскую секту, чтобы заставить вас снова запеть. Так что же случилось после турне группы Blind Faith? Вы начали работать над сольным альбомом?
– Нет, сначала мы совершили турне по Англии и Европе как группа Delaney, Bonnie & Friends with Eric Clapton. И, заставив меня петь, Дилэни попытался заставить меня сочинять. Мы много писали. И это было здорово. Он начинал, а когда я приступал к следующему куску, он говорил: «Смотри, на что ты способен». Некоторое время я думал, что ему нужно получить пятьдесят процентов от сочинения песни, но это меня и вдохновляло. К концу того турне я был готов записать альбом и чувствовал в себе большую уверенность.
Почему вы отправились в Майами, чтобы записать альбом «Layla»?
– Там работал Том Дауд. Я работал с ним, когда входил в состав Cream, и он всегда был для меня – и остается – идеальным оператором звукозаписи.
Да, он спроектировал все те замечательные ритм-н-блюзовые и соул-сессии звукозаписи в компании Atlantic и практически изобрел стерео.
– Верно. И он способен вести вас очень конструктивным путем. И вот мы приехали туда; было много наркотиков и алкоголя, и мы все время тусовались. Здорово было. Примерно через неделю джема я решил послушать The Allman Brothers Band, которые выступали неподалеку, потому что я слышал гитару Дуэйна Оллмэна на «Hey Jude» и был от него без ума. После концерта я пригласил его в студию, и он остался. Мы просто влюбились друг в друга, и это было моментом рождения нашего альбома.
Впервые я встретился с вами во время сессий в Criteria Recording Studios. Вокруг было полно наркотиков, особенно героина, и когда я пришел, все просто валялись на ковре в отключке. Потом вы встали в дверях в старой коричневой кожаной куртке, с зачесанными назад волосами, как кочегар, и похоже было, что вы не спали много дней. Вы просто оглядели этот разгром и сказали, не обращаясь ни к кому конкретно: «Все с палубы ушли, один остался мальчик». И вырубились.
– Да. Мы жили в отеле на берегу моря, и любой наркотик по желанию можно было получить в газетном киоске; девушка просто принимала заказы. Помню, как Ахмет[156] появился в какой-то момент, отвел меня в сторону и плакал, говоря, что он уже прошел через эту чертовщину с Рэем[157] и ему известно, чем это заканчивается, и не могу ли я остановиться. Я сказал: «Знаю, о чем ты говоришь, старик. Нет проблем» И конечно, он был глубоко прав.
Вопрос с наркотиками каждый должен для себя решить раз и навсегда.
– Когда я начал употреблять[158], Джордж[159] и Леон[160] спросили меня: «Что ты делаешь? Для чего?» И я сказал: «Хочу совершить путешествие сквозь мрак, один, чтобы узнать, как оно там. А потом выйти с другой стороны». Но мне нетрудно было сказать это, потому что у меня была сила – музыка, к которой я смог вернуться. Для тех, кто лишен этого, существует большая опасность; если вам не за что держаться, вы пропали. Бесполезно просто говорить: «Ну, этот человек хочет пройти через что-то – неважно что». Надо постараться остановить таких людей и заставить их одуматься.
Музыка, которую вы с Дуэйном записали для альбома «Layla», была поистине необычайной, такой, которая рождается раз в жизни. Вы отправились в турне после окончания записи?