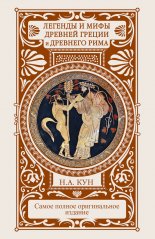Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет Леви Джо
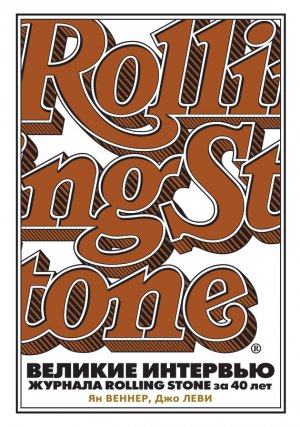
6 августа 1992 года
Со времени выхода вашего первого альбома на музыкальной сцене многое изменилось. Куда вы, по вашему мнению, вписываетесь в наше время?
– Как ни странно, я никогда никуда не вписывался. В 70-е годы музыка, которую я писал, была несколько романтической, в ней было много чистоты, и, разумеется, она не воспринималась как часть того конкретного времени. А в 80-е годы я писал и пел о том, что происходило с людьми, которых я видел вокруг, или о том, в каком направлении движется страна. А значит, и в этом я шел не в ногу со временем.
Ну, зная отклики на вашу музыку в то время, мне кажется, вы очень хорошо вписались в 80-е годы.
– Ну, мы были популярны, но это не одно и то же. Я пытаюсь делать только одно: писать музыку, которая представляется мне исполненной смысла, в которой таятся сокровенность и страсть. И по-моему, я чувствую, что если то, о чем я пишу, реально и при этом эмоционально, то найдется тот, кто захочет это послушать. Не знаю, большая у меня аудитория сегодня или меньше, чем была прежде. Но меня это никогда не интересовало в первую очередь. У меня как бы сложилась история, которую я рассказываю, и на самом деле я дошел только до ее середины… Мне хочется петь о том, кто я теперь. Когда я был молод, я всегда говорил, что мне не хочется дойти до того, чтобы в сорок пять или пятьдесят лет притворяться, что мне пятнадцать, шестнадцать или двадцать. Мне это было попросту неинтересно. Я – музыкант на всю жизнь, я буду исполнять музыку вечно. Не думаю, что наступит время, когда я не выйду на сцену, играя на гитаре, громко играя, с силой и страстью. Я с нетерпением жду, что, когда мне исполнится шестьдесят или шестьдесят пять, я все еще буду заниматься этим.
Вы сказали, что турне после выхода альбома «Born in the U.S.A.» знаменовало конец одной фазы вашей творческой карьеры. Какое влияние оказал на вашу жизнь грандиозный успех этого альбома и последовавшего турне?
– Я поистине наслаждался успехом альбома «Born in the U.S.A.»[188], но к концу всего этого я просто «выпал в осадок». Я сказал себе: «Тпру, хватит». Когда ты заканчиваешь творить такую икону, со временем она тебя подавляет.
Вы конкретно о чем?
– Ну, например, цельный имидж, который был создан – и который, я уверен, я развиваю, – он на самом деле не я. Это такой мачо, каким я просто никогда не был. Возможно, он содержит немного больше от меня, чем мне кажется, но когда я был ребенком, я был очень ласковым и все тому подобное.
Знаете, занятно то, что ты создаешь, но в конце концов, по-моему, единственное, что можно сделать, это разрушить созданное. Поэтому, когда я написал «Tunnel of Love»[189], я думал, что вновь преподношу себя как сочинителя песен, в роли, весьма далекой от иконы. И в этом было облегчение. И потом я уехал в одно местечко, где этот материал несколько улегся, и часть его появилась здесь, в Лос-Анджелесе; я исполнял музыку с разными людьми и наблюдал, что получается, и жил понемногу в разных местах.
Как вы ощущаете себя здесь[190] по сравнению с Нью-Джерси[191]?
– Лос-Анджелес дает много анонимности. Ты не кажешься большой рыбой в маленьком пруду. Люди обтекают тебя, говорят «Привет», но в основном тебе предоставлена возможность идти своим путем. С другой стороны, в Нью-Джерси я был словно Санта-Клаус на Северном полюсе. (Смеется.)
Как это?
– Гм, как бы это объяснить? Вроде бы становишься плодом воображения многих других людей. Что всегда требует некоторой сортировки. Но еще хуже, когда оказываешься плодом собственного воображения. Именно от этого я по-настоящему освободился за три последних года.
Мне кажется, именно это произошло, когда я был молод. У меня была идея разыграть мою жизнь, как кино, создавая сценарий и делая монтаж. И я действительно долго этим занимался. Но можно стать рабом собственного мифа или собственного имиджа, скажу так за неимением более подходящего слова. Довольно вредно, когда другие люди воспринимают тебя как миф, но по-настоящему вредно, когда ты сам себя так воспринимаешь. И я приехал туда, где мы встретились с Патти[192], и там я решил покончить с этой историей. Она не жизненна.
Именно тогда я понял, что мне нужна перемена и мне нравится Запад. Я люблю географию. Лос-Анджелес – занятный город. Полчаса – и ты уже в горах, где один магазин на сотни миль вокруг. Или в пустыне, где на пятьсот миль вокруг пять городков.
И вот мы с Патти приехали сюда, стали жить одной семьей, появились дети… в общем, я действительно упустил изрядную часть моей жизни. Я мог бы описать это единственным способом: иметь успех в одной сфере – это иллюзия. Все думают, что если ты в чем-то преуспеваешь, то преуспеваешь во многом. А в большинстве случаев все не так. Ты преуспеваешь в чем-то, и это что-то потворствует тому, что ты выключаешь себя из остальной твоей жизни. И со временем я понял, что во многом правильно использовал свою профессию, но в чем-то употреблял ее во зло. И это началось, когда мне было слегка за тридцать, – я твердо знал, что что-то не так.
Это было примерно десять лет назад?
– Да, все началось после турне по раскрутке альбома «The River»[193]. Я имел такой успех, о каком даже не мог и мечтать. Мы выступали по всему миру. И я подумал: «Ого, вот оно». И решил: «О’кей, мне нужен дом». И начал присматривать дом.
Два года я вел поиски. Ничего не смог найти. Вероятно, я побывал во всех домах штата Нью-Джерси, причем дважды. И так и не купил дом. Я думал, что просто не смог найти то, что мне нравится. И тут я понял, что дело не в том, что не могу его найти, – я не смог бы его купить. Я могу найти дом, но не могу его купить. Проклятие! Почему?
И я начал размышлять. Почему мне хорошо только в пути? Почему все герои моих песен едут в автомобилях? То есть, когда мне было лет двадцать с небольшим, я вел себя так: «Эй, вещи в чемодане, чехол для гитары, автобус – вот и все, что мне надо, сейчас и навсегда». И свято в это верил. И жил именно так. Долгое время.
В очерке, опубликованном в журнале Rolling Stone в 1978 году, Дейв Марш написал, что вы так преданы музыке, что совершенно невозможно представить вас женатым или имеющим детей или дом…
– Многие говорят то же самое. Но тогда что-то стало тикать. Казалось, что-то не так. Ситуация подавляла. Казалось так: «Это шутка. Я прошел долгий путь, и здесь в конце какая-то мрачная шутка».
Мне не хотелось стать одним из тех ребят, которые сочиняют музыку и рассказывают истории, чтобы влиять на жизни людей, а быть может, в чем-то и на общество, но не в состоянии разобраться в самих себе. Но было очень похоже, что именно это происходило со мной.
По своей природе я склонен к изоляционизму. И дело не в деньгах, не в том, где и как жить. Дело в психологии. Таким же был и мой отец. Чтобы отгородить свой дом, не нужны тонна цементного раствора и стены вокруг него. Мне известны многие, изолировавшие себя упаковками пива и телевизором. Но это во многом и мне свойственно.
Потом появилась музыка, и я ухватился за нее как за средство борьбы с самим собой. Так я мог разговаривать с людьми. Музыка давала мне средство общения, средство, с помощью которого я вписывал себя в социальный контекст, – к чему обычно у меня не было желания.
А музыка выполняла все это, но, в конечном счете, абстрактно. Она выполняла это для парня с гитарой, но парень без гитары оставался прежним.
– Теперь мне ясно, что два самых счастливых дня моей жизни – это день, когда я взял в руки гитару, и день, когда я научился ее откладывать. Кто-то сказал: «Старик, как тебе удалось так долго играть?» Я ответил: «Играть не трудно. Трудно прекратить».
Когда вы научились откладывать гитару?
– Сравнительно недавно. Я замкнулся в какой-то во многом лихорадочной одержимости, которая давала мне энергию и огонь, потому что эта одержимость коренилась в чистом страхе, в отсутствии любви к себе и ненависти к себе. Я выходил на сцену, и мне было трудно остановиться. Вот почему мои шоу так затягивались. Они были такими длинными не потому, что я задумывал или планировал их такими. Я не мог остановиться, пока не ощущал, что полностью выложился, перегорел.
Странно, ведь шоу или музыкальные вечера, которые давали положительный заряд другим, в чем-то были вредны для меня. В общем, для меня это был наркотик. И тогда я начал постепенно от него отвыкать.
Долгое время я мог не обращать на него внимания. В девятнадцать лет я в грузовике колесил по стране, и потом, когда мне было двадцать пять, я ездил в турне с группой – и это было как раз по мне. Вот почему мне все так удавалось. Но потом я вошел в тот возраст, когда почувствовал нехватку реальной жизни – или же начал понимать, что можно жить и по-другому. Вот так, почти сюрприз. Сначала тебе кажется, что ты живешь этой жизнью. У тебя много разных подружек, а потом: «Ой, извини, мне пора». Забавно, но отчасти так было и в моей семье, и у нас бывало так: «Привет, я пришел сказать, что хотел бы остаться, но мне пора». Точно про меня.
Что именно поставило вас перед фактом, что вы что-то упускаете или у вас проблема?
– Отсутствие счастья. И другие моменты, например, отношения с людьми. Они всегда заканчивались плохо; я никогда не знал, как поддерживать отношения с женщинами. Точно так же меня озадачивало – как можно иметь столько денег и не тратить их? До 80-х годов у меня, правда, совсем не было денег. Когда мы отправились в турне The River, у меня было, по-моему, порядка двадцати «кусков». На самом деле у меня впервые появились деньги в банке где-то в 1983 году. Но я не мог их тратить. Не мог развлекаться. Поэтому многое стало казаться нелогичным. Я понял, что веду себя несколько неадекватно. Я чувствовал, что это плохо. Вне контекста турне и вне контекста моей работы я ощущал потерянность.
Вы когда-нибудь обращались к психотерапевту или за подобной помощью?
– О, да. То есть я совершенно сник. На какое-то время совершенно выпал. И случилось то, что все мои рок-ответы испарились. Я понял, что моя главная идея – а в ранней юности такой идеей было отношение к музыке с поистине религиозной истовостью – до поры до времени была неплоха. Но настал момент, когда она обернулась против себя. И ты вступил на ту темную тропу, где начинается искажение даже самого лучшего. Я достиг того момента, когда почувствовал, что моя жизнь искажена. Я люблю мою музыку, и мне хотелось принимать ее такой, какой она была. Мне не хотелось, чтобы она заполнила всю мою жизнь. Потому что это ложь. Неправда. Музыка – не вся жизнь. И не может ею быть – никогда.
И я понял, что моя настоящая жизнь еще впереди. Вся любовь, надежда, печаль и грусть – все еще впереди, и все мне еще предстоит. И я мог бы не обратить на настоящую жизнь внимания и уклониться от нее или мог пойти ей навстречу. Но даже пойти навстречу части жизни – значит пойти навстречу всей жизни. Вот почему люди от нее отказываются. И принимают наркотики или что иное. Вот почему люди отказываются: пусть я откажусь от счастья, но мне не придется испытать и горя.
И вот я решил продолжить работу в этом направлении. Настойчиво работать. Так вы начинаете открываться самим себе. Конечно, я оказался не тем человеком, каким себя представлял. Это случилось примерно в то время, когда появился альбом «Born in the U.S.A.» И я купил большой дом в Нью-Джерси, который вполне мне подходил. В месте, мимо которого я все время проезжал. Такой большой дом, и я сказал: «Эй, это дом богача». И подумал, что это по-настоящему круто, потому что он стоит в том городе, где на меня все плевали, когда я был мальчишкой.
В Рамсоне?
– Да. Когда мне было лет шестнадцать-семнадцать, моя группа из Фрихолда выступала в клубе на берегу моря. И мы вызвали поистине враждебную реакцию. Думаю, из-за нашего внешнего вида – на нас были жилеты из ткани, имитирующей змеиную кожу, и у всех – длинные волосы. На фотографии, снятой, когда я работал в группе Castiles, я выгляжу именно так. И помнится, когда я выходил на сцену, эти ребята буквально на нее плевали. Но тогда такие вещи еще не вошли в моду и их еще не воспринимали нормально. Конечно, решение было странное, но я купил этот дом и сначала даже испытывал удовольствие, но потом началось турне «Born in the U.S.A.», и я снова отправился в путь.
Именно тогда вы встретили Джулианну[194]?
– Да, мы встретились где-то в дороге. И поженились. И это было круто. Я совершенно не знал, что значит быть мужем. Она была потрясающая женщина, но я не знал, что делать.
Была ли женитьба частью ваших стараний навести мосты, вступить в нынешнюю часть вашей жизни?
– Да, да. Я, правда, в чем-то нуждался и сделал попытку. Любой, прошедший через развод, может рассказать вам, что это такое. Это трудно, тяжело и больно для всех. Но я из этого вышел благополучно.
Потом мы встретились с Патти во время турне «Tunnel of Love», и я снова начал искать свой обходной путь. Но когда мы сбились с дороги в 1988 году, то для меня сразу же начался плохой год. Я вернулся домой, и толку от меня не было никакого.
Некоторые ваши фанаты думают примерно так же: переехав в Лос-Анджелес и купив дом за 14 миллионов долларов, вы их покинули, предали.
– Я выполнил свои обещания. Не перегорел. Не растратил себя. Не умер. Не отказался от моих музыкальных ценностей. Эй, я по уши в работе над всем этим. И почти вся моя музыка остается позитивной, свободной, живой, воодушевляющей. И, сочиняя ее, я заработал много денег и купил большой дом. И я его люблю. Люблю. Это здорово. Это прекрасно, поистине прекрасно. И в каком-то отношении это мой первый настоящий дом. Там фотографии моей семьи. И там место, где я сочиняю музыку, и место для детей – как во сне.
Я все еще люблю Нью-Джерси. Мы все время туда возвращаемся. Я присматриваю там какую-нибудь ферму. Мне хотелось бы, чтобы у моих детей и это было. Но я перебрался сюда и чувствую, что я парень, который родился в США, сбросил бандану, понимаешь?
За прошедшие два-три года я справился со многим и за это вознагражден. Я очень, очень счастлив; таким счастливым я еще никогда не был. И это не какое-то одномерное понятие счастья. В него входят и смерть, и горе, и смертность. Пусть все идет, как идет, и будь что будет.
Что самое классное в вашем отцовстве?
– Обязательства. Обязательства. Обязательства. Тебе страшно так сильно любить, тебе страшно настолько влюбиться. Потому что тебя охватывает страх, особенно в том мире, где мы живем. Но потом ты понимаешь: «О, понятно, чтобы любить так сильно, так сильно, как я люблю Патти и моих детей, надо уметь принимать этот мир страха, мир сомнений и будущего и жить в нем. И надо все отдать сегодня и не отбирать». А такова была моя особенность… моя особенность держать дистанцию, чтобы, потеряв что-либо, не слишком расстраиваться. Можно пойти на это, но это ничего не даст.
Странно, но ночь, когда родился мой сынишка, была необыкновенной. Я выступал для сотен тысяч людей и чувствовал душевный подъем. Но когда ребенок появился на свет, я ощутил такую любовь, как никогда раньше. И минута, когда я испытал это, была потрясающей. В моей голове звучали слова: «Ого, понимаю. Пришла эта любовь, и она всегда будет с тобой? Со всеми, каждый день?» И я знал, почему от этого бегут – потому что это пугает. Но это и окно в иной мир. И это мир, в котором я хочу жить уже сейчас.
Дэвид Леттерман
Интервьюер Билл Земе
18 февраля 1993 года
Как вам спится ночью в эти бурные времена?[195]
– В общем, я сплю нормально. А когда просыпаюсь, то простыни хоть отжимай. Но специалисты считают, что это просто недостаток аминокислот. Пытаемся восполнить его с помощью сигар.
Из-за этого напряжения вы снова начали курить?
– На Рождество кто-то подарил мне сигару, выдержанную в хьюмидоре двадцать пять лет, и было так приятно. Я просто подумал, а не попробовать ли снова немного их покурить.
А это не кубинская контрабанда?
– (Прикрывает сигару.) У, это White Owls! Их можно достать где угодно!
Слышал, что вы курите только кубинские сигары.
– Не тот человек вам попался. Вы не знаете, какую чушь вы несете! Позвоните в налоговую. Я плачу налоги.
Вы в последнее время общались с Джонни Карсоном[196]?
– Не так давно Питер Лассалли, который пришел на наше шоу в качестве исполнительного продюсера после того, как поработал у Джонни, сказал какой-то газете, что Карсон обычно является на работу каждый день в два часа, а я – в десять. И вот Карсон прочитал это и стал в тот день названивать ко мне в офис в десять часов. А я пришел не раньше половины двенадцатого и, едва взяв трубку, услышал, как он завывает: «О, приходит в десять, ха? Где ты был? Автомобильная авария?» В последний раз я видел его на обеде, устроенном «Эмми»; он прекрасно выглядел, был весел. Он действительно может всех развеселить.
Теперь вы чувствуете себя с ним более комфортно?
– Теперь, когда он не ведет шоу, мне более комфортно. Пожалуй, я могу немного расслабиться и вступить с ним в более честное общение. Он как бы создал модель поведения крутых ребят для целого поколения. Я просто так сильно его уважал, что, так или иначе, он меня подавлял.
В эфире он всегда приглашал вас поиграть с ним в теннис. И как?
– Да, я в конце концов сказал себе: «Это живая легенда, будет глупо, если ты не соберешься с духом и не пойдешь».
И?
– Он меня разгромил. Он очень хорошо играет. Может, стоя на одном месте и не потея, загонять вас до смерти. Но зато я попал в дом Джонни! Прежде всего, его дом чертовски напоминает олимпийскую деревню. Корт Джонни похож на стадион, где проводятся встречи на Кубок Дэвиса. Поверхность корта выполнена как произведение искусства – нечто подобное сотворила НАСА перед запуском ракеты на Нептун. В целом все прошло спокойно. И его жена была со мной очень любезна. Но не было ни секунды, когда бы я не опасался, что опрокину и разобью какую-нибудь лампу или вазу за шесть тысяч долларов. Я просто чувствовал, что может произойти что-то не то, – например, что я убью жену Джонни из пушки для теннисных мячей. «Как ты посмел убить его жену из пушки для теннисных мячей!» Да потому что я слишком большой, слишком неразговорчивый, слишком неуклюжий.
Правда, что долгие годы вы отказывались смотреть его шоу?
– На меня оно действовало чересчур угнетающе. Я знаю, чего это стоит – что-нибудь записать на пленку. Ведя свое шоу, я всегда чувствовал нечто такое: «Старик, я пробиваюсь, я словно человек, утопающий в зыбучих песках!» А потом ты обращаешься к шоу Джонни и говоришь (произносит устрашающе): «О, это чертов Джонни!» Он такой легкий, классный, смешной. Он прекрасно выглядит, на него вешаются красотки, он острит. Он так напугал меня, что я не мог смотреть его передачу. Но думаю, как и все остальные, я довольно много смотрел на него каждый вечер почти весь прошлый месяц.
Как проявились ваши «страсти по Джонни»?
– Помню, смотрел последнее шоу, и вдруг меня охватила жуткая депрессия. Я не мог заснуть. Всю ночь ни в одном глазу – возможно, это говорит обо мне больше, чем мне хотелось бы. Знаю, что это звучит так, как будто я круглый дурак, но недели после этого меня одолевала грусть. Примерно так, как если бы врач сказал вам: «Ну, мы посмотрели снимки, ваши ноги совершенно здоровы, но все же будем ампутировать». И думаешь: «Что-о-о? О чем это он?»
Но он ушел вовремя, и правильно. И я смотрю на неразбериху, в которую я попал, и думаю (произносит, изображая Неразговорчивого парня): «Что мне, черт побери, теперь делать?» Ответа нет. А Карсон просто обдумывает его и решает с великим умением, изяществом и апломбом.
За неделю до его ухода вы пошли на The Tonight Show. В конце программы вы сказали ему: «Спасибо за мою карьеру».
– Я знал, что в то время это могло бы прозвучать дерзко, но случай был подходящий. Единственная причина того, что я здесь, – это Карсон.
В моей жизни было много людей, которые оказали мне такую помощь и так мне услужили, что я перед ними в неоплатном долгу. Но если и есть человек, которому я обязан больше всего, то это он.
Если бы вам досталось вести The Tonight Show, осмелились бы вы выйти в эфир в понедельник, следующий за финальной пятницей Карсона? Не безнадежный ли это вариант?
– Нет, если бы обстоятельства сложились иначе – то есть если бы мне доверили эту работу! (смеется), – конечно, я бы за нее взялся. Это не значит, что я преуменьшаю достижения Джея, но если бы в тот вечер ведущим был я, то шоу прошло бы во многом иначе. Потому что невозможно за один уик-энд уничтожить весь тот полугодовой запас эмоций и интереса, заботы и участия. Надо грамотно использовать это, что я бы и сделал. Ну, тебя могли бы раскритиковать за то, что ты пытаешься пристойно выглядеть, послав Джонни прощальный поцелуй. Но этот человек нес с собой столько позитива, что было бы нелегко совершить слишком грубую ошибку. Я убежден, что мы прекрасно потрудились бы для первого шоу. Ну, я не говорю, что остальная неделя чем-либо запомнилась бы. Она немедленно покатилась бы под горку.
Кое-кто из ваших бывших авторов работает теперь над шоу Ларри Сандерса, замечательной сатирой на жизнь ток-шоу. Значит ли это, что вы и есть тот самый Ларри Сандерс?
– Каждый раз, смотря это шоу, я думаю: «Эй, минуточку! Это я!» Но я не знаю, действительно ли это я или у них есть автомат для ток-шоу, устроенный так, что он выглядит как я. Во время каждого эпизода я думаю: «Парень, кажется, когда-то это здесь уже было». Они все жутко на меня влияют.
Известно, что вы безжалостно критикуете собственную работу. Например, ваша недавняя сессия с Уолтером Кронкайтом[197] – то, что она была гениальна, видно невооруженным глазом – очень вас расстроила.
– На самом деле мне кажется, что я скомкал ее, потому что этот парень просто привел меня в замешательство. Он садится, а ты думаешь: «О боже, это Уолтер Кронкайт!» Поэтому я нес всякий вздор и просто не справился.
Значит, вы снова в своем офисе вернетесь к шоу, будете просматривать пленку и разбирать его, задерживаясь на накладках?
– У меня свой маленький ритуал, да. Это я должен делать. Если вы работаете с людьми и не можете найти к ним подход, то как вы смеете получать большие деньги? Вот в чем суть. На данной стадии я обязан уметь работать лучше. Я просто почувствовал, что не только провалил шоу, но и Уолтера Кронкайта подвел, и себя тоже.
Но вы понимаете, что вы очень требовательны к себе…
– Нет! Нет! Нельзя давать себе слабину! Если я испоганил шоу – значит, испоганил. Значит, надо вернуться на другой день и попытаться снова. К счастью, мы работаем вместе с Марвом Альбертом[198] и имеем возможность просмотреть пленку с дублями. Счастливого плавания!
Вы подписываетесь под мнением, что хорошее телевидение – это неловкое телевидение?
– Да, если оно не касается вас – вполне.
В какой-то степени, если гость создает для вас очевидный дискомфорт, то это своего рода развлечение.
– Мне это говорили много, много, много раз.
В тот вечер, когда на вашем шоу объединились Сони и Шер, вы говорили о том, что тщетно смешивать дело и романтическое партнерство. Кажется, вы говорили о ваших отношениях с Меррилл Маркоу, с которой вы создали это шоу.
– Верно, верно. Однажды я подумал, не вернуться ли нам с Меррилл вместе в шоу и не исполнить ли парочку песен. Она мне продолжает нравиться, и она – одна из тех, перед кем я в огромном долгу. К сожалению, я долгие годы с ней не общался. Так глупо, но я даже не знал, что умерла мать Меррилл. Через два года после этого умер пес Меррилл по кличке Стэн. И я письменно выразил Меррилл свои соболезнования по случаю смерти Стэна – совершенно не подозревая о том, что скончалась ее мама. И Меррилл, должно быть, подумала: «Да, а как же мама? Она умерла полтора года назад, а ты – ни слова!» Но что касается Стэна, прошел слух, что он вроде бы съел целый окорок и это просто его доконало. (Посмеивается.) Так много ветчины…
Помнится, когда ваш пес Боб умер, он был с Меррилл на Западном побережье. Должно быть, в тот вечер вам было нелегко вести шоу.
– Да, да. В то время мы с Меррилл отдалились друг от друга. Оказалось, что у Боба рак. Он съел пеллет[199], и его легкие покрылись волдырями. Но пеллеты так прекрасно горели – создавали праздничное настроение. В общем, она позвонила и сказала: «Ветеринар думает, что Боба надо усыпить». Я сказал, что приеду на следующей неделе. Но ветеринар не счел возможным откладывать. И Боба сразу же усыпили, и это… это было грустно… Но я не могу… не уверен, что было бы много лучше, если бы я там был.
Меррилл недавно опубликовала откровенную книгу о жизни с Бобом и Стэном, не так ли?
– Нам хотелось, чтобы она была в шоу, чтобы оно развивалось, но наше единственное требование – по причине ее связи со мной и с шоу – состояло в том, чтобы она сначала сделала наше шоу. Для меня это было важно. Но у нее был свой график. Она снимала все другие шоу. Говарда Стерна, Арсенио Холла, Джея. Это прекрасно. Она одна из самых остроумных, среди всех, кого я знаю. То есть с тех пор, как она ушла, у нас не было хороших идей.
Есть ли обратная сторона отношений с вами?
– Слова «горький пьяница» вам о чем-нибудь говорят?
Многим кажется, что вы – мечта любой женщины.
– Да, ведь и вы так думаете? Но скажем только, что мне некогда бывать на пляже.
Вы мечтаете стать отцом?
– Ну, дети меня очень волнуют. Не так давно все мои друзья начали обзаводиться детьми, и я проводил больше времени с младенцами, чем тогда, когда сам был младенцем. Я понял, что они – просто чудо. Об этом я стал по-настоящему думать только в последние два-три года. Поэтому я решил, что как только наведу порядок в своей жизни, то сразу же займусь детьми.
Вы чувствуете, что вас принуждают вступить в брак?
– Ну, знаете, такое давление, мне помнится, я испытывал всегда. Вообще, единственный человек, который на меня не давил, была женщина, на которой я наконец женился. И, по-моему, она вздохнула с облегчением, когда мы развелись.
Не знаю, мне кажется, что я слишком много времени уделяю работе. И чем я старше, тем чаще мне кажется, что, возможно, она вовсе не стоит того, чтобы тратить на нее все свое время. Я про себя думаю: «Мы делаем что-то неправильно, мы перепутали элементы руководства», – потому что по прошествии времени, она все еще трудна, и на нынешнем этапе следует подумать о том, чтобы ее облегчить. Не думаю, чтобы живот Карсон обсыпало прыщами из-за того, что Шэрон Стоун расплакалась.
Шэрон Стоун расплакалась?
– Честно говоря, Говард Стерн довел ее до слез в оранжерее – не я. Такое ребячество.
Жизнь в NBS стала особенно несносной перед каникулами…
– В тот последний день казалось просто, что небеса разверзлись. Все эти трения – они почти не имели отношения ко мне. Даже если бы Джонни все еще вел The Tonight Show, я бы оказал себе медвежью услугу, если бы не использовал другие возможности после десяти-одиннадцати лет на одном месте. Драматизм всему придала ситуация с The Tonight Show и мое мнимое сокрушение. Но я расстроился, потому что не получил шоу. Мне бы очень хотелось попытаться продолжить дело Карсона.
Если бы вы шли напролом, как вы думаете, могло бы все обернуться иначе?
– Ну, что касается The Tonight Show, когда его еще вел Джонни, меня бы покоробило, если бы он подумал, что я под него копаю. То есть Карсон все еще был в силе – и кто я такой, чтобы подкрасться и сказать: «Ой, между прочим, Джонни, когда ты уйдешь – а мы не говорим, что ты скоро уйдешь, понимаешь, – давай застолбим для меня это место»? У кого бы хватило на это наглости? Поэтому единственное, что я делал, – это неизменно отвечал, если мне задавали вопрос: «Да, мне хотелось бы, чтобы меня имели в виду». Мне было неудобно говорить что-то еще. Потому что по сути мне хотелось бы сказать вот что: «Джон, часы тикают, пора уходить».
И среди всего этого вы поговорили с Джеем?
– Теперь я говорю с Джеем с той же регулярностью, с какой я всегда говорю с Джеем. А это не часто. В этом нет никакой личной злой воли. Если бы я почувствовал, что у меня отбирают то, что принадлежит мне по праву, если бы мне казалось, что меня обманывают или пудрят мне мозги, вот тогда могла бы быть злая воля. Я не из тех людей, которым хочется увидеть, как кто-то проваливается на телевидении. Что бы ни ждало меня в будущем, я в довольно хорошей форме. Я не расстраиваюсь из-за NBС, не расстраиваюсь из-за Джея. Думается, если на то пошло, Буш расстроится из-за Клинтона, потому что у Джорджа нет работы, а у Билла есть. Ну и что? Кто из нас не разочаровывался? Но для меня расстроиться из-за Джея означало бы предположить, что он как-то ужасно оскорбил меня тем, что стал ведущим шоу «Сегодня вечером». И думаю, вы могли бы долго присматриваться, и все равно не усмотрели бы свидетельств этого.
Ваши отношения с ним имеют иронический оттенок, поскольку для вас он в первых рядах тех, кто пробуждает в вас комика.
– О, бесспорно. Таким он, вероятно, был и для целой группы других ребят, идущих за мной следом. Он был лучший – и есть – среди профессиональных комиков.
С другой стороны, он то и дело повторял, что не был бы тем, кем стал, если бы вы не предоставили ему шанс в шоу Late Night.
– Ну, он благодарен, потому что делал так же много для нас, как и мы для него, – может быть, и больше. Он мог бы сделать для себя то, что делал здесь, в другом шоу. Но для нас, как я уже сказал, найти постоянного гостя, который мог бы выступить, действительно мог участвовать, Господи – это были деньги в банке.
Однажды вы начали ваш монолог словами: «Я чувствую себя, как миллион баксов!» Так как же себя чувствует миллион баксов?
– Сногсшибательно. Вообще-то меня просто веселит эта фраза.
Вы все еще говорите, что чувствуете себя, как миллион баксов во всем этом?
– Нет, нет. Меня смущает такое внимание.
Так в какую сумму долларов вы оцените то, как вы теперь себя чувствуете?
– Я чувствую себя, как миллион баксов.
Дэвид Геффен
Интервьюер Патрик Голдстайн
29 апреля 1993 года
Вам всегда хотелось работать в индустрии развлечений?
– Я не мог дождаться, когда вырасту и перееду в Калифорнию. Мне хотелось быть там, где снимаются фильмы, в той земле, где светит солнце, где клевые девчонки, и сёрфборды, кабриолеты, и зеленые газоны, и красивые дома. На следующий день после окончания средней школы я переехал в Лос-Анджелес.
Вас это захватило, как мальчишку?
– Помню, как я впервые пришел в концертный зал «Радио-Сити». Я вышел купить шоколадные сигареты, и, когда вернулся в театр и открыл большие двери, как раз закончился номер группы Rockettes, и я шел по проходу, а люди бурно аплодировали. И я представил себе, что иду получать статуэтку «Грэмми». Отчетливо это помню.
А вас интересовал бизнес в индустрии развлечений?
– Я обычно читал все, что мне попадалось о бизнесе развлечений. Когда мне было девять лет, я знал все, что содержалось в колонке Гедды Хоппер, и в колонке Уолтера Уинчелла тоже. Мама, бывало, говорила, что я источник бесполезной информации.
А как вы сами себе представляли то, чем занимаетесь?
– Я «прозрел», когда купил биографию Луиса Б. Майера «Раджа Голливуда», написанную Босли Кроутером. Прочел эту книгу и подумал: «Хочу это делать». Мне эта работа казалась величайшей в мире.
Но когда вы наконец получили серьезный пост в кинобизнесе на студии Warner Bros. Pictures в 1975 году, вы ее возненавидели.
– Я счел ее совершенно неудовлетворительной. Руководить киностудией – это худшая работа в мире. Очень тяжело, когда каждое изделие стоит тридцать или сорок миллионов долларов и каждый день необходимо прочитать две колонки светской хроники в деловых газетах, из которых становится ясно, какой ты тупица, потому что принял или, наоборот, не принял то и иное решение.
Почти все начальники на киностудиях, кажется, страдают этой ужасной болезнью.
– Не думаю, что это болезнь. Полагаю, это страх. Самое ходовое словечко в Голливуде – «страх». Почти все боятся, что совершат ошибку, станут ничем и потеряют работу. Им хочется быть неуязвимыми. Не думаю, что так же обстоят дела в бизнесе звукозаписи. Там люди не теряют работу оттого, что заключают договор с артистом, чьи пластинки выходят и не продаются.
Вы все еще думаете, что индустрия звукозаписи свободна от голливудского менталитета блокбастеров?
– Эти две индустрии нельзя сравнивать. За несколько сотен тысяч долларов пока что можно выпустить пластинку. В настоящее время невозможно снять фильм меньше чем за 18–25 миллионов долларов, поэтому провал одного из таких фильмов оказывает сильнейшее влияние на жизни всех, кто в нем занят. Провал пластинки не оказывает особого влияния на компанию звукозаписи. А по-моему, если нет возможности провала, то, значит, нет и шанса на успех, и поэтому все кончается тем, что в кинобизнесе так много дерьмовых фильмов.
Вы имели дело со многими артистами, от Дэвида Кросби и Джона Леннона до Эксла Роуза, которые жили на пределе, принимали наркотики или позволяли себе дикие выходки, бесновались на сцене или мочились на столы ваших менеджеров. Почему творческие люди подвержены психологическим драмам?
– Потому что в их головах звучит множество голосов, зачастую одновременно, и это может сбивать с толку. С глубоким уважением отношусь к безумствам, которым могут быть подвержены люди в возрасте пятнадцати, шестнадцати, девятнадцати или двадцати пяти лет. Никогда не был более сумасшедшим, чем в эти годы. Возможно, я и не мочился на чей-то стол, но определенно сам сходил с ума или сводил с ума других. Думаю, чудо, если некоторые люди могут пережить славу, которая нашла их в юном возрасте. Возьмите Эксла Роуза – вот он спит на пороге, а в следующую минуту он уже мультимиллионер, и любая девица хочеть его трахнуть. С этим очень трудно справиться. Думаю, чудо, что люди выживают, став большими звездами. Насколько известно, многие с этим не справляются.
И все же это потрясающе – быть знаменитостью. Вспоминаю одну вашу совершенно удивительную фотографию работы Энни Лейбовиц: утро, вы лежите в постели и говорите по телефону – и чувствуете себя непринужденно. Похоже, на вас и одежды-то нет. Вы обычно спите нагишом?
– Да. Дело в том, что я знаю Энни уже много лет и полностью ей доверяю. Поэтому я готов сделать что угодно. Однажды в 1971 году я позировал перед отелем «Беверли-Хиллз» голым, прикрывая листком свой член, потому что она осмелилась попросить меня так позировать. Джексон Браун вставил это фото в рамку и повесил в своей гостиной.
Особенно интригующим на вашем фото в постели показалось мне то, что все книги на полке были биографиями людей из трудных семей. «Хьюстоны», «Бингэмы из Луисвилла». Вы и сами вышли из сложной семьи. Ваша мама бежала от погромов в России и больше никогда не видела своей семьи. А когда вы росли в Бруклине и она была основным добытчиком…
– Она была удивительной женщиной, относилась к породе тех классических людей, которые проживают невероятно трудные жизни. Мой отец был безработным, поэтому она занималась шитьем, а закончила тем, что открыла собственный бизнес – изготовляла корсеты и бюстгальтеры для женщин в своем доме. Потом она открыла магазин и, наконец, купила тот дом, в котором магазин находился.
Значит, ваша мама всегда работала?
– Я вырос в странной семье. Другие дети приходили домой в три часа дня, чтобы съесть печенье, запивая его молоком, а моей мамы в это время дома не было. В детском возрасте это еще не совсем понятно. Ты удивляешься – что-то не так? Не знаю, как описать мою маму. Могу только сказать, что я восхищался ею, хотя с возрастом мне временами хотелось ее убить.
Почему? Она командовала вами? Слишком вас опекала?
– Когда мне исполнилось пятнадцать лет, она сказала: «О’кей, вот что. Больше никаких поблажек. Тебе нужны деньги – иди работать». Вот так было в нашей семье. Мама учила нас заботиться самим о себе. Помню, как она гладила мою рубашку и сказала: «Подойди. Я научу тебя гладить рубашку». Когда рубашка была выглажена, она сказала: «Ну, вот и все. Мне больше не придется гладить твои рубашки. Теперь ты знаешь, как это делается, и будешь гладить сам». Мне хотелось ее убить.
Вы говорили, что ваш отец считал себя интеллигентом. Он говорил на нескольких языках, но по-настоящему никогда не работал.
– Он много читал, был образован, объездил весь мир. На идише есть такое выражение: «шваре арбитер». Прилежный труженик. Он был не из них. В детстве меня это возмущало.
Он не работал, и поэтому вы считали его неудачником?
– Да. Я злился на него за то, что считал его неудачником по жизни. Но он умер, когда мне было семнадцать лет. Поэтому я так по-настоящему и не разобрался в наших с ним отношениях. Это всегда точит меня изнутри.
Как получилось, что мама оказала на вас большое влияние?
– Как бы плохо я ни учился в школе, как бы слабо я ни верил в себя, мама всегда говорила: «У тебя золотые руки. Кем бы ты ни стал, тебя ждет успех». А я думал, что она спятила, потому что я ни хрена не умел и не думал, что из меня что-то выйдет. Но мамина вера в меня помогла мне обрести ту уверенность в себе, благодаря которой я смог преуспеть в жизни.
Майкл Эптед снял серию документальных фильмов, в которых показано взросление детей; в основе серии лежит максима «Дайте мне семилетнего ребенка, и я покажу вам мужчину». Каким вы были в семь лет?
– Когда мне было семь лет, мама испытала нервный срыв; ее положили в клинику, и моя бабушка заботилась обо всей семье. Я был в растерянности. Не понимал, что происходит.
Что же случилось?
– В 1949 году, когда мне было шесть лет, мама получила письмо от сестры из России; мама даже не знала, что ее сестра жива. Они не виделись с 1917 года. И сестра сообщала, что все родные погибли и она осталась одна. Мама испытала нервный срыв.
Они погибли во время Холокоста?
– Нет, они жили на Украине. И когда нацисты шли по России, украинцы не стали дожидаться, когда нагрянут немцы. Они собрали всех живших рядом евреев и убили их. Всех маминых родных они сбросили в колодцы. Одиннадцать человек. Маминых мать, отца, дедушку и бабушку и семерых братьев и сестер. Одна сестра спаслась, потому что ее не было дома.
А когда ваша мама вам об этом рассказала?
– Никогда. Никто не узнал о случившемся. На другой день после маминой кончины ее сестра рассказала мне, что она все ей об этом написала. Никто никогда даже не видел этого письма. Ни мой отец, ни мой брат. Они знали только то, что мама сошла с ума. Мама была очень замкнутым человеком. Она перенесла несколько ударов, и в последний раз у нее отнялась правая рука; лишилась она и способности говорить. Но она работала и работала над собой и снова стала говорить и работать рукой. И при нашем последнем разговоре я спросил: «Мама, как ты объяснишь это чудо?» И она ответила: «Я не завидовала. Не ревновала. И во мне не было ненависти». Через два дня она умерла.
Какие советы она давала вам, когда вы росли?
– Благодаря ей я научился осторожности.
Осторожности в отношениях с людьми?
– Осторожности в бизнесе, осторожности во всем. Я приобрел здравую долю подозрительности моей мамы.
Не отстранило ли это вас от людей?
– Не думаю. Я – человек, который за последние двадцать пять лет прошел психотерапию, психоанализ, «Лайфспринг», «курс чудес» и прочее. Я долгое время работал над собой и над моими демонами и над моей глупостью и неприкаянностью. Это не означает, что я до сих пор не остался немного неумехой. Думаю, человек становится лучше в каких-то мелочах и умирает тем же, кем и был.
Вспомним слова вашей мамы: без зависти, без ревности, без ненависти. Насколько вы к этому близки?
– На маминых похоронах я сказал моему доброму другу[200] Сью Менгерс о словах мамы, и Сью посмотрела на меня и сказала: «Ну, о нас этого никогда не скажут».
Известно то, как вы получили вашу первую настоящую работу в агентстве Уильяма Морриса, придумав в своем резюме, что вы выпускник Калифорнийского университета (Лос-Анджелес). И вы каждое утро просматривали почту, чтобы не пропустить письмо, в котором говорится, что вы вовсе не выпускник. И когда оно пришло, вы вскрыли его и вложили в конверт письмо на поддельном бланке университета, в котором говорилось, что вы – выпускник. Это как-то говорит о ваших амбициях?
– О выживании. Мне казалось необходимым так поступить.
И именно это требуется для продвижения в шоу-бизнесе?
– Не будем ребячиться. Я мог бы это сделать, но, не будь у меня таланта, меня ожидал бы провал. Причина моего успеха в жизни не в том, что я нахал. Я преуспел в жизни, потому что умен и талантлив.
Что изначально внушило вам желание основать Asylum Records[201]?
– Я основал компанию звукозаписи, потому что не мог получить контракт на запись для Джексона Брауна. Он никому не был нужен. Я сказал Ахмету Эртегану: «Слушай, я оказываю тебе услугу». И он сказал: «Не нужны мне услуги. Если он такая большая звезда, почему бы тебе самому его не записать?»
Как-то раз вы сказали, что, где бы вы ни оказывались в 1970 году, вы повсюду находили новый талант; это были Линда Ронстадт, Джексон Браун, Гленн Фрай, Дон Хенли, Том Уэйтс, Стив Мартин… Длинный список. Правда ли то, что никто не хотел заключать с ними контракт?
– Это лишь половина тех, с кем я мог бы не заключать контракт, если бы действительно имел представление о том, что делаю. Они были повсюду. Линда Ронстадт была на Capitol – она записала хит с группой Stone Poneys, и ее карьера закончилась ничем. Джексон Браун уже подписал контракт с компанией Elektra, но пластинка так и не была записана! Дон Хенли и Гленн Фрай заключили контракт с компанией Amos Records. Я купил их контракт на звукозапись и издательские права Amos. Они просто не разглядели талантов этих людей.
Чем в то время отличался музыкальный бизнес? Музыки было больше, чем бизнеса?
– Не думаю, но в то время было много молодых антрепренеров – Крис Блэкуэлл владел компанией Island Records, Джерри Мосс и Херб Алперт – A&M Records, Херб Коэн – Bizarre Records. Ныне, за исключением Ахмета, все антрепренеры исчезли. Нынешние затраты невероятны. Сегодня запись пластинки неизвестного артиста стоит 300 тысяч долларов – это равносильно всему бюджету компании Asylum Records в 1972 году. В те дни люди чаще всего были самодостаточны. Джони Митчелл пела под гитару. Лора Ниро под фортепьяно. Сегодня всем требуется большая аккомпанирующая группа, а такую организацию очень дорого содержать.
Вы три года жили вместе с Джони Митчелл – как соседи по комнате, а не как любовники. Вы сказали, что вы с ней были странной парочкой. Что вы имели в виду?
– Я занимался бизнесом. Джони рисовала и сочиняла. Она все время писала новые песни. Написала и обо мне – «Free Man In Paris». Я ощутил неловкость, когда она написала ее. Это казалось таким личным. Я точно знал, что она имеет в виду: «Он сказал, что ты просто не можешь победить. Все ведут свою игру». Это было очень глубоко и очень верно. Вот почему она такой великий сочинитель песен. Ее материал очень многое проясняет – и о ней самой, и о других. Конечно, сегодня я чрезвычайно горд этим.
Сегодня на вашем лейбле нет никого, равного Джони Митчелл или Бобу Дилану. Но у вас есть группа Guns N’ Roses. Как вы познакомились?
– Том Зутаут[202] подписал контракт с группой, и ребята расположились в приемной нашей компании звукозаписи, и выглядело все так, как если бы они спали на улице. И, помню, я поднимался по лестнице и спросил: «Кто это в приемной?» И услышал: «Это Guns N’ Roses». И я сказал: «Боже мой, эти ребята выглядят так, как будто у них нет ни гроша». И Том Зутаут сказал: «У них действительно нет ни гроша».
Итак, оглядываясь назад, как вы думаете, на карьеру каких артистов вы действительно оказали влияние, в смысле, помогли им достичь определенных художественных высот?
– Мне кажется, я сильно повлиял на карьеру Джексона Брауна, и Кросби, Стиллза, Нэша и Янга, и Лоры Ниро, и Джони Митчелл. Но, если бы меня не было, они все равно достигли бы успеха. Единственное, в чем я уверен, так это в том, что тогда Джони Митчелл не написала бы песню «Free Man In Paris».
Курт Кобейн
Интервьюер Дэвид Фрике
27 января 1994 года
Сегодня вечером было много накладок[203], а вы к тому же не исполнили «Smells Like Teen Spirit». Почему?
– Эта песня превратилась в сладкую патоку. (Мрачно улыбается.) От этого все стало вдвойне хуже.
Я даже не помню соло гитары из «Teen Spirit». Мне понадобилось бы время, чтобы разучить его заново. Но мне это не интересно. Не знаю, может быть, я так обленился, что меня это больше не волнует. Мне все еще нравится «Teen Spirit», но играть ее – сплошной конфуз.
Как это? Вас все еще раздражает небывалый успех песни?
– Да. Все слишком зациклились на этой песне. Причина такой реакции в том, что люди миллион раз видели ее на MTV. Она крутится у них в мозгах. Но, по-моему, я написал так много других песен, которые не хуже, если не лучше этой, например «Drain You». Она определенно так же хороша, как и «Teen Spirit». Мне нравятся слова, и мне не наскучивает ее исполнять. Возможно, если бы она была так же известна, как «Teen Spirit», мне бы она так не нравилась. Но я могу просто, особенно в такой неудачный вечер, как сегодня, обойтись без «Teen Spirit». Мне хочется буквально бросить гитару и уйти. Не могу притворяться, что мне хорошо, когда я ее исполняю.
Но вам, должно быть, было хорошо, когда вы ее писали?