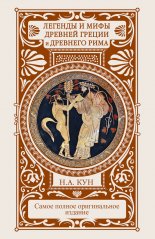Великие интервью журнала Rolling Stone за 40 лет Леви Джо
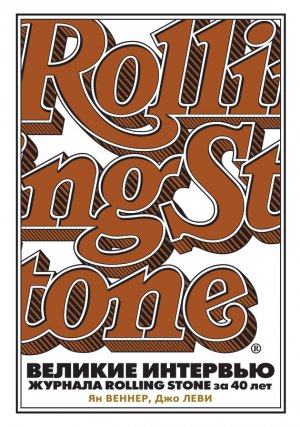
Первая сцена фильма – Уиллард в номере сайгонского отеля, в ожидании задания, пьяный, невменяемый, в конце концов он разбивает зеркало, и из его порезанных рук течет кровь – описана в книге вашей жены «Заметки о жизни» почти как провал сцены Шина и, конечно, не как спланированное действие.
– Герой Марти выведен слишком мягким; я попытался его изменить. Я всегда искал иные, скрытые уровни в личности актера и в личности его героя. Я придумал эту ночную пьянку, чтобы увидеть этого парня с другой стороны. Итак, Марти набрался. И я увидел, что иногда, когда он напивается, многое выходит на поверхность. Он начал танцевать, раздеваться – десять минут совершенно невероятного материала, – а потом я попросил его посмотреть в зеркало. Это был способ сфокусировать его на себе самом – обнаружить личность, создавая чувство тщеславия. Я не просил его разбивать зеркало.
Многие лучшие моменты фильма – вертолетная атака, персонаж полковника Килгора – это от Милиуса. События у моста До-Лунг – отчасти этот эпизод навеян одной из статей Майкла Герра[117] в Esquire – от Милиуса. Но многое было изменено. Идея, что ребята на лодке будут убиты, была новой. Начиная с эпизода с мостом, очень многое – от «Сердца тьмы»[118] и от меня.
Получается, фильм основан на «Сердце тьмы» в трактовке Милиуса?
– Очень абстрактно: некто плывет вверх по реке, чтобы найти кого-то по имени Курц. Кроме этого считаные конкретные мотивы. Я более решительно развернул сценарий в сторону «Сердца тьмы» – и это, я знаю, все равно что открыть ящик Пандоры.
Майкла Герра вы привлекли после съемок на Филиппинах. Он написал весь дикторский текст?
– Он был главным, он определил звучание. Голос хипстера, которым говорит Уиллард, – это Майкл.
Идея использовать песню «The End» группы The Doors была навеяна «Репортажами»[119], где Герр говорит о Вьетнаме как о «войне рок-н-ролла»?
– Нет. Я знал Джима Моррисона по школе кинематографии… Идея использовать музыку группы The Doors навеяна их песней «Light My Fire». Это Милиус: люди Курца исполняют «Light My Fire» через громкоговорители, чтобы взбодриться с помощью рок-н-ролла. В самом конце происходит сражение, и северовьетнамские войска наступают под звуки «Light My Fire». Я отправился на Филиппины, придумав такую концовку!
Расскажите о том, как изменялась роль Курца?
– Приехал Марлон, ужасно толстый. Как пишет моя жена в своей книге, он не прочел тот экземпляр «Сердца тьмы», который я ему послал; я дал ему другой экземпляр, он его прочел, и разговор начался. Многое мы придумали вместе. Кое-что я ему подсказал, многое он сам написал. Я отснял Марлона за пару недель, и он уехал; все остальное было снято вокруг этой пленки, и то, что мы сняли с Марлоном, не походило на сцену. Просто он часами говорил.
У нас возникла идея: Курц как фигура Гогена, с манго и детьми, парень, который действительно прошел через все. Это было бы здорово, однако Марлон совсем бы к этому не подошел.
Первая идея Марлона, от которой меня чуть не стошнило, была такая – сыграть Курца как некоего Даниеля Берригана в черной пижаме. Все было бы завязано на чувстве вины, которое испытывал Курц за то, что мы натворили. Я сказал: «Эй, Марлон, возможно, мне не все известно об этом фильме, но я знаю одно: он не о нашей вине!» Все же Марлон – это один из самых тонких известных мне умов: его дело – думать. Посидишь, поговоришь с ним о жизни и смерти – он и будет думать об этом весь день.
Наконец он обрил голову – и все решилось. Мы за это ухватились – и добились своего. Такое ужасное лицо. Думаю, самое удивительное в этом фильме, самый страшный момент – это образ Марлона: просто его лицо.
Похоже, в фильме нет саспенса в обычном для киношников понимании. Сцена, где Уиллард убивает Курца, полна метафор, похожа на серию убийств, которыми заканчивается «Крестный отец». Именно так вы хотели снять фильм?
– Возможно, я глуп, но мне всегда хотелось, чтобы фильм был изящным. Моя самая первая мысль, когда я начал думать о стиле фильма – а стиль, конечно, это весь фильм, – мне хотелось расчистить его, а не так, чтобы хааа! хааа! Мне хотелось, чтобы в нем было изящество. Я выбрал Витторио Стораро[120], потому что хотел, чтобы камера просто плыла по лодке. У нас все съемки были ручными, потому что на воде не сделать ни «наездов», ни «отъездов». По этой причине музыка должна была быть в духе Томита[121].
Не понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что стиль – это весь фильм.
– Когда я впервые задумал снять «Апокалипсис сегодня» и прочитал сценарий Милиуса, я искал решение, каким должен быть фильм. Все время думал о стиле, потому что знал, что он не будет реалистическим, – я знал, что он будет чем-то вроде того, что я назову расширением, но не знал каким. Меня спрашивали: какой фильм я снимаю? Я отвечал, что очень стилизованный. И меня спрашивали: на что он будет похож? в духе какого режиссера? И я отвечал, что в духе Кена Расселла. Мне хотелось, чтобы фильм шел столько, сколько ему требуется. Я был готов снять необычный, сюрреалистический фильм и даже хотел этого.
Но не сняли.
– Ну, сюрреалистический… Что назвать или не назвать сюрреалистическим?
Когда я смотрел фильм, у меня не возникло ощущения, что я соучаствую в мечте, – а именно так я определил бы произведение сюрреализма.
– Ну, а как бы вы назвали желание расширить действие настолько, чтобы оно вторглось в иную, отличную от нашей, реальность, или расширенную реальность, из просто чистой реальности – которая использует то, что происходит?
Возникновение иной реальности становится неизбежностью, и эта реальность овладевает Уиллардом, засасывает его. Интересный кадр в храме Курца: экземпляр «Золотой ветви» – книги о древних мифах и практике ритуального цареубийства. Человек стал царем; через год царем становится любой, кто смог его убить. Убив Курца, Уиллард выходит из храма. Подданные Курца собрались там, Уиллард несет два символа царской власти (так я это вижу): книгу – воспоминания Курца и скипетр – оружие. Уиллард бросает оружие на землю, отказываясь от права на царство. Община преклоняет колени перед ним, и становится ясно, что если бы Уиллард хотел, то вполне мог бы властвовать над этими людьми. Он сознательно отказывается от этого выбора. Если бы он этого не сделал, то он, а возможно, и мы были бы поглощены той самой иной реальностью, о которой вы говорили. Но он отказывается. Это кажется вполне ясным. Не это ли вы имели в виду?
– Нет… когда я наконец дошел до этого места, лучшее, с чем я к нему подошел, было таким: вот парень, который плывет вверх по реке, он собирается убить другого парня, который стоит во главе всего этого. Жизнь и смерть. У меня есть друг, Денис Джэкоб, мы разговаривали: мол, что делать? – и он сказал мне: «Может, использовать миф о царе-рыболове?» А я спросил: «Что это?» Он ответил: «Это „Золотая ветвь“». Царь-рыболов – я нашел такую книгу и сказал, что, конечно, именно это я имел в виду. Вот что подразумевалось под жертвоприношениями животных[122]. Я видел настоящее жертвоприношение животных, которое осуществили нанятые нами охотники за головами. Я смотрел на бившую струей кровь и думал: это о чем-то очень глубоком. Я прошел вверх по этой реке, пытаясь спланировать этот фильм, и не знал, в чем дело – что я должен выразить, что я должен показать, чтобы действительно показать эту войну? Есть миллионы разных вещей, которые следует показать. Но то, к чему все это действительно сводится, это своего рода принятие истины или борьба за принятие истины. А истина имеет отношение к добру и злу, жизни и смерти – и не забудьте, что мы воспринимаем эти понятия как противоположности – или хотим видеть их как противоположности, – но они едины. Их нелегко определить как добро и как зло. Следует принять их как единство.
Курц сознательно участвует в мифе из «Золотой ветви»; он подготовил эту роль для Уилларда, чтобы тот занял его место.
– Он хочет, чтобы Уиллард его убил. Поэтому Уиллард думает об этом; он говорит: «Все хотят его смерти. Войско… и в конце концов, даже джунгли; во всяком случае, оттуда он получает свои приказы». Смысл в том, что Уиллард вынужден сделать это, еще раз вернуться в то примитивное состояние, пойти и убить.
Он идет в храм, совершает нечто вроде ритуала и убивает царя. Туземцы разыгрывают ритуал в танце. Они поняли, и они выражают своими образами ритуал жизни и смерти. Уиллард входит и убивает Курца, а когда выходит, то ему приходит мысль о том, чтобы стать царем, но что-то… его останавливает. Он идет, забирает оставшегося в живых парня и потом уходит, и снова появляется образ зеленого каменного лица[123]. Он уже уходит, и в этот момент мысль о том, чтобы стать царем, снова им овладевает. И именно тогда мы слышим: «Ужас… ужас…»
Как вы понимаете, к чему стремится Уиллард на территории Курца?
– Я всегда старался сделать так, чтобы в фильме подразумевалось, что Уиллард, который плывет вверх по реке для встречи с Курцем, это также человек, который смотрит на себя с другой стороны или видит себя в другой проекции. У меня всегда была идея, что Уиллард и Курц – это один и тот же человек; учитывая это, я принимал решения в процессе съемок. И я чувствую, что приезд Уилларда на территорию Курца для встречи с ним подобен приезду туда, куда первый вовсе не хотел попасть, потому что это все твои призраки и все твои демоны.
Убийца Уиллард – наемный убийца, и, несомненно, когда он один в ванной, его посещают мысли о том, хорошо ли это – убивать людей, которых ты даже не знаешь. Поэтому мне кажется, что Уиллард участвует – равно как и Курц – в решении нравственной проблемы, требующей ответа на вопрос: «Нравственно ли то, что я делаю? Хорошо ли это?» Поэтому, когда Уиллард добирается до территории Курца, это его кошмар. Это его кошмар, поскольку это крайнее решение того, с чем он имеет дело, и Курц – крайняя противоположность его самого, потому что Уиллард – убийца. Так вот, Курц – который сходит с ума – становится ужасом, не чем иным, как продолжением того ужаса, который мы видим на всех уровнях. Уиллард уживается с этим, и вот что Курц действительно говорит ему, как мне это видится: я наконец увидел нечто такое ужасное… а потом в то же время осознал, что именно то, что делает его таким ужасным, делает его и чудесным… и я мысленно перешел в какое-то другое место, где я превратился в помешанного Курца.
И Курц вызывает жалость. Одна из самых прекрасных строк в тексте Майкла Герра эта: «Что подумали бы его близкие, если бы когда-нибудь узнали, насколько далеко он ушел от них?» – мысль, что можно уйти так далеко, что уже нет возможности вернуться, даже при желании.
Именно это я пытался сделать с Уиллардом в той последней части. Мне вновь и вновь виделся этот образ – способность пристально вглядываться в то, что истинно, и говорить: «Да, это истина». Впрочем, для меня всегда имело значение лицо, и поэтому мне нравилось минут десять смотреть на лицо Брандо. Помните «Портрет Дориана Грея»? То есть он как бы срывал покрывало – аааааах! Всё. Те же ощущения вызывала у меня война во Вьетнаме. Просто всматриваешься в нее, открываешь глаза и всматриваешься и принимаешь ее, если это истина. А потом идешь дальше.
Вслед за показом фильма в Лос-Анджелесе в мае и показами в Каннах появилось такое высказывание – я говорю об американской прессе, поскольку читал только ее: «Этот фильм потрясает примерно в течение первого часа: он волнующий, добротный, зрелищный и безусловно стоит потраченных на него денег. Эти деньги вы видите на экране». И дальше: «Когда в картине появляется Курц, она становится сбивчивой, философской и претенциозной – она распадается». Это мнение на удивление постоянно.
Зрители, а значит, и некоторые авторы действительно знают правила разного кино – и то, каким они захотят принять фильм в течение первых полутора часов просмотра, им диктует формула. Это фильм-формула: вы просто проваливаетесь в него, как монета в автомат, и я увлекаю вас вверх по реке. А потом, в какой-то момент, «Апокалипсис» не развивается в приключенческий фильм, который перед вами вырисовывался. Мне кажется, этот фильм сделал некий поворот, который мне не захотелось исправлять: он поплыл по кривой. Внезапно мы поплыли вверх по течению, в доисторические времена, я убрал из сценария все, что не работало на это. Теперь фильм ведет вас в труднодоступные области. Зрители едут на больших санях по накатанной дорожке, а затем кто-то сгоняет их с саней и говорит: «О’кей, а теперь продолжайте своим ходом», – а им не хочется.
Я не говорю, что они неправы, чувствуя это. Мне кажется, одни это чувствуют, а другие – нет. Но они бы предпочли, чтобы все шло гладко, без трудностей, – пусть сам фильм все сделает. А я не смог сделать этого в конце.
Не смогли или не захотели?
– Я не смог, не думаю… я пытался. То есть я не смог дать лучшую концовку. Я пытался и все еще пытаюсь. И если бы я смог придумать, как это сделать, я бы выбрался из проклятого фильма и сделал бы это.
Мне кажется, мы проживаем наши жизни, ожидая – с нетерпением, – что наступит время, когда все само собой решится. Думаю, такое время никогда не наступит ни для кого из нас, и в этом ирония – даже в этом фильме. Хотя кажется, что имеется и некое решение, – здоровый пожирает больного, и в этом своего рода цикл жизнь/смерть, день/ночь, – для меня ирония состоит в том, что мы все время стоим на грани, на лезвии бритвы. Именно поэтому Уиллард смотрит то налево, то направо, и вы слышите: «Ужас… ужас…» «Ужас… ужас…» – это как раз то, что мы никогда со всей ясностью не понимаем; мы не понимаем, что нам делать, что правильно, а что неправильно, каково рациональное поведение, а каково иррациональное: мы на грани.
«Ужас… ужас…» в конце фильма означает, что я хотел закончить его неоднозначно, потому что, мне кажется, это правдивая концовка – мы надеемся, что будет принято своего рода нравственное решение о войне во Вьетнаме и о нашем участии в ней. В (истинном) конце вы не получаете решения. Перед вами выбор: быть сильным или быть слабым. В известном смысле именно так и начинаются войны. Соединенные Штаты сделали выбор: они захотели стать сильными, стать Курцем в Юго-Восточной Азии. Предоставить выбор – это единственный способ, как мне казалось, закончить фильм.
«Сердце тьмы» заканчивается ложью. После смерти Курца Марлоу[124] идет к его невесте, и та спрашивает: «Что он сказал перед смертью?» И Марлоу говорит: «Он назвал твое имя», – но на самом деле Курц сказал: «Ужас… ужас…»
Том Вулф
Интервьюер Чет Флиппо
21 августа 1980 года
Вероятно, самое поразительное в книге «Нужная вещь»[125] то, что она сделала вас уважаемым. Вы уже не модный писатель, которого боятся и ненавидят в литературных кругах. Теперь вы знамениты и уважаемы.
– Почти все, что я сделал, это не пародии, рассчитанные на однодневный успех, а то, что так или иначе запоминается. Люди любят насмешку с налетом издевки. В частности, они лучше помнят нечто вроде эссе «Радикальный шик» или «Раскрашенное слово», поскольку, даже если ты по-доброму смеешься над людьми, населяющими мир, в котором мы все живем, или мир искусства, или иной, связанный с экспрессией, они все равно вопят, как будто их убивают. И конечно, у них есть все необходимое, чем ответить обидчику, – так завязывается драка. Все по-своему наслаждаются ею, касается это их или нет. Но «Электропрохладительный кислотный тест» не был пародией, не был насмешкой или сатирой.
Вовсе не обязательно, чтобы литературный мир понимал или одобрял ту или иную тему.
– Ну, литературный мир, конечно, не одобряет тему астронавтов; это не очень популярная тема. Фактически, одна из наиболее интересных для меня тем – не космическая программа, а армейская жизнь. Я видел, что военный контингент, особенно офицеры, в буквальном смысле были «ничейной землей». Примерно в 1919 году серьезные писатели перестали смотреть на военных с сочувствием или даже с восхищением. Именно тогда появляется мода на изображение военного так, как если бы единственным приемлемым героем был солдат, рядовой, солдат-пехотинец, который предстает как жертва, а не как воин, жертва тех же сил, что и гражданское население.
Думаю, астронавты не горели желанием пообщаться с вами. С таким чудаком, который говорил им: «Я из журнала Rolling Stone, и мне хочется расспросить вас о личной жизни». Ясно, что вы так не говорили; насколько сложно было разговаривать с астронавтами?
– Парни не были такими уж грубыми. К тому времени некоторые ушли из отряда астронавтов. Они были не слишком связаны со всем этим, срок их контракта с журналом Life истек. Думаю, многих немало раздражало то, как описывают астронавтов. Если же они соглашались побеседовать, то стремились к открытости. Некоторые отказывались давать интервью. Алан Шепард сказал мне, что сотрудничает только в документальных проектах, проводимых с научной целью… впоследствии он сказал, что читал статьи в журнале Rolling Stone, и они ему не особенно понравились… не знаю почему. Нил Армстронг сказал, что у него такой принцип – не давать интервью, и он не видит причин, почему он должен от него отступить. Мне кажется, он надеялся и, возможно, все еще надеется написать свою книгу. Все астронавты «Меркурия», которые были еще живы – (Гас) Гриссом погиб, – выражали желание побеседовать, и работать с ними было приятно.
Джон Гленн был открытым человеком?
– Очень открытым. Я провел с ним целый день, когда он избирался в сенаторы в 1974 году; в тот год он наконец одержал победу над Ховардом Метценбаумом, который опередил его несколько лет назад. Потом я провел несколько часов с Гленном после его победы; вообще-то он очень дорожил временем, как и все сенаторы, и старался во всем помочь.
Удивительно, как много авторов рецензий считают, что я дал негативный портрет Джона Гленна. Я не пытался осыпать его комплиментами, но, по-моему, он человек незаурядный и довольно мужественный. Он совершил много непопулярных поступков. Он оскорбил многих людей, и его чуть было не отстранили от полета, потому что он сказал руководителю НАСА и всем остальным, что Линдон Джонсон не ступит в его дом, что они с женой не желают его принимать. Для этого потребовалась недюжинная отвага.
Когда вас впервые поразило – конечно, это было всем очевидно – то, что первые астронавты не были бойскаутами, какими их представили Америке?
– Думаю, когда я впервые поговорил с каждым из них. Они вовсе не кичились своими подвигами и не говорили о каких-то там гонках на автостраде. В то же время, как я занялся этим в конце 1972 года, в прессе появились сообщения, из которых явствовало, что в раю астронавтов не все в ажуре. Стало известно о нервном срыве Базза Олдрина. В том же году разразился скандал с марками, в общем-то не слишком серьезный, но все же заставивший людей задаться вопросом: «Неужели астронавты получают некие отчисления с продаж марок?» Один из астронавтов стал миссионером. Появились фотографии двоих или троих с длинными волосами, и газеты и журналы немедленно истолковали это как признак того, что некоторые астронавты заделались хиппи, чего на самом деле, насколько мне известно, никогда не было.
Возможно, из-за того, что с самого начала астронавты представали такими непорочными, теперь даже самая малость раздувалась до невероятных размеров. До сих пор очень многие полагают, что почти все астронавты, слетавшие на Луну, испытывают нервные срывы или стали алкоголиками. Все это неправда.
Некоторое время думали, что этот полет нанес им травмы, потому что астронавты потеряли контакт с привычной для них окружающей средой, что и произвело разрушительное воздействие на них, обычных, не готовых к этому людей. Правда же состоит в том, что их так здорово тренировали, что, оказавшись на Луне, они не увидели там почти ничего нового. К тому времени, как Армстронг ступил на Луну, он совершил уже 500 тестовых полетов на симуляторе командного модуля «Аполлона» с движущимися изображениями Луны, в основу которых легли кадры, доставленные управляемыми и неуправляемыми устройствами. Думаю, Армстронг покривил бы душой, если бы приплел богов или с каким-то пиететом говорил об увиденном, потому что он уже видел все это на тренировках. Так какого черта он стал бы выдумывать, что там оказалось нечто страшное? Вот он и сказал: «Маленький шаг для человека, гигантский скачок для человечества». Когда я его об этом спросил, то он ответил: «Конечно, пару недель я работал над этим».
Как вам пришло решение оборвать книгу именно там, где вы это сделали? Мысль об окончании невинности… полагаю, вы утверждаете, что парад астронавтов был в некотором смысле пиком американской невинности.
– Думаю, это был последний великий национальный всплеск патриотизма. Нечто подобное случилось, когда полетел Гордон Купер, но значительно ярче в случае Гленна. Ко времени полета Купера в 1963 году многое говорило в пользу того, что США и СССР достигают своего рода сближения, поэтому в связи с полетом не возникло напряженности. Во время полета Гленна все еще шла «холодная война».
Мне понравилось, что в прессе вас охарактеризовали как джентльмена в викторианском стиле.
– Никогда не забуду рабочий день в Herald Tribune в день гибели Джона Кеннеди. Меня вместе с другими сотрудниками отправили проводить опросы людей на улицах. Первыми встретились итальянцы, и они уже высчитали, что Кеннеди убили Тонги, и мне стало ясно, что они враждебно относятся к китайцам, потому что китайцы начали переселяться из Китайского квартала в Маленькую Италию. А китайцы думали, что это дела мафии, а украинцы – что пуэрториканцев. А пуэрториканцы думали, что это дело рук евреев. Все нашли козла отпущения. Я вернулся в Herald Tribune и, отпечатав материал, передал его на редактуру. Позднее меня обязали переписать очерк о людях на улице. Я просмотрел ворох материалов, но своего не нашел. Я счел это недоразумением. У меня оставались заметки, и я снова отпечатал очерк. На другой день я развернул Herald Tribune, но своего материала не обнаружил. В газете не было практически ничего, кроме старушек, сидевших перед собором Святого Патрика. Тогда я понял, что, поскольку указаний на освещение материала получено не было, все единодушно решили, что вот это и есть правильный нравственный тон в связи с убийством президента. Надо было выразить горе, ужас, смятение, шок и печаль, но для дурацких пререканий данный случай не подходил. Пресса избрала моральный тон викторианского джентльмена.
Я говорю «викторианский джентльмен», потому что именно он был неисправимым лицемером – настаивал на публичном проявлении нравственности, которую он при этом никогда не проявлял в своей частной жизни. И по-моему, такая же тенденция прослеживается в любой газете. Несколько меньше – в журналах. Похоже, газеты тесно связаны с общественностью. У телевидения такой связи нет. У газет есть. Причина мне не вполне ясна, но именно поэтому для газет работать интересно.
Такие смешные реакции тоже объяснимы. Люди никогда не читают передовиц. Об этом знают все газеты. И все равно газета, вышедшая без передовицы, производит впечатление, что ее издатели кому-то продали свою душу. Все бы наверняка стали спрашивать: «Ну, где же передовицы? Должно быть, их продали. Что-то они замышляют на стороне». Поэтому газеты правильно делают, что публикуют передовицы. Все это имеет отношение к нравственной установке.
Черт, до сих пор из газет ничего невозможно узнать. Кажется, мы живем в период невероятно урезанных новостей. Я убежден, что в Америке сейчас освещается меньше новостей, чем в любое другое время в этом веке. Телевидение делает вид, что передает все новости, но телевидение как средство массовой информации совсем не делает репортажей, разве что косметические репортажи, подготовленные так называемыми вашингтонскими корреспондентами. А те, как правило, стоят перед правительственными учреждениями с микрофонами, обтянутыми пористой резиной, и читают что-нибудь, вышедшее в агентствах «Ассошиэйтед пресс» или в «Юнайтед пресс интернэшнл». Вообще, любой обрывок новостей на телевидение поступает или телеграфом или с несущественных событий (пользуясь выражением Даниэля Бурстина[126]), таких как пресс-конференция, встреча по баскетболу и так далее. Вот тогда приходится спрашивать: «Что говорят телеграфные агентства?» Ну а они полностью созданы местными газетами. При этом крупные телеграфные агентства просто пожирают местные газеты. Вдруг вы оказываетесь перед фактом, что почти на всей территории США совершенно нет конкуренции. Сомневаюсь, чтобы нашлось хотя бы пять городов, где газеты все еще конкурируют. Если это случается, монопольная газета сокращает свои штаты – как всегда. Они просто прекращают освещать местные события – слишком большие затраты.
Поэтому, действительно, телевизионные новости, полученные телеграфом, все ужимаются. Правда, это очень грустно. Не знаю, какова коррупция на местном уровне, но в наш век не было более удобного времени для развития коррупции в местных правительственных учреждениях, потому что пресса и не собирается эту коррупцию обличать.
Телевидение, у которого имеются деньги на репортажи, так прекрасно обходится без репортажей, что даже и не порывается их начинать. Поговорите с этими ребятами, и они скажут: «Ну, меня отправили из Бейрута в Тегеран, и у меня было сорок пять минут, чтобы кратко осветить ситуацию». А им бы следовало сказать: «Я читаю материалы „Ассошиэйтед пресс“». Просто попробуйте вспомнить последнюю сенсационную новость (используя этот старый термин) на телевидении. Ведь оно рассчитано только на поставленное событие. И в этом телевидение проявляет себя с лучшей стороны. Вообще, телевидение оказало бы большую услугу стране, если бы полностью прекратило сообщение новостей и транслировало бы только слухи, пресс-конференции и хоккей. Вот это были бы телевизионные новости. По крайней мере, у зрителей не складывалось бы ложное впечатление, что они теперь в курсе всех новостей.
Мне кажется, в журнале New Republic Митч Тачмэн написал, что вы выступили против либералов потому, что вас освистала толпа снобов в Йеле.
– Да, он написал это после «Раскрашенного слова». Все, чем я когда-либо занимался, это писал о мире, в котором мы живем, о мире культуры, Культуры с большой буквы, о журналистике, об искусстве и так далее, писал в том же тоне, в каком пишу обо всем остальном. С одинаковым почтением, с каким люди, которые больше всех кричат, должны были бы писать о жизни в небольшом американском городке, или в мире бизнеса, или в профессиональном спорте, ведь они пишут безо всякого почтения, и как будто так и надо. Зато ныне, если вы высмеиваете господствующую моду в мире искусства или журналистики, вас называют консервативным. А это просто синоним еретика.
Вы всегда были настоящим франтом, вас действительно интересовала одежда?
– Помнится, я впервые заинтересовался одеждой после просмотра фильма «Поцелуй смерти» (1947) с Ричардом Уидмарком в роли Томми Удо. Это была его первая большая роль, роль злодея; Виктор Мэтьюр исполнял роль героя. Это был гангстерский фильм. Я учился в Школе Вашингтон и Ли, а там было принято носить «форму» – думаю, вы бы так сказали. Это была мужская школа, и все должны были носить форменный пиджак и галстук. Думаю, мне просто захотелось приколоться, не нарушая правил, поэтому я стал носить темные рубашки.
Стиль в мужской одежде имеет очень жесткие ограничения, и если вы действительно экспериментируете, то неожиданно оказываетесь вне игры. Вы, конечно, можете поражать всех своим видом, разгуливая в королевском голубом камзоле, но неизбежно исключите себя почти из всех проявлений жизни. Поэтому если вам захочется таким образом поразвлечься, то вы окажетесь кем-то вроде маргинала. Но интересно, что все маргинальное сначала кажется возмутительным.
Кажется, я единственный в школе носил шляпу. И насколько мне известно, единственный, кто каждый день приходил с зонтиком. Когда я оказался на следующей стадии, в Йельском университете, я очень растерялся, потому что там было полно подлинно эксцентричных людей, и пытаться стать эксцентричным среди такого зоопарка, полного эксцентриков, было бесполезно. Валюта обесценилась. В то же время было бесполезно пытаться одеваться по форме, потому что в школе было полно абитуриентов в форме.
Наконец, когда я приехал в Вашингтон, то стал носить одежду, сшитую на заказ, потому что нашел приезжего британского портного. Вообще их было несколько; их ателье было в гостиничном номере. Выкройки всегда лежали на бюро. Можно было посмотреть картинки и подобрать материал. Они шили все что угодно.
Когда я приехал в Нью-Йорк, то отправился к портному и выбрал белый материал на летний костюм. Твид вообще-то довольно плотный материал, и поэтому я надел костюм зимой. Это была зима 1962 или 1963 года, и все были просто ошеломлены.
Длинные волосы в то время коробили людей. Это был смертный грех. В 1964 году я писал очерк о Филе Спекторе, а у него были такие же длинные волосы, как у The Beatles. То, что ему кричали на улице, было просто поразительно.
Неприятие мельчайших изменений стиля было просто невообразимое. Я упивался жизнью. Я попал в какую-то круговерть вещей. Вспоминаю моего друга Билла Роллинса, в то время одну из ведущих фигур в Herald Tribune. Каждый раз, когда я приходил туда, где собирались газетчики, он говорил: «Вот идет человек в двубортном белье». Как мне это нравилось!
А теперь последнее замечание о стиле. Вы можете продолжать развлекаться одеждой, если вам хочется быть претенциозным. Претензия в одежде все еще раздражает. В общем, этим летом я побывал в Восточном Хэмптоне. Люди, у которых я гостил, взяли меня с собой на тусовку. На мне был пиджак из индийской жатой ткани в полоску, почти под горло застегнутый на четыре пуговицы – думаю, в стиле времен короля Эдуарда, – с очень маленьким воротником, и белый галстук в узкую черную полоску; воротник скреплялся булавкой, а манжеты – запонками. Я был в белых брюках из саржи и в ботинках с белыми носами, в настоящих ботинках английского банкира, только из белой замши. На ногах были гладкие белые носки с черными полосками под стать полоскам на галстуке, представьте себе. Довольно скоро я заметил, что был единственным мужчиной в комнате – а тусовались там более шестидесяти человек – и в пиджаке, и при галстуке. Думаю, все присутствующие имели доход гораздо больше моего. Наконец один человек подошел ко мне; он был немного навеселе, но и зол. Он спросил: «С чего это ты вырядился?» Я спросил: «О чем ты?» Он сказал: «Галстук, булавка, вся эта мишура». И я взглянул на него, а на нем – рубашка поло и мешковатые брюки, а на рубашке спереди, прямо посередине, до самой талии огромное пятно. Я сказал: «Ну ладно, кажется, моя мода устарела для этих краев. А тебе-то как удалось так разукрасить рубашку?» Он взглянул как бы с удивлением и сказал: «Это пот, черт побери, это пот!» Внезапно он очень этим возгордился. Я понял, что оказался в окружении вонючего шика.
Знаете, когда я что-то пишу и оказывается, что я прав, должен сознаться, меня это удивляет. Когда я написал о вонючем шике, то даже не думал, насколько это верно.
Несколько раз, последний из них в клубе Polo Lounge в Беверли-Хиллз, я просто стоял, а люди подходили ко мне с вопросом, есть ли свободный стол, потому что на мне был костюм и галстук. Носите причудливую одежду. Если считаете, что оно того стоит.
Не мешает ли она порой вашей роли наблюдателя?
– Нет, чаще всего мешает что-то совершенно противоположное. В начале моей журналистской карьеры, когда я писал для журналов, то обычно чувствовал, как важно пытаться соответствовать.
Быть хамелеоном?
– Да, и это почти всегда приводило к обратному эффекту, в частности когда я начал работать над очерком о Джуниоре Джонсоне, гонщике NASCAR, над одним из первых очерков, написанных для Esquire. Я отлично знал, что Джонсон родом с холмов Южной Калифорнии. Тогда множество водителей-контрабандистов принимали участие в ралли серийных автомобилей. Джуниор был одним из них. Я подумал, что мне лучше бы соответствовать, поэтому я очень тщательно подобрал одежду. У меня были вязаный галстук, какие-то ботинки из коричневой замши и коричневая шляпа от Борсалино, отделанная бобровым мехом в полдюйма высотой. Во всяком случае, я думал, что это очень практично и удобно для гонок; по-моему, я начитался романов Пелема Вудхауза. Я действительно думал, что соответствую, пока дней через пять не испытал полный крах. Джуниор Джонсон подошел ко мне и сказал: «Ничего не хочу сказать, но все эти люди в Ингл Холлоу уже достали меня – только и твердят: „Джуниор, знаешь, какой-то странный зеленый типчик вьется вокруг тебя?“».
Я понял, что я не только не соответствовал, – оттого, что мне казалось, что я каким-то образом соответствую, я боялся задавать самые простые вопросы, потому что если в тебе видят хиппи, то лучше вопросов не задавать. Я также обнаружил, что на самом деле твои старания соответствовать излишни. Тебя с огромным удовольствием поколотят. Людям нравится, когда есть с кем поговорить «за жизнь». Поэтому, если тебе захочется собрать сведения о деревне, они просто вывалят на тебя весь материал. Мой вклад в психологию как науку – это теория информационного принуждения. Человеческому существу присуще желание повысить свой статус, рассказывая другим о том, чего те не знают. Поэтому это на тебя работает.
После этого, работая над эссе «Банда насосной станции»[127], я с трудом пребывал в чуждом мире. На мне всегда был мой костюм из индийской жатой ткани в полоску. Мне казалось, тем ребятам он очень нравился. Они думали, что я очень старый. Мне было за тридцать, и они считали меня старомодным. Им как бы это все нравилось – такой парень в соломенном канотье, который крутился рядом и задавал вопросы. Потом ситуация обострилась, когда я работал над книгой «Электропрохладительный кислотный тест»[128]. До меня стало доходить, что на самом деле пытаться соответствовать этому миру было глубоко ошибочно. Был такой тип людей, которого Кизи и его «Веселые проказники», практически все в психоделическом мире, ненавидели больше всего. Это был так называемый хипстер выходного дня – журналист, учитель, юрист или еще кто-то, кто тусовался по выходным, а в будни возвращался к своей основной работе. Кизи имел обыкновение проверять людей на крутость. Если он вычислял хипстера выходного дня, то придумывал какую-нибудь проверку на хипстерство, например мог сказать: «О’кей, все по мотоциклам, и едем голыми по Дороге номер 1». Они так и поступали, и обычно на этом юрист, который не хотел пятнать свою биографию подобным поступком, сразу же выбывал. Кизи объяснял эту теорию проверки людей на крутость тем, что он знавал многих, желавших быть аморальными, но очень немногие решались на это. И он был прав.
Как вы вышли на «третье великое пробуждение»? Это изначально мыслилось как лекция?
– По-моему, я готовил это для The Critic; там я использовал выражение «третье великое пробуждение».
То немногое, что я узнал на лекциях, которые в основном отменял, было существование новых религиозных движений и некоторые сведения о них. Я познакомился с членами религиозных общин, которые приходили на встречи со мной в надежде услышать о Кене Кизи и «Веселых проказниках», о которых я больше не говорил. Я говорил об искусстве, а меня прежде всего спрашивали: «Чем теперь занят Кен Кизи?» И не сосчитать, сколько раз так было. Я начал понимать, что меня воспринимали как посредника, который мог наладить их контакт с иным миром. И все эти люди терпеливо слушали только для того, чтобы дождаться возможности задать вопрос или отвести меня в сторону и спросить: «Чем теперь занят Кен Кизи? Какой он в жизни? Где мне найти общину? Правильно ли мы руководим нашей общиной?» Боже, я получал столько писем – я мог бы начать строительство колонны с надписью: «Д-р Хип Пократ, Совет для Голов».
Ну, другой вопрос, который все задавали, помнится, звучал так: «Сколько раз вы приняли „кислоту“, чтобы написать „Электропрохладительный кислотный тест“?» И ваш ответ вызывал глубокое разочарование.
– Да, мне кажется, они действительно хотели, чтобы я подсел. Но нет, этого со мной не бывало.
Вы уединялись и употребляли «кислоту», просто чтобы понять, что это такое?
– Ну, вообще я принял ее один раз во время работы над книгой; я начал писать книгу, а потом подумал: ну, осталось кое-что в этом репортаже, чего я не сделал. Поэтому я принял «кислоту»; мне было чертовски страшно. Все равно что привязать себя к железнодорожным путям, чтобы проверить длину поезда. Эффект был мощным. Больше я так не поступал. Хотя кое-где, куда я ездил с лекциями в последующие годы, иногда обнаруживалось нечто подобное в пирогах к обеду – не ЛСД, но с едой запекали много гашиша, марихуаны или мефедрин. Распыляли попперсы у меня под носом и все такое. Думали, что ублажают меня. Но одна из причин того, почему я написал «Электропрохладительный кислотный тест», одна из причин того, почему мне казалось важным написать об этом, заключалась в том, что это – религия: группа Кизи была изначально религиозной группой.
Люди в психоделическом мире всегда были религиозными, но тщательно это скрывали. Быть откровенно религиозным – это дурно пахло. То есть Кизи ссылался на Космо, имея в виду Бога; кто-то в его группе употреблял слово «менеджер». Хью Ромни (известный также как Вейви Грейви) обычно говорил: «Я в пудинге, и мы встретились с менеджером». Или они говорили, если обретали очень религиозное состояние духа и начинали много думать… Как назвать состояние, когда два человека думают об одном и том же одновременно? Вероятно, «совпадение» было бы правильно, но было и другое слово для этого – они могли сказать: «Ну, какой-то поистине душок нисходит», или «Братья, это священный момент», или нечто подобное.
В начале 70-х настроение всего этого становилось все более и более откровенно религиозным, и мысль о том, что это третье великое пробуждение, взорвалась в моей голове. Потому что у меня остались еще со времен высшей школы воспоминания о первом пробуждении и втором великом пробуждении, из которого вышло мормонство. Тогда я начал об этом читать. Я понял, что мормоны, например, были совершенно такими, как хиппи, и такими их понимали. Просто дикие подростки. Они были молоды, когда начинали. Мормонов представляют старыми, с окладистыми бородами. А они были детьми. Им было двадцать с небольшим. Джозефу Смиту было двадцать четыре года – он был руководителем группы. И их ненавидели больше, чем хиппи. И Смита линчевали. Его не повесили, но посадили в тюрьму в Карфагене (Иллинойс), и на тюрьму напали убийцы с завязанными платками лицами и застрелили его. Поэтому Бригем Янг увел группу в леса Юты.
И мне кажется, это движение все ширится. Во всех такое… томление – оно всегда было – по слепой вере. Думаю, что такого явления, как рациональная вера, нет. В таком случае это – не вера. И людям всегда ее не хватает, так или иначе, и мне в том числе, хотя я скрываю это от самого себя, как почти все люди, которые думают, что они действительно мудрые и ученые. Но это именно то, чего не хватает людям, потому что слепая вера – это способ убедить себя в том, что тот образ жизни, который вы ведете или намерены вести, самый лучший. Вот о чем речь.
Ныне настало благодатное время для появления новых религий. Есть люди, которые испытывают религиозные чувства к бегу трусцой, к сексу, и когда вы разговариваете с некоторыми из этих людей, то понимаете, что они пудрят вам мозги. Боже, просто тягостно их слушать. Здоровое питание тоже становится основой религии, конечно, летающие тарелки – все теперь становится живительной почвой. Каждый день рождается новый мессия. Вот почему Джимми Картер допустил такую колоссальную ошибку, отказавшись проповедовать. Он бы вышел сухим из воды и был бы избран как заново родившийся христианин. Вот что нужно людям. Если бы он просто проповедовал и последние три года выступал с речами о бесправии народа, то народу бы это понравилось.
Скажите, к чему вы собираетесь обратиться теперь? Вы ничем не занимаетесь или что-то обдумываете?
– Я занимаюсь кое-чем, о чем размышлял долгое время, а именно о книге «Ярмарка тщеславия», о Нью-Йорке в духе Теккерея. Когда я пошел на вечеринку к Леонарду Бернстайну[129], у меня была мысль собрать материал для будущей нехудожественной книги, которую можно было написать между прочим, если бы нашлось достаточно событий или сцен, которые можно было бы в нее включить. Впрочем, теперь меня подмывает попытаться написать ее как роман, поскольку у меня нет еще ни одного романа, и просто посмотреть, что получится. Я также сознаю то, что сами романисты почти не затрагивают Нью-Йорк. Как можно пройти мимо него, не понимаю. Город был главной темой в произведениях Диккенса, Золя, Теккерея, Бальзака. Многие талантливые писатели выбирали городскую тему. И сегодня один из самых замечательных периодов в истории городов. Кто после Второй мировой войны написал великий роман о Нью-Йорке? Никто. Или о Чикаго, о Кливленде, о Лос-Анджелесе, о Ньюарке? Боже мой, история Ньюарка была бы совершенно удивительной.
Значит, вы будет разгуливать по улицам?
– Ну, не знаю, буду ли я заходить в дома, но придется сделать много репортажей. На улицах больше хорошего материала, чем в мозгу писателя. Писателю всегда нравится думать, что написанное им хорошее произведение – создание его гения, а материал – это просто глина: девяносто восемь процентов гения и два процента материала. Думаю, что в хорошем произведении материала должно быть, вероятно, от 70 до 30 процентов. Стало быть, репортаж имеет огромное значение; не думаю, что многие писатели это понимают.
Джек Николсон
Интервьюер Нэнси Коллинз
29 марта 1984 года
Едва ли вашего героя астронавта Гаррета Бридлава из фильма «Слова нежности» можно назвать любимцем женщин. Были ли трудности с ролью парня средних лет, потерявшего форму?
– Нет, потому что мне всегда хотелось играть людей старше себя. Раньше я выступил в ролях Уолтера Хастона, Эдуарда Арнольда, Чарльза Бикфорда. С ними не было проблем. Этот же персонаж превратился в фобию: люди думают, что он доставил много проблем, а на самом деле – никаких. Из реальной жизни мне известно, что люди средних лет очень привлекательны. Я чувствую, что превосхожу всех тех ребят, которые сидят на строгих диетах. Они бегают; они сумасбродят; их кожа всегда отлично выглядит, а я чувствую, что сорву банк, если буду вести себя иначе. Кроме того, я физически рассечен больше, чем какая-нибудь лягушка на уроке биологии: это мои брови, мои глаза, мои зубы. А теперь – и мой желудок. Двадцать пять лет обо мне писали, что я совершенно лысый, а теперь и они все лысые, и – посмотрите. (Показывает на голову.)
С четырех лет у меня был избыточный вес. Конечно, я всеми силами борюсь с ним, но это всегда меня раздражает. Я не хочу слишком возносить мою роль и мою работу, но разве они для меня значат не больше, чем мой вес?
Одна из тем в «Словах нежности» – сексуальная жизнь и кризис среднего возраста. Вам сорок шесть лет. Вы испытали какие-либо проявления кризиса среднего возраста?
– О, конечно. Вы знаете, сколько колец на вашем дереве. Примерно то же имеет в виду Мик Джаггер, когда говорит, что было бы ужасно петь рок-н-ролл в сорок лет. Ну, не так ужасно, как ему ныне представляется. Я сознаю, что в моей работе возраст – важный фактор, поэтому иду на ограничения, прежде всего в профессиональной сфере. Не хочу быть человеком, который, пройдя определенный этап физического развития, считает, что молодые женщины действительно предпочитают его как мужчину. Это образ, которого я всегда чурался. Надеюсь, я не настолько уязвим, но мог бы быть. Это глупая роль, роль клоуна. Я не прочь сыграть ее, но не хотел бы быть таким.
Мне кажется, вы знаете о вашей репутации бабника. Не создается ли такое ассоциативное мнение из-за вашей дружбы с Уорреном Битти?
– Верно, ассоциативное. Вот что за ночь сейчас? Вы слышите, чтобы мне звонили женщины? Ведь они знают, что я здесь. Послушайте, это просто дерьмо собачье. Не могу же я ходить и говорить, что я не бабник, это ведь глупо. К тому же у меня нет причин отрицать этот слух, разве только он начнет оказывать влияние на мое реальное положение.
Еще ребенком я испытал замешательство, когда понял, что все остальные мальчишки лгут, рассказывая о своих мужских достоинствах. А я-то думал, что они говорят правду. В возрасте от шести до десяти лет я им верил, а в одиннадцать сказал: «Парни врут». В результате этого сдвига мне очень трудно лгать о моих достоинствах и моем опыте. Именно в связи с моей репутацией я испытываю легкое замешательство, когда на меня так смотрят, потому что мне слишком доверяют.
Но ваши зрители хотят вам верить. В частности, мужчины любят проживать чужую жизнь. Им хочется думать, что быть звездой полнометражного фильма – значит иметь много женщин.
– Это мне нравится. Я не против. Так и есть. (Широко улыбается.)
Вы однолюб? Смогли бы вы хранить верность, чтобы поддерживать важные отношения, как, например, ваши отношения с Анжеликой[130]?
– Естественно, я не однолюб. Но до сих пор был однолюбом, и только поэтому мне не стыдно в этом признаться. Какая разница? Разве что только для вида – казаться хорошим. Я верю в это только по причине жизненного опыта. Если в чем-то я обладаю достаточным опытом, то мне плевать на чужую теорию.
Послушай, однолюб ты или нет, женщины все равно подозревают тебя в измене.
Вас воспитывали женщины: Этель Мэй, которую вы считали матерью, и две ее дочери, Лоррейн и Джун. Последняя была старше вас на семнадцать лет. Муж Этель Мэй, пьяница, не часто бывал дома, и она содержала всех, открыв салон красоты в городке Нептун (Нью Джерси). После смерти Джун в 1975 году открылась правда: вы были незаконнорожденным! Этель Мэй на самом деле была вашей бабушкой, но выдавала себя за мать, а Джун, о которой вы привыкли думать как о вашей сестре, была вашей биологической матерью. Как вы это перенесли?
– Я снимался в «Судьбе», и кто-то позвал меня к телефону – думаю, звонили в связи с посвященной мне статьей в журнале Time. В конце концов я получил официальное подтверждение от Лоррейн. Я просто онемел. Поскольку я был в работе, то пошел к режиссеру Майку Николсу и сказал: «Вот что, Майк, ты знаешь, что я актер высшей категории. Я только что кое-что узнал – кое-что открылось, – поэтому присматривай за мной. Не позволь мне покончить с собой».
Вы знаете, кто ваш отец?
– Только Джун и Этель знали, но никогда никому не рассказывали.
Какой была эта женщина, Джун?
– Вкратце? Талантливая семнадцатилетняя девушка, которая едет в Нью-Йорк и Майами как танцовщица некоего Эрла Карролла и занимается цыганскими танцами… Какое-то время она числится любовницей (шоумена) Пинки Ли. А когда начинается война, превращается в ирландско-американскую патриотку, девушку, работающую на контрольно-диспетчерском пункте в «Уиллоу ран», центре по отправке домой военнослужащих Второй мировой войны. Выходит замуж за сына богатого нейрохирурга с Востока, одного из самых известных американских летчиков-испытателей… И они ведут вполне деревенский образ жизни в Стоуни Бруке (Лонг-Айленд), где я всегда проводил лето в такой приятной атмосфере людей из высшего общества.
И вы все время считали, что Джун – ваша сестра?
– Точно. Брак разрушился из-за проблемы с пьянством, и, как и все домашние девушки, она возвращается домой. Она ездит в Нью-Йорк, обучается танцам у Артура Мюррея и, приняв самостоятельное решение, едет в Калифорнию со своими детьми… где работает на авиационном заводе, обучаясь на секретаршу. Я приезжаю в Калифорнию и живу самостоятельно. Она становится помощником закупщика у Дж. Ч. Пенни, потом заболевает раком и умирает.
У нас с Джун было много общего. Я и она упорно боролись. То, что она мне ничего не сказала, не облегчило ей жизнь, но она не сделала этого, потому что нельзя было знать, как бы мальчишка отреагировал на это известие. Когда Джун умирала, я нашел работу в Мексике. Сначала – много недель – работа в студии звукозаписи. Сандра[131] была беременна Дженнифер, а Джун умирала. Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Подождать?» Иными словами: «Постараться ли мне выжить?» И я сказал, что не надо.
Знаете, я решительный противник абортов. И не признаю иной точки зрения. Мое единственное чувство – это благодарность, буквально, за мою жизнь. (Если бы Джун и Этель были) не такими сильными, я бы никогда не родился. Эти женщины подарили мне жизнь. Это феминистский рассказ чистейшей воды. Они дали мне прекрасное воспитание. Я до сего дня ни у кого не занял ни гроша и никогда не чувствовал себя неспособным о себе позаботиться. Они определенно научили меня быть самодостаточным.
Ведь вы изначально любите женщин?
– Да, изначально. Отдаю предпочтение обществу женщин и питаю к ним глубокое уважение. Я опьянен женской таинственностью. Я всегда говорю молодым людям, что существуют три правила: они ненавидят нас, мы ненавидим их; они сильнее, они красивее; и, самое главное, они ведут нечестную игру.
Что привлекает вас в женщинах? Однажды вы сказали, что вам нравятся женщины соблазнительные, но недоступные.
– Не столь категорично. Я бы сказал, что не важно, красива женщина или нет, но меня привлекает то, что я считаю красивым. В остальном мне бы хотелось, чтобы женщины, которые меня привлекали, все еще были со мной. Они не нужны мне недосягаемыми, я даже не хочу их, если они недоступны!
Как вы думаете, вы сексуальны?
– Знаю, что для кого-то – сексуален. В сиюминутных ситуациях, мне всегда так кажется, женщины ассоциируют меня с моими героями, и в отношениях с женщинами это работает против меня. Это работает на меня, потому что обо мне знают, а женщины любят иметь связи с известными людьми. Но, в моем представлении, это работает против меня. Получается, что если я заинтересован в общении с каким-то человеком, то я прошу прощения за то, что я кинозвезда.
Вы сказали, что именно вы разрывали все ваши любовные связи.
– Правда, все, за одним исключением. Но опять-таки как у всех мужчин: у вас нет уверенности, что вы не рвете с ними, потому что не знаете, как от них уйти.
Кстати, вы когда-нибудь лечились у психотерапевта?
– Я лечился по методу Райха, насквозь сексуальному.
Вы прошли весь курс психоанализа по Райху без одежды, нагим?
– У-гм. Мне не потребовалось никакого рационалистического объяснения. Работало со мной вот так… (Щелкает пальцами.)
Однажды вы сказали об актерской игре: «Вам надо решить, какова ваша сексуальность в данной сцене. Все остальное придет». Ведь сексуальная часть игры для вас очень важна?
– Это ключ. Ключ ко всему. Вообще, секс – моя излюбленная тема. Но я боюсь говорить о нем из-за Анжелики. Она как-то сказала: «Как бы ты чувствовал себя, если бы я сидела с каким-нибудь интервьюером и рассказывала ему, что я чувствую в связи с сексом и занятием любовью. Я знаю, ты разозлился бы». И я подумал: «Именно так, ты абсолютно права». Но это дихотомия. Я жажду честности в жизни. Как художник – жажду ясности. Я бы любому, любому живому существу рассказал о себе, и в этом рассказе было бы много фактов не в мою пользу.
Вы знаете, что о вас говорят как о человеке, которого засосали наркотики. Это правда?
– Засосали наркотики? Нет. И никогда этого не было. Связан ли я с наркотиками? Да. Но, например, хотя я говорю – постоянно, – что курил марихуану, я никогда никому не говорил, что я употреблял кокаин. Никогда и никому.
Тогда почему вам кажется, что люди думают, будто вы употребляете кокаин?
– Мне кажется нормальным предположить такое, особенно о том, кто не делает тайны из своей частной жизни. Я должен укорять только самого себя. Не уверен, что мне следовало быть настолько откровенным. Я думал, что это хорошо, потому что, прежде всего, я за легализацию и потому что знаю, чего это стоит. В данном случае цифры лгут.
Как бы вы охарактеризовали употребление вами наркотиков?
– Праздничное.
Что это значит?
– Это значит, что я хорошо провожу время. Я не пью, хотя последние года два позволяю себе стаканчик вина, иногда две рюмки коньяка после кофе.
Вы продолжаете курить марихуану?
– Зачем об этом говорить? Я же никого не угощаю. У меня нет желания скрывать то, что я делаю, и я стараюсь не скрывать этого, но это производит противоположное действие. Людям нравится находить повод, чтобы тебя уличить. Они не должны настолько приближаться ко мне, потому что будут воспринимать меня в связи с этой компрометирующей статьей. Мне тяжело думать, что я живу в мире, где твоя откровенность о чем-то, что в глубине души ты сам считаешь вполне нормальным, идет тебе во вред.
Вам бы хотелось сказать, что вы не употребляете кокаин?
– Сказал бы я? Я действительно решил, что мне нечего больше сказать по этому поводу, ничего полезного для меня, да и для остальных.
Что касается вашего якобы употребления наркотиков, похоже, некоторых больше волнует ваше здоровье, чем ваша нравственность.
– Врач, исцелись сам. Я чувствую, что почти всегда знаю, что делаю. Я не пропустил ни одного занятия по актерскому мастерству за двенадцать лет учебы и не пропустил ни одного рабочего дня по болезни за тридцать лет. Моим медицинским свидетельствам, свидетельствам о моем психическом здоровье любой может позавидовать. Я не делаю ничего дурного. Просто стараюсь все делать правильно. Я знаю, кто я, и это правда. Я бы хотел сказать, что мне все равно, что думают люди, но мне не все равно. Все, кто меня знают, быть может, думают, что я… веду себя как мальчишка и проказничаю, но я не считаю, что кто-либо думает, что мною движет какой-то негатив, продажные философии или чрезмерно радикальные моральные взгляды. В сфере работы я известен как образец профессионализма. Мне надо смириться с тем, что мне дают ложные характеристики, потому что контролировать этот процесс немодно. К тому же это мнение обо мне как о бабнике… Не вполне уверен, что оно не вредит делу.
Вы начали свою карьеру в Голливуде как актер, сценарист и продюсер, в основном сотрудничая со студией B-movie Роджера Кормана[132]. Вы были также режиссером двух фильмов: «Поезжай, сказал он» и «Направляясь на юг». Ни один не стал хитом, но оба получили несколько сдержанных рецензий. И все же режиссура, похоже, не является вашей страстью.
– Она то появляется, то исчезает. Это не страсть, потому что я не люблю критику. Пока я не настолько хорош. Если бы у меня не было иной карьеры, то я смелее относился бы к режиссуре. Мне нравится действие. Режиссура для меня – приятная работа. Мне не нужно преодолевать неверие в собственные силы. Поэтому что такого, если я вывернусь наизнанку? Как режиссер я нужен, чтобы помочь другим, и мне это нравится. К тому же я почти ничего не пишу, и это проклятие и мучение моей жизни.
А почему не пишете?
– Не могу сесть. Жизнь распоряжается по-иному – это одна из проблем, когда имеешь много возможностей. В юности я писал, чтобы заработать на жизнь. Получить любое минимальное вознаграждение, установленное Гильдией актеров кино, – это большие деньги. За этот период я написал немного. Я совершенствовался как актер. Я стал продюсером, что снова расширило мои границы как создателя фильма. Примерно тогда же я выработал свое рабочее кредо: ты – орудие в руках создателя фильма, и ты служишь фильму. Если бы у меня не было работы по контрактам, мне кажется, я начал бы сейчас же и сделал бы все возможное, чтобы к концу года мой фильм уже шел в кинотеатрах. Я импровизирую и прописываю многие вещи, которые делаю. Пытаюсь сотрудничать со всеми и в разных аспектах, но меня уже давно не беспокоит, кому доверят писать сценарий.
Вы самоуверенный человек? Какие ваши черты вам не нравятся?
– В сущности, я самоуверенный человек. Мне не нравится, когда я лишен свободы творчества; это меня тревожит, и я думаю: неужели конец? Не опустел ли колодец? Меня беспокоит отсутствие самоуверенности в том человеке, который время от времени должен быть аккуратно одетым или рекламировать себя. Непонятно, почему мне кажется, что я должен это делать. Иногда я не в силах включиться в положительное общение, обращенное ко мне, потому что не уверен, что того заслуживаю. В настоящее время я позволил всем этим симптомам отсутствия самоуверенности просто быть. Я не позволяю им на меня воздействовать. Иными словами, я более комфортно чувствую себя сейчас с моим отсутствием самоуверенности, поэтому в каком-то смысле у меня ее больше.
Вы всегда были уверены в вашем таланте?
– Иногда бывал более уверен, чем теперь. Никто и никогда не скучал, глядя на моих героев, пусть я даже не ведал, что творил. Но меня беспокоила другая сторона дела. Я думал: «Ну, любой может провести этих простаков. Так где же миллион долларов? Почему не все меня любят? Где же награда?» Я разговариваю почти со всеми хорошими актерами, и ни один из них не знает, что он хороший актер.
Вам важно получить премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана, сыгранную в «Словах нежности»?
– Я сказал моим спорящим друзьям еще до того, как встретился с организаторами и прочел все сценарии, на кого они должны поставить в Лас-Вегасе, если хотят выиграть. Вот как мне это нравилось. Я открою вам еще одну детскую причину того, почему мне хотелось бы получить награду. Думаю, у вас есть сумасбродные цели в жизни. Мне бы хотелось получить больше «Оскаров», чем Уолт Дисней, и мне хотелось бы получить их в разных номинациях. И некоторое время я мечтаю об «Оскаре» в этой номинации. Проще говоря, мне нравятся награды Академии. И я ярко выраженный дзэн-буддист 50-х – все награды фальшивы, все суета, – но мне нравится видеть какой-нибудь Маунт-Рашмор[133] выстроившихся однажды вечером кинозвезд 1984 года, не важно, какие у них сумасбродные идеи. Занятно. Никому не обидно. За парой исключений мне известно, получу я награду или нет, потому что я слежу за всем этим с детства. И всегда чувствую себя лучше, когда знаю, что не получу, потому что тогда у меня будет просто приятный вечер. Я – Мистер Голливуд. Я всех люблю. Конечно, я веду себя и иным образом, думая, что я наихудший из всех лузеров в истории, и произношу гневные слова. Даже если я не иду на церемонию, я люблю «Оскары». Сижу дома и обсуждаю илисто-зеленое платье и говорю: «Боже, если бы я испытал такой провал на телевидении, я бы застрелился».
Как вы расходуете ваши деньги?
– У меня несколько домов[134], которым постоянно требуется ремонт, поэтому я просаживаю на них много денег. Еще картины – но мне очень не нравится называть их инвестициями; это скорее банковские сбережения, чем инвестиции. Я не торговец и не коллекционер, я сознаю, что не выбрасываю десять тысяч долларов в окно. У меня есть 2 абонемента на игры «Лейкерс» по сто шестьдесят долларов за вечер, хотя я не появляюсь там по полгода. Я следую театральной традиции, гласящей, что тот, кто делает больше всех денег, получает чек. И мне нравится делать подарки.
Сейчас вы счастливы?
– Безмерно. Мне бы очень хотелось увидеть большой, широкий проспект со страшным движением, простирающийся передо мной, но дело не в этом… На меня теперь никто не злится. Я в форме. Мои друзья преуспевают. Но, впрочем, с тех пор, как мне исполнилось двадцать восемь лет, у меня есть бонус времени. Я прожил неплохую жизнь для всякого, кто доживал до такого возраста, поэтому с тех пор у меня большой бонус.
Каков секрет вашей привлекательности?
– Не знаю. Когда я был тинейджером и когда мне было чуть за двадцать, друзья звали меня Великим соблазнителем – хотя они явно не были уверены в моей привлекательности, – потому что им казалось, что я обладаю чем-то незримым, но неисчерпаемым.
И теперь, будучи актером, вы этим пользуетесь. Соблазнять – ваш бизнес.
– (Смеется.) Верно. Но я не хочу никому навязывать свою волю. Я хочу, чтобы этого хотели. Я хочу, чтобы все оставалось так, как есть, и, поверьте, так, как есть (произносит с улыбкой киллера), – это чертовски хорошо.
Билл Мюррей
Интервьюер Тимоти Крауз
16 августа 1984 года
Я знаю, что вы родом из Чикаго, но мне было бы интересно узнать о вашем социальном происхождении.
– Его трудно описать. Мой отец был коммивояжером лесозаготовительной компании и стал ее вице-президентом примерно за полгода до смерти. Он уже готов был начать делать деньги.
Когда он умер?
– В декабре 1969 года. Мне было семнадцать лет. Я как раз поступил в среднюю школу. Он никогда не делал больших денег, а в семье было девять детей, так что и большие деньги не сделали бы погоды. Я рос в Вилметт, пригороде Чикаго, где люди имели деньги, но мы были не из их числа.
И все работали, чтобы помочь семье?
– Ну, не так чтобы. На самом деле работал отец. Мы платили за наше обучение в средней школе, потому что мы все ходили в католическую школу, кроме двоих моих братьев, которые были неверующими и посещали государственную школу.
Летом мы с братьями зарабатывали тем, что подносили клюшки и мячи во время игры в гольф, а сестры устраивались приходящими нянями.
Насколько вы выделялись на фоне своих братьев?
– Я был пятым по счету и, вероятно, самым удачным ребенком. После меня все пошло под откос. Даже я был как бы лишним, но, думаю, в нашей семье все были лишними. Я имел несчастье повзрослеть, когда мир перевернулся, и я как бы знакомил с переменами моих родителей – с относительным успехом. Я говорил за всю культуру, за всех, от имени Тима Лири и даже от имени «Аэропланов»[135].
Вы были проблемой в школе?
– Я был неуспевающим и сорвиголовой. Помню, я принял участие в тесте National Merit Scholarship, набрал довольно высокий балл и мог бы победить. Но когда я получил результаты, то рядом с моим именем стояла звездочка, а это значило, что я квалифицировался на грант National Merit Scholarship, но не получу его, потому что не был среди первых учеников моего класса. Это были печальные, поистине плохие новости, потому что отцу очень хотелось бы услышать, что кто-то из его детей получил деньги на учебу в колледже.
А как к вам относились в школе?
– В то время мои учителя говорили со мной об одном и том же: «В чем дело, Билл? Что-то тебя беспокоит? Что-то стряслось дома?» Не знаю, просто школа меня не очень интересовала. Учеба была скучной, а я ленивым. Я и сейчас ленивый. И мне было неинтересно получать хорошие оценки. В начальной школе я в основном все время создавал неприятности. Но не очень серьезные. Когда я учился в средней школе, я сталкивался с более изощренными нарушителями спокойствия. Эти ребята были настоящими умниками – имели IQ, равный ста сорока восьми, – и настоящими дураками, первыми, кого вышибли из школы за травку. Они просто летели на другом самолете… То есть в нашей школе было запрещено ходить с длинными волосами, поэтому эти ребята отпустили длинные волосы и не мыли их, так что они казались короче, а вы бы видели их в выходные – вы бы не поверили, какие длинные у них волосы, потому что они их мыли. Они терпели все неприятности, которые доставляли им одноклассники школы из-за того, что у них грязные волосы, а им хоть бы хны. Потому что наступали выходные, и они вели себя совсем не так, как ребята из Вилметт, которые пробовали пить пиво и балдеть. Им было неинтересно принадлежать к коллективу этой подготовительной католической школы. Они были деловыми, крутыми и слушали блюзы.
Так где же вы были?
– В основном я был где-то посередине. Это было хорошо, потому что я мог разглядеть обе стороны. Я ничего не знал ни о делах, ни о блюзах, но и денег на развлечения у меня не было. Не было автомобиля, не было водительских прав до бог знает какого времени. Поэтому я в основном полагался на друзей, они меня возили. Я ездил на автобусе или на попутках. Почти всех остальных парней либо подвозили родители либо у них был собственный автомобиль. Мои родители просто смотрели на меня так: «Твой брат ездит до школы на попутке, и ты будешь ездить так же».
С кем в семье вы были наиболее близки?
– Довольно близок с сестрой Пегги. Она была ближе всех ко мне по возрасту.
Кем она стала?
– Пародией на себя. Нет, она живет в пригороде, и у нее трое детей. Она – активный человек. Она настолько активна, насколько можно себе представить. Она вскакивает с постели и начинает крутиться. У нее много дел. Она всегда была такой. Поэтому, когда у меня в колледже наступила черная полоса, у нее не было времени на меня. В то время хорошие отношения в доме у меня были только с собакой.
Что за собака?
– Самая замечательная собака в мире. Кернтерьер, такая маленькая собачка. Мамина. Одна из тех собачек, которые будут вам без конца приносить то, что вы им кинете. И песик просто обожал гулять. Я брал его на прогулки до Эванстона, что в пятнадцати милях от нас. Лапы у него болели, но ему все равно нравилось. Это был сложный период моей жизни. Все уехали из дому. Старший брат служил в авиации, второй старший брат жил в центре города, одна сестра ушла в монастырь, другая куда-то переехала.
В основном мой день начинался в полдень или в час дня. Я просыпался, съедал яичницу из восьми яиц и тост из половины батона, потом выпивал примерно полгаллона молока, а потом слонялся без дела, читал, слушал радио, звонил по телефону. А потом, примерно в половине шестого или в шесть, когда мама вот-вот должна была прийти домой, я смывался. И возвращался в четыре или пять часов утра. Я укладывался спать, а мама кричала на меня: «Ты обязан быть дома к моему возвращению».
Я наведывался в центр города, слоняясь там с моим братом Брайаном Дойл-Мюрреем. Кроме того, у меня были друзья, которые уехали на Северо-Запад. Я ночь напролет гулял по улицам Эванстона. Шел домой пешком или ехал ночью на подземке. Зимой было так холодно, что я буквально бросался на машины, чтобы заставить водителей меня подвезти. А они так пугались и были так рады, что я без пушки, что подбрасывали меня до дома.
Когда вы впервые почувствовали, что вам хочется быть актером?
– Еще в школе я играл в спектакле «Восстание Кейна». Я играл Кифера, аморального парня, который на всех стучал. Роль была небольшая. Замечательно при этом было только то, что можно было несколько часов не присутствовать на уроках, а это все равно что трехдневный отпуск в армии, потому что уроки были ужасны.
Потом поставили другой спектакль «Музыкант». Меня прослушали как кандидата на роль музыканта, потому что я пел. Прослушали вместе с двумя другими парнями, но роль досталась кому-то еще. Потом нас троих прослушали, нужны были исполнители в квартет парней из парикмахерской, и мы получили эти роли. Однажды после школы я проходил мимо школьного театра, а там были девочки, и я вошел. Это была мужская школа, понимаешь, и поэтому девочки… хотелось просто раздеться. При этом девочки были симпатичные и почти без одежды, потому что это был танцевальный просмотр. Какая-то женщина обернулась и спросила: «Ну, кто на просмотр?» Я просто подпрыгнул и сказал: «Я танцор». И услышал: «Давай». И я поднялся на сцену. Мне хотелось просто встать сзади этих девушек, и как можно ближе. Я немного потанцевал, попросту кривляясь. Женщина сказала: «О’кей, ты, ты, ты и ты» – и указала на меня, и меня взяли. Поэтому я сказал моим друзьям: «Эй, я не буду участвовать в квартете – я теперь танцор». А они: «Что? Как?» И я ответил: «Не знаю, мужики, не знаю. Это просто мой инстинкт».