Козлёнок за два гроша Канович Григорий
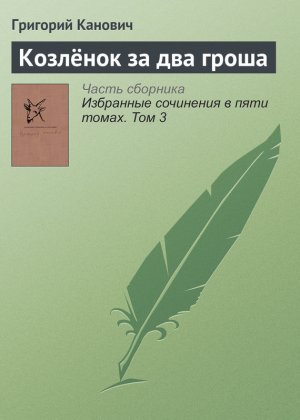
Никто не решался первым ему ответить. Что им до его холопской радости? У него своя дорога, у них — своя, и никогда им не сойтись. Мог бы не останавливаться, мог бы проскочить мимо, как проскакивает мимо них всякая радость — малая и большая, хозяйская и лакейская.
— Доброе утро, реб Юдл, — наконец сдержанно бросил Шмуле-Сендер. Он знал, что эконом графа Завадского не любит, когда к нему обращаются по еврейскому обычаю. Раз скажешь «реб», другой, и Юдл Крапивников испарится.
Шмуле-Сендер был почему-то уверен, что Крапивников разлучит их, заберет к себе Эфраима: рысак графа Завадского, конечно, проворнее, чем его, Шмуле-Сендера, кобыла.
Пересядь Эфраим в бричку, и все потеряет смысл. Вся езда превратится в сплошное, ничем не оправданное мучение. Она и сейчас мучение, но возвышающее, сплачивающее, помогающее убежать от одиночества.
Пусть к эконому в бричку пересаживается «палестинец», не то себя, не то Юдла Крапивникова уговаривал в душе Шмуле-Сендер. Незнакомцу еще до Одессы добираться. А им — им только до Вильно. Их пароход не уходит в Хайфу. Их пароход — на четырех колесах, и плывет он к несчастному Гиршу Дудаку. Может, даже лучше, если они приедут после всего. Иное прощание хуже смерти.
— Выше голову, евреи! — гремел над ковенским трактом голос Юдла Крапивникова.
Старик Эфраим не сводил глаз с Дануты.
Она сидела рядом с экономом, пытаясь увернуться от его любвеобильных объятий. На ней уже не было той шляпы с приманчивым пером; утренний ветер ерошил ее рыжие волосы.
Старик Эфраим смотрел на Дануту и никак не мог взять в толк, какая связь между ней и удачливым Юдлом Крапивниковым. Ведь Юдл Крапивников не поет на свадьбах, не пляшет на площадях, не изображает ни царей, ни купцов. Юдл Крапивников всегда изображает только одно — счастливого еврея, самого счастливого в Российской империи.
Господи, думал Эфраим, еще совсем недавно она льнула к легкомысленному, влюбчивому Эзре, и Эзра ерошил ее кудри.
Хм!.. Дочь мятежного польского офицера, сосланного на медные рудники в Сибирь… Свободно говорит по-европейски… Знает даже две-три фразы по-древнееврейски. «Будущей весной в Иерусалиме!..»
Нет, думал Эфраим, не в Иерусалиме, не в Мишкине на чердаке, на кровати Церты, а где-нибудь в Гродно, в Вильно, в Слуцке на постоялом дворе с тем же Юдлом Крапивниковым или похожим на него потаскуном.
Ему, Юдлу Крагшвникову, все одно — что русская, что еврейка, что полька, что татарка. Он в любой виноградник входит, как в конюшню.
Что это, поймал себя на мысли Эфраим. Я вместо Эзры ревную ее к Крапивникову. А ведь должен бы радоваться, что Юдл пригрел ее.
Радоваться, радоваться, убеждал он себя. Может, Эзра наконец образумится, найдет в каком-нибудь местечке еврейскую невесту. Дочерям польских офицеров нужны другие мужья — шляхтичи.
Шляхтич Эзра Дудак, хмыкнул Эфраим.
Юдл Крапивников вдруг остановил бричку, слез с облучка.
— Разомнем ножки, панна Данута!
Юдл Крапивников подал ей руку, и Данута легко, почти игриво соскочила вниз:
— Мерси!
Пусть разминают ножки, пусть остаются вдвоем на этой раскисшей от весеннего ливня дороге. Пусть целуются и милуются!
— У меня для тебя, старик, три хорошие новости, — обратился эконом графа Завадского к каменотесу.
— Три?
— Ты можешь не спешить в Вильно. Следствие еще продолжается. В газете написано. Черным по белому. Того и гляди, выкрутится твой Гирш, — не то с сожалением, не то с восхищением сказал Юдл Крапивников.
Старик Эфраим вздрогнул. Три хорошие новости за один день — такого еще с ним не бывало. За всю жизнь он, может, только две хорошие новости и услышал. Первую — давным-давно, в молодости, в чужой стране, в чужих горах, когда он, Эфраим Дудак, новобранец-первогодок, узнал от своего командира, что русско-турецкая война кончилась и что скоро их всех отпустят по домам. Вторую, когда на свет появился его первенец — Шахна. А больше, больше хороших новостей не было. Хорошие вести в еврейских домах не живут.
— Вторая новость. Твоего Гирша согласился защищать сам Эльяшев. В газете написано. Черным по белому, — отчеканил эконом.
А третья? Не было еще такого, чтобы евреи самую лучшую новость напоследок припасли.
— Вы хоть знаете, кто такой Эльяшев? — обратился к телеге Юдл Крапивников.
— Не знаем, — ответил за всех Шмуле-Сендер.
— Михаил Давыдович — звезда на небе израилевом. Моисей, ведущий своих подзащитных через дебри российского суда… Уж если взялся за дело, то и Гирша из петли вытащит.
Поначалу старик Эфраим никак не мог сообразить, чем эта новость лучше предыдущей.
— Еще не все потеряно, — утешил Эфраима Юдл Крапивников и неожиданно признался: — И мне иногда, знаете ли, хочется пальнуть… Бывает, граф так доведет, так доведет… Его счастье, что я в него еврейской дробью бью… — он раскатисто рассмеялся. — Мыслью!..
Неужели то, что он бьет в графа Завадского еврейской дробью — мыслью, — и есть третья новость?
— И, наконец, третья новость, — объявил Юдл Крапивников. — Привет тебе от младшенького.
— От Эзры?
Данута опустила глаза, наклонилась, сорвала былинку, сунула в рот и принялась гонять справа налево и слева направо.
— Мы с ним третьего дня у Хесида хорошенько выпили. «Под липами»… А утром он ушел за бурым медведем… Не встретились?
— Нет, — ответил Эфраим, косясь на Дануту.
Прежней злости он к ней не испытывал, только корил себя за то, что неотрывно смотрит на ее волосы, руки, живот.
Чем больше он всматривался, тем отчетливей перед глазами всплывала другая женщина. Она не имела ничего общего с Данутой; у той не было таких синих льдистых глаз, таких рыжих, непристойно растрепанных волос, таких длинных рук с тонкими и белыми, как субботние свечи, пальцами. Но что-то их роднило, объединяло, делало до боли похожими.
— Садитесь к нам, реб Эфраим, — предложил каменотесу Юдл Крапивников. — Мы вас в два счета домчим до Вильно.
— Спасибо, — ответил Эфраим. — Пусть к вам сядет этот молодой человек, — каменотес показал на съежившегося в телеге незнакомца. — Ему ехать дальше всех. До земли обетованной.
— О! — вскричал Юдл Крапивников с восторгом от путника. — Преклоняюсь! Преклоняюсь! — он отвесил «палестинцу» церемонный поклон. — Милости прошу к нашему шалашу! Буду считать себя счастливым, если хоть чем-нибудь смогу помочь заселению нашей исторической родины. Завидую! Завидую!
Юдл Крапивников явно играл на Дануту, желая огорошить ее своей добротой, своим великодушием, своей властью.
— Завидую!
Завидует, мелькнуло у Эфраима, а предпочитает покрывать дворовых девок и заселять Жмудь байстрюками.
Незнакомец без долгих колебаний, но и без особой благодарности перебрался в бричку.
— Данута! — позвал Юдл Крапивников.
Но та не спешила.
Расхаживала по обочине и чего-то ждала.
— Мы отправляемся! — напомнил эконом.
Данута выплюнула былинку и, не говоря ни слова, направилась к телеге.
Шмуле-Сендер и Авнер застыли в изумлении. Еще, чего доброго, попросится к ним, и старик Эфраим разрешит ей. Да и как ей не разрешить, если она ему почти что родня. Невестка! Что с того, что с Эзрой хупу — свадьбу — не справила. Родит ребеночка и справит. Хи-хи. Ха-ха.
Возле старика Эфраима Данута остановилась, оправила на себе платье. Глаза ее больше посинели, и взгляд Эфраима плавал в этой синеве, как послушное ветру облачко.
Господи, пронзила его догадка. Неужели она беременна?
— Здравствуйте, — как и положено невестке, первая поздоровалась Данута.
Старик Эфраим ответил не сразу. Он вытаращился на нее, и взгляд его стал шарить по ее животу сверху донизу.
— Здравствуй, — сухо промолвил он.
— Даиута! — закричал с облучка обеспокоенный Юдл Крапивников. Ну чего ей там понадобилось? Неужели собирается переметнуться к ним? А ведь впереди — Жежмары. Там имеется заведение не хуже, чем у Хесида. Там пареных раков с пивом подают; раки прямо из пруда, а пиво из погреба; выпьешь кружку, и душа поет.
Чем пристальней Эфраим вглядывался в нее, тем больше убеждался в своей правоте — беременна.
Данута улыбнулась ему, и эта улыбка, робкая, печальная, как будто с другого лица, снова напомнила Эфраиму другую женщину.
— Если вы встретите… если вы встретите, — начала было Данута, но слезы мешали ей говорить.
Она вытирала их своими рыжими космами, и космы эти были похожи на сломанное крыло большой залетной птицы.
— Езжайте, — тихо сказал Шмуле-Сендеру Эфраим. — Я догоню вас…
Шмуле-Сендер понял: он не хочет говорить с этой женщиной при свидетелях.
— Вью! Вьо! — щелкнул он кнутом свою гнедую.
Данута прикрыла руками живот и, все еще давясь слезами, сказала:
— Если встретите его, скажите ему, что я дрянь… что и мизинца его не стою…
В мире, казалось, были слышны все звуки: и скрип тележных колес, и предупредительное пощелкиванье кнута, и трель жаворонка, приветствовавшего после долгой разлуки родную землю, и их — Эфраима и Дануты — сердцебиение.
Данута не уходила, стояла и еще чего-то от него ждала; он сконфузился, потупил глаза, увидел свои потрепанные башмаки, свои скрюченные, как коряги, ноги, свои штаны, сшитые из дерюги, и слово «скажите» прозвучало для него, как трель жаворонка, который залился и замолк, и никому уже не отыскать ее в весеннем воздухе — растаяла, растворилась, сгинула.
— Разве я виновата, что родилась полькой… что люблю… — горячо и сбивчиво промолвила Данута, и что-то вдруг зашевелилось в Эфраиме, поползло вверх к горлу, к глазам; чужое страдание растопило обиду, затянуло, засосало, и от этого страданья стало тепло, так тепло, как когда-то, в присутствии другой женщины, имя которой он боялся произнести вслух.
Хватит кормиться злом, уговаривал он себя, хватит делить страдания на свои и чужие, когда ими надо делиться.
— Иди, — сказал он.
— Иду, — отозвалась Данута с дочерней покорностью. Она смотрела на него не моргая, как когда-то, в детстве, стоя в костеле, смотрела на лик Спасителя, от которого можно было отвернуться, но ничего нельзя было скрыть. Ей хотелось еще что-то сказать Эфраиму — может, то, чего никто — ни тетушка Стефания, ни Эзра — от нее не слышал, — но слова осыпались, как колосья.
— Отец! — вдруг вырвалось у нее.
Она бросилась к Эфраиму, схватила за руку и стала целовать.
— Ну что ты… что ты… — промямлил Эфраим.
Ему никто никогда не целовал руки. И он никогда никому не целовал. Было что-то в ее поцелуях обидное, даже унизительное, но Данута продолжала целовать неистово, беспамятливо, как в бреду.
— Данута! — окликнул ее Юдл Крапивников.
Он натянул вожжи, рысак графа Завадского встал на дыбы, бричка развернулась, подпрыгнула и подкатила к Дануте; Юдл Крапивников подхватил ее, как сноп сена, и посадил рядом с собой.
— Прощайте, — выдохнула она.
— Дорогу! Дорогу! — закричал эконом графа Завадского, не оборачиваясь.
В небе над стариком Эфраимом кружил черный, как свежая пахота, грач. Он то снижался, то, что-то выискивая, снова взмывал вверх, и Эфраиму вдруг захотелось стать червяком и накормить собой птицу.
Сгорбившись, разглядывая на большаке следы Дануты, он побрел к телеге.
Только бы ни о чем его не спрашивали, думал Эфраим, пряча целованную руку, как обожженную. Молчи, Шмуле-Сендер! Молчи, Авнер!
Бричка давно растаяла в мареве, но что-то упорно тарахтело в груди Эфраима, и след Дануты тянулся к его сердцу и напоминал чей-то забытый, стертый, засыпанный могильной глиной след, и оттого, что Эфраим его вспомнил, ему стало еще горше, он почувствовал себя еще более одиноким, чем прежде.
Жизнь, думал Эфраим, есть любовь, и в каждом ровно столько жизни, сколько в нем любви.
Его любви — восемьдесят. Но у него ее осталось еще по меньшей мере лет на сорок!
А Гирш? Разве он кого-нибудь любит?
Он любит справедливость.
Но как можно любить справедливость и не любить человека — своего отца, своего брата, своего хозяина?
Эфраим вдруг вспомнил, как бабушка Блюма, бывало, ругала его за то, что он убивал мух.
— Они же над помойкой летают, — оправдывался мальчик Эфраим.
— Это для тебя помойка… Для тебя, а не для них.
— А для них?
— Для них это — леса, луга, Неман… А наш дом… наш двор кажутся им помойкой…
Телега Шмуле-Сендера поскрипывала колесами в необъятной, беспредельной тишине, как водомерка крылышками над ровной озерной гладью. То ли от тишины, то ли от волнения мысли Эфраима укрупнялись, высвечивались, лепились друг к другу.
«Выпивали у Хесида?»
Погубит Эзру водка, погубит.
Почему он, Эфраим, не пьет? Почему другие сыновья — Гирш и Шахна — не пьют?
Он, Эфраим Дудак, за всю жизнь ни разу в корчму Ешуа Манделя не заходил. И до самой смерти не зайдет. Нечего ему там делать. Господь бог суров с евреями, но за одно ему спасибо: трезвостью их не обидел. Скорее встретишь еврея счастливого, чем пьяного.
Как сказал мудрец: водка — виселица. Сам ее возводишь, сам на себе петлю затягиваешь.
Господи, что за век, что за порядки! Каждый день кого-то спасай, вытаскивай из кабака, из тюрьмы, из петли!
Какой же он отец, если дети его не слушаются? Разве не сказано в писании: «Чти отца своего»?
А сам-то он слушался, чтил?
Чтил, слушался.
Один только раз ослушался — в плотогоны не пошел. По чем каменотес хуже плотогона?
У каменотеса своя река — кладбище. Кто-то должен не только плоты по Неману гонять, не только заплаты на зипуны и кафтаны класть или подметки подбивать, но и память сторожить. Рабби Авиэзер так его, Эфраима, и называет: сторож памяти. Что с того, что Ешуа Мандель подтрунивает над ним — тоже мне, мол, богатство — мертвые. А ведь как подумаешь — мертвые и есть наше единственное богатство. Только для такого, как корчмарь Ешуа, кладбище пустыня. Нет! Кладбище — река, лес. А надгробия не пни-обрубки — а деревья. Они не безмолвствуют! Они шумят! Плачут, стонут, ликуют!
Надгробие отцу Иакову шелестит, как плот, а памятный камень на могиле Леи воркует, как горлинка.
Эфраим слышит и этот шелест, и это воркование. У него слух кладбищенской вороны, которая слышит даже, как червяк ползет.
Лошадь Шмуле-Сендера шла усталым, натруженным шагом; Шмуле-Сендер и Авнер сидели молча, словно дали обет, и в этом их молчании тоже было что-то от надгробия.
Старик Эфраим прислушивался к скрипу колес, и с каждым их поворотом на душу наматывалась какая-то тихая, просветленная печаль, которая была сродни пробуждающейся природе.
Чем больше он думал, тем искренней изумлялся тому, сколько разного — доброго и злого, жалкого и возвышенного — вмещает крохотное человечье сердце. Оно и храм, и кладбище, и помойка, и лавка.
Где-то на донышке души копошилось сожаление, что он отпустил Дануту с этим блудливым холуем Юдлом Крапивниковым и как следует не расспросил об Эзре.
Куда он, поскребыш, девался?
Горячая, нескромная, но искренняя исповедь Дануты совсем сбила с толку Эфраима.
Никого в местечке бог не испытывал такими карами, как его. Да что там в местечке — может, во всей Литве и Польше. Один суд над Гиршем чего стоит! А бродяжничество Эзры?.. А позор Церты? Видно, всевышний на небесах время от времени устремляет свой скучающий взгляд на землю и выбирает какого-нибудь Иова. Но он, Эфраим Дудак, не Иов, а простой смертный. Он не был славен ни своими грехами, ни добродетелями. Жил, тесал камни, доил козу, ревностно молился. Почему же выбор пал на него, а не на Маркуса Фрадкина или старшего из братьев Спиваков — Хаима?
Испытав Иова, господь смилостивился над ним, вернул ему и злато, и серебро, и доброе имя, и детей.
Может, и ему вернет?
Не надо Эфраиму ни золота, ни серебра, ни ослов, ни верблюдов, только бы отдали ему детей — Церту и Гирша, Эзру и Шахну. Уж он, Эфраим, сделает так, что они больше никогда не будут стрелять в генерал-губернаторов, бродяжничать и хлестать в придорожных шинках водку, рожать байстрюков и прислуживать власть имущим. Он сунет каждому в руку кирку и лопату и скажет:
— Стерегите память отцов своих и дедов! Стерегите, если хотите, чтобы и о вас память осталась!
Большак раздвоился; его двойник свернул в поле, где ветер ерошил низкорослые озимые.
День был светлый, безоблачный, такой, какой бывает в разгаре весны или перед первым праздником и жизни.
Эфраим щурился, прикрывал глаза рукой, но свет струился сквозь растопыренные пальцы.
— Надо сделать остановку, — после долгого молчания невесело произнес Шмуле-Сендер. — Харчи кончились. Все, что Фейга положила на дорогу, мы съели.
— Лично я могу без харчей, — не дожидаясь ответа Эфраима, прохрипел Авнер.
Голос у него был трескучий, он все время обрывался, как нить; глаза странно сузились, и взгляд его от этого казался пронзительней, чем прежде. Нищий лежал, расстегнув ворот рубахи, голова его упиралась в задок телеги; по морщинистому, высохшему, как кожаный кисет, лбу текла тоненькая скудная струйка; Авнер не смахивал ее, не вытирал — он был занят другим, непривычным и необыкновенно важным делом, которое, как ему казалось, уже нельзя было откладывать ни из-за харчей, ни по какой-нибудь другой причине.
Старик Эфраим смотрел на Авнера во все глаза, догадываясь, чем он занимается, но отказываясь в это верить.
— Что-нибудь придумаем, — сказал он Шмуле-Сендеру. — Господь и червяка под камнем кормит.
Он сгреб на дне телеги сено, подложил под голову Авнеру, которая показалась ему легкой, как одуванчик, без мыслей, без забот; единственная забота, которая еще томила Авнера, передавалась скорее его взглядом, дрожанием воздуха, светом, тишиной, чем словами.
Эфраим нисколько не удивился, когда Авнер тихо, так, чтобы не слышал Шмуле-Сендер, прошептал:
— Всю жизнь меня пугали смертью… А, оказывается, умереть совсем не страшно… Хорошо. Ей-богу, Эфраим, хорошо.
— Глупости!
Телега свернула в местечко.
— Эй, ты, — окликнул Эфраим босоногого мальчугана на околице. — Где тут у вас кладбище?
— У нас три кладбища.
— Еврейское.
— Вон там, — сказал мальчуган и ткнул испачканным пальцем в лесок.
Как ни праведна была лошадь Шмуле-Сендера, но въехать через ворота на кладбище водовоз не решился.
Путешественники расположились на опушке, прилегающей к каменной ограде, за которой из прошлогодней жухлой травы торчали одинаковые, как смерть, надгробия.
Водовоз распряг лошадь, снял хомут, положил на землю: пусть гнедая отдохнет, намаялась, бедняга, за шесть дней пути. Нелегко на свете еврею, но и его лошади не легче, хоть она и о четырех ногах.
— Мне тут нравится, — промолвил Шмуле-Сендер.
Кладбище и впрямь было красивое, заросшее столетними деревьями, на которых вили гнезда не только вороны, но и певчие птицы, услаждавшие слух живых и мертвых.
Как ни пытался развеселить Авнера Эфраим, нищий лежал в телеге мрачный и подавленный. Лицо его, и без того землистого цвета, посерело еще больше; под сузившимися глазами желтели гнойные мешки, начиненные неясной, безжалостной хворью; губы зачерствели, как хлебные корки; в бороде поблескивал грязноватый, не тающий иней; даже проворные, быстрые руки безжизненно повисли, существовали как бы отдельно от него.
Эфраим знал его с малолетства.
Они ходили в один хедер к угрюмому меламеду Танхуму, глухарю и заике, который считал, что мир стоит на трех вещах: на Торе, на труде и на порке.
Авнер частенько передразнивал его, забирался, бывало, на табурет и под визг и хохот учеников выкрикивал, свирепо заикаясь, какой-нибудь стих из Священного писания.
Приходил молодой богатырь Эфраим и в бакалейную лавчонку Абы Розенталя, отца Авнера, за изюмом и корицей.
— Фу-фу-фу-нт и-и-и-зю-ма!.. Фу-фу-фу-нт ко-ко-ри-цы! — дурачился Авнер, счастливый наследник преуспевающего бакалейщика, первый жених в местечке.
Эфраиму хотелось напомнить Авнеру и учителя-заику, и его отца Абу, никогда не пересчитывавшего деньги, и жену Бейле, молодую, красивую, которая утопилась от позора в Немане.
— Фу-фу-фу-нт и-и-и-зю-ма! Фу-фу-фу-нт ко-ко-ри-цы! — выудил он из памяти, желая растормошить Авнера, увидеть его улыбку.
Но Авнер лежал неподвижно, глядя в синее небо, где не было ни одной помарки, как в списке Торы.
Всю жизнь, думал Эфраим, выгружая из телеги свои пожитки, Авнер себя поедом ел, ненавидел, изводил за то, что он не лавочник, не лесоторговец, даже не корчмарь, а нищий. Но разве они, эти лавочники, и эти корчмари, эти лесоторговцы, — не нищие? Разве Шмуле-Сендер и он, старик Эфраим, — не нищие?
Нищие! Весь мир населен нищими! Кто такой Маркус Фрадкин? Или барон Гирш? Или богатей из богатеев Ротшильд? Богатые счастливые нищие, которые за все свои богатства и лишнего денька у господа бога не выпросят. Ни денька, ни часа, ни минуты.
Лошадь подошла к телеге, уткнулась горячей мокрой мордой в Авнера; Авнер вздрогнул, протянул руку, прикоснулся к шершавому бархату.
— Может, тебя к лекарю отвезти? — спросил каменотес.
— Странно, — процедил Авнер, еще раз погладил лошадь по голове. — Жизнь прожил, а никого никогда не погладил. Ни жену. Ни детей.
Лошадь лизала его руку, и Авнер не отдергивал ее, радовался негаданной, запоздалой ласке.
— Зря вы меня тогда из леса вытащили, зря…
— Не зря, — подал голос Шмуле-Сендер, приревновавший к Авнеру лошадь.
— Человек должен кого-то любить… — тянул свое нищий. — И человека должен кто-то любить… лошадь… дерево… собака… птица… Любовь, Эфраим, — это единственное лекарство от смерти… Но я никого… никого… понимаешь…
— Не выдумывай! Любил, любил!.. Отца любил… мать… Бейле… Меня…
Шмуле-Сендер отогнал хворостиной лошадь, но та покружила, покружила по опушке и снова приблизилась к телеге.
— Не прогоняй ее, — попросил Авнер.
— Ладно, ладно, — зачастил водовоз. — Только давай договоримся. Больше о ней ни слова. — Он побоялся назвать смерть по имени. Назовешь, и она прибежит, как кошка. — Вернемся домой, тогда другое дело… Тогда мы вместе… и ты… и я… и Эфраим.
— А как же твой Берл? Как же твои внуки — Джордж и Ева? — выдавил Авнер.
— Они проживут и без меня, — смутился Шмуле-Сендер.
Авнер нашарил в кармане хлебную корку и протянул лошади.
— Для них, считай, я уже все равно умер, — неожиданно расхрабрился Шмуле-Сендер. — Отцы умирают не тогда, когда их в землю зарывают, а когда их оставляют на другом берегу.
Скажет же порой Шмуле-Сендер, подумал Эфраим. Царь Соломон и тот не сказал бы лучше. Не сказал бы потому, что у него никогда не было сыновей ни в Вильно, ни в Америке, потому что его никто никогда не оставлял на другом берегу. Что за страшный удел — стоять на другом берегу и видеть, как твои дети запирают магазин или всходят на виселицу.
Старик Эфраим наказал Шмуле-Сендеру, чтобы тот никуда не отлучался от телеги, не отходил от Авнера ни на шаг, а сам отправился промышлять на кладбище.
А вдруг подвалит удача: подрядится он к какому-нибудь скорбящему гончару или шапочнику, купцу или приказчику, пришедшему на родную могилу, и за гривенник-другой подновит стершиеся на надгробии письмена. В случае надобности он может и новый камень поставить.
Лошадь спокойно бродила на опушке.
Закатав дармовые штаны, Шмуле-Сендер бегал вприпрыжку вокруг гнедой, следя за тем, чтобы она не углубилась в побеленный березами лесок.
Авнер продолжал лежать в прежней позе — лицом к небу, и небо похлестывало его своим веником, — золотыми, собранными в пучок, лучами.
Шмуле-Сендер пригнал лошадь, привязал ее к телеге, прислушался.
— Как ты думаешь, Авнер, заработает Эфраим на харчи или нет? — Водовоз был убежден, что человек жив до тех пор, пока с кем-нибудь говорит. Стоит ему полдня не раскрыть рта, и пиши пропало. — Если бы кто-нибудь умер, тогда другое дело. Эфраим помог бы вырыть яму и засыпать… и даже камень поставить.
Шмуле-Сендер снова прислушался. Кирка Эфраима молчала.
— Кузя, Кузя, — обратился вдруг Шмуле-Сендер к лошади. — А ну-ка подойди, голубушка!.. Ближе, ближе… Вот так!.. Умница!.. Теперь поцелуй его… поцелуй!..
Но гнедой, видно, было не до поцелуев. Она терлась головой о грядку телеги и помахивала куцым, давно не чесанным хвостом.
— Давай споем, Авнер, — не зная, что делать, растерянно предложил Шмуле-Сендер. — Помню, не голос у тебя был, а голосище.
Похвала не взбодрила Авнера. Между тем вконец растерянный Шмуле-Сендер разгладил бороду, широко раззявился, и из его гортани вылетела такая же непритязательная, как он, песня:
- Афн припечек брент а файерл.
- Ун ин штуб из хейс.
- Ун дер ребе лернт мит ди киндерлах
- Дем алеф-бейс…
- (Огонек горит в печке каменной.
- И тепло в избе.
- Учит ребе малышню при пламени.
- Учит «а» и «б»…)
Он пел с чувством, вкладывая в песню свое тревожное недоумение, свою нерастраченную нежность. Господи! Сделай так, чтобы ни ему, ни старику Эфраиму, ни Авнеру больше не пришлось расставаться друг с другом! Хватит на их век разлук! Все, что жизнь могла, она уже отняла у них, пусть же теперь оставит им немного, совсем немного — право умереть дома, где и смерть награда.
Авнер смотрел на певца, на его лошадь, на небо, всасываясь в его голубую избавительную трясину.
— Иногда мне, Авнер, хочется умереть, — на мотив песни сказал Шмуле-Сендер. — Но мало ли чего хочется? Когда я был маленький, мне, например, хотелось жить за облаками… вместе с ангелами и херувимами. Там чисто… просторно… не то что в нашей хате… У отца моего было тринадцать ртов… семь дочек и шестеро сыновей. Я родился последним. Рабби Ури, перебрав имена всех наших покойных родственников, назвал меня в шутку Генуг. Генуг — хватит. Помнишь, Авнер, как ты дразнил меня: «Генуг, Генуг, ду бинст а нар, вен але зайнен клуг!» («Хватит, Хватит, все умные, только ты один дурак!») Помнишь?
Шмуле-Сендер поглядывал по сторонам, не идет ли Эфраим. Что он, Шмуле-Сендер, будет делать, если нищий и впрямь вздумает испустить дух?
Мысль о том, что мертвый Авнер будет лежать в его одежде, привела его в еще большее смущение.
— Помнишь? — теребил он Авнера, но тот ничего не желал вспоминать.
Тогда Шмуле-Сендер решил прибегнуть к последнему средству.
— А как ты с нас семь шкур драл, помнишь?
— Что ты, дурак, городишь? — прохрипел нищий.
Он приподнялся, ухватился за грядку телеги, хотел было встать, но голова потянула его назад; он рухнул на солому, и страх, липкий, потный страх овладел не только Шмуле-Сендером, но даже лошадью, которая ни с того ни с сего стала рваться с привязи и бить копытами.
— Не сердись, — пробормотал водовоз. — Это я просто так… Не хочу, чтобы ты молчал… Прошу тебя!.. И она… моя гнедая… просит… Проси, Кузя, проси, — обратился он к лошади.
Гнедая втянула воздух в розовые, как ракушки, ноздри, зафыркала, замотала гривой.
— Видишь — просит…
Шмуле-Сендер не слышал самого себя; ему было неважно, что говорить, лишь бы говорить.
Авнер впал в беспамятство.
Иногда он приходил в себя, открывал глаза, пялился на небо, по которому, дымя высокой трубой, плыл из Алжира или Марокко в Мишкине большой белый пароход, груженный изюмом и корицей.
— Пить, — пробормотал нищий.
Шмуле-Сендер отвязал ведерко, из которого поил свою лошадь, и в дареных штиблетах зашагал к серебристой змейке, петлявшей по опушке.






