Козлёнок за два гроша Канович Григорий
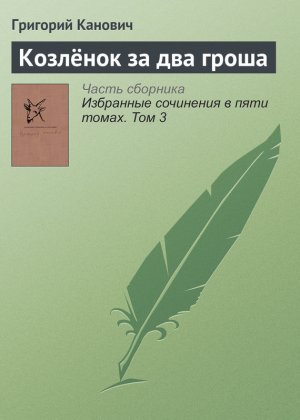
Двойре Эфраим жалел, и жалость его была такой же сильной, как любовь, а может, еще сильней.
Она лежит рядом с отцом-шорником Меиром. Эфраим его и сейчас побаивается.
— Ты ее со свету сжил, бугай! Замучил бедняжку! Вечером залезал на нее и перед утренней молитвой слезал, паскудник!
Да не мучил он ее, не мучил. Двойре сама просила. Восемь лет бесплодной была, как пустырь за синагогой, но он, Эфраим, орошал его и дождался урожая — Гирша.
Язык трав, язык ночи, язык мертвых — как он ему, Эфраиму, близок и понятен! Можно законопатить уши, но сердце, сердце от мира не отгородишь. Ибо сказано: зверь слушает ушами, а человек — сердцем. Сердце Эфраима почти на восемьдесят лет моложе его ушей.
Как он скажет Двойре про Гирша?
Нет, она от него ничего не узнает. Ничего. Пусть мертвая думает, что сыну ее повезло, что женился он на дочери почтенного рабби Авиэзера, получил за ней богатое приданое — деньги и двухэтажный дом. Дом Гирш продал, купил шифскарту и на белом пароходе с черной трубой отправился в Америку или в Палестину. Лучше — в Палестину. Тесть Эфраима шорник Меир всю жизнь бредил землей обетованной, собирался туда каждое лето, но так и не выбрался.
— Кому там твои подпруги нужны? Кто хомуты твои покупать там будет? Там одни верблюды, — уверяли его местечковые евреи.
— Помяните мое слово! — шумел Меир. — Мы их всех засупоним — и турков, и арабов. Засупоним!
Смерть засупонила его раньше, чем евреи турок. А через два года приказала долго жить и его единственная дочь — Двойре.
Прощай, Двойре, шепчет Эфраим. Может, больше никогда не увидимся. Не поминай лихом. Ты была хорошей женой. Только выйти бы тебе за другого. Нет, нет, не надо мне твоего прощения. Не надо. Молод был… глуп… ненасытен…
Он трогает рукой шершавый могильный камень.
И сердце его, которое моложе ушей на восемьдесят лет, слышит не шорох кладбищенской травы, не ворчливый голос Двойре, а радостный, почти ликующий звук скрипки.
— А знаешь, Двойре, как мы справляли совершеннолетие нашего Гиршки? Как рабби Авиэзер играл на скрипке, а дочь его Нехама в длинном платье и белом кружевном чепце ходила по нашему дому и рассыпала леденцы. «Чтоб в этом доме никогда углы не пустовали! Чтоб не пустовали!», приговаривала она. Я принес тебе, Двойре, один леденец. Столько лет хранил… Он весь в крошках табака, но сладкий… Сладкий, как наша молодость… Вот… Попробуй.
Старик Эфраим нашаривает в кармане какой-то катыш и кладет на могилу.
— «Чтобы никогда не пустовали углы в доме»… в твоем доме, Двойре. Нету там света, но и горя нету.
Эфраим гладит надпись на камне.
— «Двойре Дудак… Прими, господь, ее в свои объятия»… «у» совсем стерлось… Если я вернусь из Вильно, я выдолблю это «у».
Эфраим стоит в странном оцепенении у могилы. Надо постоять. Надо. Ведь Двойре из всех его жен самая несчастливая, потому что… Он даже боится об этом подумать. А вдруг все еще обойдется… каторга обойдется… Дед Шимен говорил: что загадаешь на кладбище, то и сбудется. Давай, Двойре, загадаем с тобой не виселицу, а Сибирь.
— Сибирь, Сибирь, Сибирь, — заклинает тьму Эфраим. Раньше он никогда ничего на кладбище не загадывал. А вдруг его желание сбудется? Ах, если бы сбылось! Кладбищенские духи услышат его мольбу, полетят в Вильно, судьи отменят смертный приговор Гиршу. Гирш всю жизнь искал справедливости, а он, Эфраим, сегодня ее нашел. Вот она! Вот! Кладбище — мир справедливости. Ни тебе бунтов, ни погромов, ни вешателей, ни повешенных. Никто не старается урвать лишний куш, набить свой живот, драть с другого семь шкур. Надо научиться жить, как на кладбище. Как только научишься — сразу же исчезнут обиженные и недовольные, потому что все будет как в жизни, но только без жизни.
Эфраим вдруг спохватывается, что думает о чем угодно, только не о завтрашней поездке. Думай, не думай — ничего нового не придумаешь. Выйдет из дому, сядет в телегу Шмуле-Сендера и, как поется в песне, вьо, вьо, ферделех, вьо, вьо, одлерлех (вьо, вьо, лошадушки, вьо, вьо, орлики), ин штуб из кейн грошн нито (в избе и гроша нет), ша, ша, зорг зих нит, ша, ша, бор зих нит (ша-ша, не кручинься, ша-ша, не горюй), а гот ни гимл ис до (есть еще бог на небесах).
Где ты, отец небесный?
Эфраим вскидывает голову, тяжелую, как жернов, и снова видит ту же самую звезду, что светила в окна избы, только теперь звезда сияет еще ярче, и от этого сияния у Эфраима легчает на душе. Он уже почти не сомневается, что это и впрямь лучистое око любимицы Леи. Разве звезды — это не глаза мертвых, которыми они после своей смерти следят за живыми.
Лучистое око Леи!
Свети, следи!
Не каждому мертвому выпадает такая честь — следить за живыми, думает Эфраим.
Такой дар дается только тем, у кого за всю жизнь не было ни одной дурной мысли, ибо дурные мысли туманят глаза, портят их, как бельмо.
Вот и могила Леи, его любимой третьей жены, матери Церты и Эзры.
Лее нельзя врать, как Двойре. С ней нельзя ловчить, как с Гинде.
Все в местечке привыкли, что с Леей Эфраим на кладбище разговаривает не в мыслях, а вслух. А иногда — какое кощунство! — что-то ей, мертвой, поет. Рабби Авиэзер запретил ему петь на кладбище. Грех, сказал рабби, грех, даже если в песнях печаль. Но Эфраим никакого греха в пенни не видит. Лея очень любит, когда он поет. — «Чем я хуже вороны? — спросил Эфраим у рабби Авиэзера, — Если бог разрешил ей каркать над могилами, почему бы ему не позволить мне над ними петь?»
И камень на могиле Леи не простой, а особенный. Пусть не из мрамора, как у Тевье Фрадкина, отца лесоторговца Маркуса, но другого такого на кладбище нет.
Эфраим привез его из Тильзита.
Тогда еще Двойре была жива.
Прослышали тильзитские евреи про каменотеса-искусника и послали к нему своего человека, чтобы уговорил Эфраима старые надгробия на тамошнем кладбище подновить и при надобности новые поставить.
Подрядился Эфраим на все лето, работал с утра до ночи, один, без помощников, если не считать тильзитского дурачка Мозеса, который целыми днями пропадал на кладбище и громко, как указы, читал надписи на надгробиях, присваивая мертвым германским евреям звания курфюрстов и баронов.
По пятницам Эфраим переправлялся через Неман в Литву, ходил в синагогу, а в воскресенье, помывшись в бане, возвращался с новыми силами назад.
Тильзитские евреи заплатили ему русскими рублями (откуда только они у них взялись?), а в придачу подарили удивительный, светящийся в темноте камень со странным и звучным названием лабрадор. Дали они Эфраиму и повозку, чтобы он мог перевезти камень в Мишкине, и даже лошадь ему оставили. Правда, лошадь через полгода пала, а камень остался у Эфраима навсегда.
Эфраим вез его из Тильзита, то и дело оглядывался и любовно окликал, как собаку:
— Лабрадор. Лабрадор.
Лет двадцать пролежал камень в доме Эфраима. Хотели его купить братья Спиваки, но Эфраим не уступил. Пусть лежит. Пригодится. Деньги что: проел — и нет их, а камень, камень в рот не отправишь.
— Продай его, — настаивала Двойре. — Он еще в наш дом костлявую приманит.
Двойре будто в воду глядела.
Драгоценный германский камень едва не достался малолетнему Гиршу, у которого была странная привычка заглядывать в погреба, ямы, колодцы. Что он там искал, откуда у него такое пагубное любопытство, никто не знал. Тянет мальца бездна, и все.
После того как Гирша вытащили из обледенелого колодца во дворе корчмаря Ешуа, мальчик захворал воспалением легких, и всем казалось, что чудо-камень лабрадор перекочует из дома Эфраима на кладбище. Тем более что россиенский доктор Зайончик, не бравший ни копейки за лечение тех, кто, по его мнению, вот-вот умрет, отказался от полтинника.
Но то ли Зайончик ошибся в своем предположении, то ли сорванец в последнюю минуту раздумал заглядывать в ту яму, из которой нет возврата, Гирш выжил.
Видит бог, думает Эфраим, умри тогда Гирш, отдал бы юнцу камень. Детям — живым и мертвым — надо отдавать лучшее, что у тебя есть.
А сейчас? Сейчас бы отдал?
Отдал бы. Не за то, что тот стрелял в губернатора, а за то, что ничего светлого в жизни не видел.
Понимаешь, Лея, бормочет Эфраим, прикасаясь щетиной к лабрадоровому камню. Гирш стрелял в губернатора. В наше время, когда мы были молоды, мы ни в кого не стреляли. Бабушка Блюма за убитую муху меня выпорола. «А ну-ка, подставляй задницу! Ну-ка! Сейчас она у тебя, негодник, запылает, как закат над мишкинским лесом!» Что же, Лея, стряслось на свете? Сейчас и человека можно, как муху… Поймал… отодрал ножки… свернул голову… выбросил в помойное ведро… Человека нельзя убивать… ни губернатора, ни сапожника… пусть себе жужжит… пусть без опаски расправляет свои мушиные крылышки… Господи, какие у тебя, Лея, сегодня холодные щеки!.. Что ты сказала? Моя борода колется?
Эфраим облизывает пересохшие губы, сглатывает кишащие в гортани слова, и они, как рыбки, до смерти напуганные щукой, ныряют под корягу кадыка, ждут, когда щука проплывет мимо.
Мне восемьдесят. Представляешь, Лея, восемьдесят. Восемьдесят лет они проплывали мимо… коснутся, бывало, плавниками и — мимо… Жизнь — мимо… Смерть — мимо… Все, Лея, мимо…
Эфраим поднимает голову, снова пялится на звезду, затерявшуюся среди сияющих созвездий.
Как ты думаешь, Лея? Может, мне не ехать?
Может, все это только блажь: и дорога, и Шмуле-Сендер с Авнером, напросившимся в попутчики, и сын Гирш?
Лучше бы он стрелял в меня, чем в этого вельможу.
Стрельнул бы разок, и лежал бы я, Эфраим бен Иаков Дудак, на родном кладбище вместе с тобой… любимой женой Леей… рядом с Двойре и Гинде — другими моими женами, да будет им земля пухом. Господи, как долго, как безжалостно долго стреляют в нас наши дети и вместо того, чтобы уложить разом, одним выстрелом, палят годами.
Вдалеке, в ночном, заливается ржанием чья-то лошадь.
Почему ничего не рассказываю об Эзре, о Церте?.. Сейчас, сейчас… Только лошадь замолкнет… Не знаю почему, но когда в сумраке ржет лошадь, мне кажется, что нет на свете большей печали, чем ее печаль… меня всего выворачивает наизнанку, как будто я и перед ней провинился… перед ней и перед мухой… и перед травой, которую топчу… Ты спрашиваешь про Церту… Пишет, пишет. Сегодня тоже письмо получил. Ездил за ним со Шмуле-Сендером в Мишкине… Дома оно… Приеду, прочту… Ничего нового. Не вру… Тебе я всегда говорю правду, потому что ты сильней ее. Человек должен быть сильней правды, чтобы устоять, чтобы не наложить на себя руки… Глупости, конечно, глупости…
Небо на востоке светлеет, будто разбавили его сметаной. Из-за мишкинского леса скоро выкатит тележное колесо солнца. Еще в детстве Эфраим слышал, что отвалилось это колесо от колесницы Ильи-пророка и до сих пор догоняет ее. Не так ли он, Эфраим, пытается догнать своих детей? Он и по ночам их догоняет, у него, как у солнца, роздыху нет.
Эфраим не спешит уходить с кладбища. Странно, но в последнее время он нигде себя не чувствует так хорошо, как в каменном окружении своих одногодков и жен. Их догонять не надо: они рядом, вот, только шаг шагни, и ты с ними.
Мог бы в Вильно не ехать, думает Эфраим, направляясь к кладбищенским воротам. Гиршу на него наплевать. Гирш даже перед смертью не вспомнит о нем. Господи, что они вообще вспоминают перед смертью? Что?
Если у него перед смертью останется хоть одна минутка, если он не повредится в рассудке, а будет в полном уме, то вспомнит не своих сыновей, не дочь Церту, не Гинде, не Двойре и даже не любимицу Лею, а отца с матерью и, может, в первую очередь отца — плотогона Иакова Дудака. Вспомнит, как отец взял его однажды с собой на плот, подозвал к себе, налег вместе с ним на багор, выгреб на стремнину, потом отошел в сторонку; течение подхватило плот и понесло с такой скоростью, что, казалось, он вот-вот опрокинется и они полетят в бездну; сердце стало вдруг огромным, куда больше, чем грудная клетка, глаза увеличились до размеров проруби, полыньи, озера, и в них, в эти глаза, хлынули прибрежные ракиты, изъеденные водой кручи, бревенчатый домишко на пригорке, точь-в-точь такой, как их, Дудаков, дом, белая козочка, щиплющая траву на зеленой, казавшейся водной гладью, лужайке, и отец на фоне козочки и травы — спокойный, широкоплечий, стоящий к нему спиной; он вспомнит, как изо всех сил сжимал ручонками багор и сдавленный крик ужаса и восторга теснил дыхание, просился, чтобы его исторгли, жаждал слияния с этими брызгами, с этим бешеным полетом обыкновенных, собранных в одну связку бревен, но Эфраим не дал этому крику вырваться наружу, чтобы не осрамиться перед отцом, не прослыть трусом, недостойным его доверия.
То был неповторимый миг, отделявший жизнь от смерти, но делавший ее, эту смерть, сладостной и прекрасной. Обе владычицы природы сошлись в тот день в равном и захватывающем поединке, который длится вот уже восемьдесят лет.
Славна жизнь, равно как и смерть славна, думает Эфраим.
Но не такая, как у Гирша.
Бесславны те, кто сколачивает виселицу, но недостоин славы и тот, кто думает добиться ее не топором плотника, а с помощью секиры палача. Прав рабби Авиэзер, сказавший сии слова. Лучше мысль — пуля, чем пуля вместо мысли…
Что за время, что за страшное время, думает Эфраим: все меньше мыслей, все больше пуль, все наглее юнцы, все беспомощнее старцы. Прав рабби Авиэзер. Тысячу раз прав.
Только бы он не отказался приютить козу. Пусть его Нехама за ней поухаживает. Авось случится чудо. Нет, не с Гиршем, не с Нехамой, не с козой, а с Эзрой. Вдруг опомнится, шалопут, бросит свои скитания, вернется на родину и обвенчается с дочерью рабби.
Четверо детей в доме, сетует Эфраим, и ни один свадьбы не справил.
Шахна, тот, видать, бобылем и помрет.
Эзра! На кой ляд ему свадьба? Увидит юбку и лезет под нее, как под священный балдахин.
Церта! Цертеню! Свою свадьбу в чистом поле сыграла — с ветром-мехутеном (сватом) и луной-мехутенестой (свахой).
Гирш, по слухам, женат, но Эфраим готов поклясться, что и у того свадьбы не было.
Эфраим останавливается, моет, уходя с кладбища, руки и ныряет в темноту.
Авнер во сне торгует изюмом и корицей, наперебой предлагает свои дешевые колониальные товары.
Господи, что у него за башмаки, — Эфраим накрывает его тщедушное тело старым поношенным пальто — дыра на дыре. И как только он не простужается?
Если в Вильно ему повезет, если он, Эфраим, встретится с Шахной, то купит Авнеру новые ботинки.
— Засунь свои ботинки в одно место, — скажет Авнер.
Гордец! Бакалейщик! Внук фактора!
— Я с вас сорок лет тому назад семь шкур драл! — скажет Авнер. — А ты мне ботинки!..
Но Эфраим их все равно ему всучит. Пусть еще полсвета обойдет. Ну не полсвета — пол-Литвы и пол-Польши.
— Двенадцать копеек, — бормочет во сне Авнер, — да не крутите мне голову, я за имбирь считал… считал… и за марципаны считал… счи…
Эфраим, не раздеваясь, ложится в постель.
Сколько еще до рассвета? Может, удастся малость вздремнуть. Дорога дальняя. До первого ночлега верст сорок.
Что это?
Эфраим принюхивается.
Из открытой лавки Авнера, где идет бойкая торговля, струится запах марципана, запах имбиря.
Эфраим закрывает глаза.
В постель забирается Церта. У нее полон рот изюма.
Залезает поскребыш Эзра.
Оба теребят его бороду.
— У тебя там, как в лесу, ягоды растут! — кричит Эзра.
Дети… Мои дети, стонет Эфраим.
Он всегда перед сном шепчет эти слова.
Слова! Слова! Что бы человек без них на белом свете делал? Ими не насытишься, на них не обопрешься, но в них можно уткнуться, как в подушку.
Вон их сколько у Эфраима — целая гора!
Эта подушка — из слов Леи, эта перина из слов матери, молоденькой Хены Ковальской, эта подушка отца плотогона Иакова, а эта с вышивкой — деда Шимена и бабки Блюмы.
Эфраим покачивается на них, как на облаках. Слова выпирают из-под наволочек, кружатся, как перья, заметают его с ног до головы, залепляют глаза, рот, уши, и сон быстрее, чем лошадь Шмуле-Сендера, уносит его отсюда, из этого дома, из которого вымели его, Эфраима, молодость, его лучшие годы жизни, а оставили только сор и ветошь воспоминаний.
Сон уносит его в Вильно, где на табурете, под виселицей, стоит с непокрытой головой его средний сын Гирш и смотрит на болтающуюся в воздухе петлю — ощипанный венок своей предсмертной славы.
Эфраим плачет во сне.
Он плачет все громче, и Авнер вынужден закрыть свою бакалейную лавочку, прекратить торговлю.
— Идите! — говорит он своим покупателям. — Идите! Разве вы не слышите: человек плачет… Я не могу торговать, когда кто-то рядом плачет.
Авнер просыпается, тормошит Эфраима, но тот не слышит, продолжает рыдать. Виселица плывет в слезах, как вырванное с корнем дерево в половодье по Неману.
Тело каменотеса подрагивает от рыданий, как мостовая, когда по ней катит какая-нибудь груженая крестьянская телега.
Эфраим продирает глаза, впивается осоловелым взглядом в Авнера, трет кулаком тяжелые, красные, как гусиные лапки, веки и удивленно спрашивает:
— Кто плачет?
— Ты, — отвечает Авнер.
— Не может быть. Эфраим Дудак никогда не плачет — ни во сне, ни наяву. Скажи, ты когда-нибудь видел хоть одну мою слезу?
Авнер чешет в затылке:
— Попробуй на старости одну слезу увидь!.. Но ты плакал. Ей-богу, плакал. Все люди плачут. Разве ты, Эфраим, не человек?
— Не знаю, — отвечает Эфраим, и брови Авнера собираются на переносице в мохнатый восклицательный знак.
— Если не человек, то кто же?
— Не знаю… Не знаю, Авнер… И ты не знаешь… и Гирш не знает… и губернатор… и даже рабби Авиэзер…
Эфраим выходит во двор, отвязывает от колышка козу, гладит ее по шерсти, выдирает из нее колючки, коза ласково мекает, и это меканье — такая же неотвратимая мета утра, как и восход солнца. Кажется, бесхитростное козье «ме-ме» всходит не только над домом Эфраима, но и над дремучим мишкинским лесом, над большаком в Россиены и над всей землей.
Рабби живет на самой окраине местечка.
Эфраим ведет по местечку козу, за козой семенит Авнер с мохнатым восклицательным знаком на переносице. Вокруг ни души. Все еще спят, бог еще не отделил свет от тьмы, а если и отделил, то не ножом, а ногтем. Через какие-нибудь полчаса всемогущий создаст скотину — пестрое местечковое стадо — и гадов — крикливых лягушек в затянутом ряской пруду напротив синагоги.
— А я знаю… Я — человек, — кипятится Авнер.
— А я еще им ни разу не был… В молодости был петухом… щеголял своим гребешком… позвякивал шпорами и, нацеловавшись с Гинде, кукарекал от счастья. Был собакой… ползал вместе с первенцем на четвереньках… был вьючным ослом… Человек — зверинец. В нем все звери живут… И лев, и хорек, и…
— Ну что это сегодня с тобой? — стыдит его Авнер и мелко, как ножницами, стрижет ногами расстояние. — Человек не лес, а дом.
— Недостроенный… Какая-нибудь щель все равно остается.
— Ну и что?
— Как ну и что? Звери через нее и пробираются… Взять Гирша… какой зверь в него пролез?
Окна дома, где живет рабби Авиэзер, закрыты ставнями. Но к мудрейшему из мудрых можно пожаловать среди ночи, и он не обидится, откроет дверь. Рабби Авиэзер не спрашивает: «Который час?» Он всегда спрашивает: «Чем я могу помочь?»
В доме рабби всего полно: и фарфоровые чашки, и серебряные ложечки, и подсвечники, и большой комод из красного дерева, и ковер с изображением Юдифи, поражающей Олоферна, вытканный на какой-то ткацкой фабрике в Австрии (рабби Авиэзер родом из Граца), а часов нет. Никаких — ни ручных, ни стенных, ни напольных. Дочь рабби Авиэзера бегает в соседнюю лавку узнавать время.
— Что такое время? — говорит рабби Авиэзер. — Печаль, и только. Какая мне разница — полдень ли печали или вечер печали? Печаль, и только.
Эфраим и Авнер не станут будить почтенного рабби. Подождут. Посидят на травке за домом, послушают, как в пруду напротив синагоги квакают лягушки. По утрам они квакают так, что душа в ответ отзывается какой-то непонятной благодарностью.
Если рабби Авиэзер откажется приютить козу, ничего другого не останется, как просить водовозову жену Фейгу.
Может, все-таки взять ее с собой в дорогу? Привязать к телеге, и пусть плетется за ней аж до Ерушалаима да Лита — литовского Иерусалима.
Коза понимает не меньше, чем рабби Авиэзер, чем все эти виленские судьи. Понимает потому, что у нее, как и у Эфраима, столько лет отнимали самое дорогое — ее детенышей, ее козляток. А тот, у кого каждый год отнимают самое дорогое, никогда — посули ему хоть златые горы — никогда не лишит тебя ни сына, ни дочери, как бы они ни были виноваты.
Коза-пророчица, коза-мученица щиплет весеннюю травку, Эфраим и Авнер, борясь с дремотой, поглядывают на закрытые окна дома рабби Авиэзера и ждут, когда тучная, раздобревшая от домашних пирогов Нехама, та самая Нехама, из улья которой никто не вынимал еще сотов, выскочит из дому на босу ногу в шерстяной кофте матери и примется в сердцах, со стукотней и треском, открывать железные ставни, которыми, как она считала, закрывали не дом на ночь, а саму ночь с ее соблазнами, ночь, так и не ставшую для нее брачной.
— Хорошо-то как! — говорит, потягиваясь, Авнер.
— Хорошо, — вторит ему Эфраим.
— Это страшно, но даже сума нищего не портит всего этого.
— Чего — этого?
— Этой вот красоты… — И Авнер обводит рукой полукруг в воздухе, и мир как бы вкладывает в его ладонь свою щедрую милостыню — это голубое небо, эту, уже нескромную, майскую зелень, этот простор, утыканный деревьями, как подсвечник свечами, каждое дерево в отдалении и впрямь светится, как свеча, и свет его вместе с истошным кваканьем лягушек, со скрипом отворяемых ставен, с первыми руладами птиц проникает в душу Авнера, и вот уже она, эта душа, этот облетевший с дерева листок, на миг воспаряет в бескрайнее небо.
— Ты опять привел свою козу? — ужасается рабби Авиэзер, застегивая свой черный, на мягкой шелковой подкладке, жилет. Пуговицы трещат у него в руках, как орехи под щипцами.
— Пусть ваша Нехама, да пошлет ей бог богатого жениха, немного присмотрит за ней… покуда вернусь из Вильно. И покуда она не подохнет.
— Нехама?
— Коза.
— Коза, — повторяет рабби Авиэзер и, обессиленный борьбой с неподатливыми пуговицами, приходит в еще больший ужас.
Эфраим объясняет мудрейшему из мудрых свою просьбу. Рабби Авиэзер слушает его не перебивая; пуговицы, слава богу, застегнуты, а когда они застегнуты, в божьем мире воцаряется лад и порядок.
— Как там сказано в писании: и взял Авраам сына своего Исаака, — говорит Эфраим, подразумевая под Авраамом себя, а под Исааком — Гирша.
Нищий Авнер беседует с Нехамой на крыльце. Нехаме интересно с ним. Никто в местечке столько не знает, сколько нищий. Только вот беда: и вести у него какие-то нищие. Но когда других вестей нет, то и нищая весть по сердцу. От нищих вестей хоть голова не пухнет, хоть душа не болит.
Во всех своих бедах Нехама винит отца, рабби Авиэзера, затащил ее в такую дыру, в такую глухомань; это она из-за него осталась в девках. Чего, спрашивается, попер сюда, не в Гродно, не в Барановичи, не в Шавли. Если на свете есть священные города, как Вильно, как Иерусалим, то должны быть — просто не могут не быть — города женихов… Что стоило отцу выбрать такой город? Тогда бы Нехама потучнела не от пирогов. Тогда зря не сохли бы ее соты.
— Поезжай в Палестину, — предложил ей рабби Авиэзер. — Там еврейские невесты на вес золота!
Но Нехама только фыркнула в ответ.
Так и застряли они в местечке, хотя почтенный рабби Авиэзер и бредил иудейскими горами, могилой прародительницы Рахиль в Вифлееме и даже раскаленной пустыней Негев. И впрямь — что ему в стране праотцев без Нехамы делать? Молиться? Молиться можно и в этом захолустье. Молитва того, кто ничего не обрел, жарче, чем того, кто достиг вершины.
Чувствуя свою вину перед Нехамой, рабби Авиэзер во всем старался помочь ей и со временем он как бы поменялся с дочерью местами — стирал, мыл, латал, вязал. Жена его Хана страдала неизлечимой болезнью — ничего не помнила, даже своего имени.
Нехама вместо отца давала советы, сыпала изречениями из торы, отпускала грехи, устанавливала, кошерна ли курица, которая проглотила иголку, могла даже сказать, чья она — портного Зиси-Янкеля или сапожника Вульфа-Ирмы.
В местечке все делали вид, будто рабби Авиэзер — это рабби Авиэзер, а Нехама — это Нехама. И не дай бог, если кто-нибудь имел неосторожность их перепутать. Рабби Авиэзер надувался, как индюк, лицо его пятнила багряная обида, голос делался почти визгливым.
— Вы к кому пришли? Ко мне или к Нехаме? — кричал он в такие минуты.
По правде говоря, пастве было все равно, кто из них пастырь, а кто кухарка. Местечковые евреи доподлинно знали, что та похлебка, которую им приходится каждый день хлебать, варится не на кухне рабби Авиэзера, а на небе. Сколько господь насыплет соли, столько и будет.
— Бог сына твоего приносит в жертву, а не тебя, Эфраим, — печально говорит рабби Авиэзер.
— Ох, — вздыхает Авнер.
Что за народ?! — думает Нехама. Целыми днями вздыхают или умничают — тачают ли они сапоги, мостят ли улицы, побираются ли, рождаются ли или умирают, идут ли к венцу или на дыбу. Вздыхают оттого, что скучно им в этом мире, а мудрствуют оттого, что пытаются своим умом выжечь просеку в дремучем бору ненависти, шумящей над ними день и ночь, день и ночь.
Слух об убийце генерал-губернатора — так в газетах называли молодого еврея — дошел до рабби Авиэзера и Нехамы раньше, но они никак не могли взять в толк, что этот преступник — их земляк Гирш Дудак, тот самый маленький мальчик, который в незапамятные времена выбил у них из рогатки стекло, тот самый мальчик, за которым Нехама гонялась по всему местечку аж до Немана, тот самый, которого она загнала в воду и который, не желая попасться, пустился вплавь на другой, германский, берег. Напуганная тем, что сорванец может утонуть, Нехама заорала во всю глотку:
— Плыви назад! Назад! Никто тебя не тронет! Хочешь, выбей остальные три стекла! Назад!
Но Гирш Дудак, видно, уже тогда плыл к своей гибели.
— Нет, рабби, это меня бог приносит в жертву, — цедит Эфраим. — Меня.
— Жертва тот, кто на костре, а не тот, кто около костра. Ты — около.
— Нет. Я — не около… я — на огне… Разве вы не слышите запах паленого мяса?
— Он всю ночь не спал, — бубнит Авнер.
— А ты помолчи! Разве жертва тот, кого сжигают, а не тот, кто остается с выжженным сердцем и кучей пепла в руках?
Нехама ставит на стол самовар, фарфоровые чашки, привезенные из Вены, города женихов, нарезанный тонкими ломтями сыр, мед в деревянной миске.
— Садитесь, — говорит она. — Самовар вскипел.
Нищего Авиера дважды просить не надо. Он садится за стол первым. Дрянное это, конечно, дело — костер, виселица, но ни один костер, ни одна виселица, ни одни похороны не отучили человека от еды. Желудок — хозяин человека. Желудок.
— У всех у нас, Эфраим, в горсти пепел, — говорит Нехама и косится на нетерпеливого Авиера.
— И я говорю — у всех, — поддакивает рабби Авиэзер.
Лучше бы он, Гирш Дудак, женился на мне, думает Нехама, я нарожала бы ему столько детей, сколько бы он захотел, мы бы уехали с ним в Америку, подальше от генерал-губернаторов, от огня и пепла. И если бы у него и там чесались руки, он бы мог каждый день стрелять в меня, я бы его к смерти не приговаривала, я бы его, даже мертвая, даже изрешеченная пулями, любила…
— Назад, назад, — бормочет Нехама.
— Ты о чем, доченька, — рабби Авиэзер пуще смерти боится, как бы Нехама не унаследовала болезнь Ханы, ее матери. А вдруг она, как Хана, все на свете забудет.
— Ни о чем, отец, ни о чем… Я просто подумала, что наше будущее в прошлом… Мама! Тебе налить? — обращается Нехама к раввинше, вяжущей в углу из толстой овечьей шерсти мужской носок.
Хана не отвечает.
Слышно только, как шелестят в наступившей тишине спицы. Так шелестит в луговой траве жук.
— Ханеле, — ласковыми словами тормошит жену рабби Авиэзер.
Жук беспамятства никак не может встать на ноги и уползти.
Нищий Авнер отламывает кусочек сыра и воровато заталкивает в жадный, несостарившийся рот.
Господи, как же так, думает он, забыть все. О, если бы ему даровали такую неслыханную милость — забыть пожар, забыть свою бакалейную лавочку, своего деда, фактора наполеоновской армии, свою нищенскую суму. Может, жук беспамятства переползет к нему за пазуху?
— Мужайся, Эфраим, — говорит рабби Авиэзер, когда они все усаживаются за стол.
— Мне бы только козу пристроить, — храбрится Эфраим.
— Присмотрим мы за твоей козой. Присмотрим, — обещает рабби Авиэзер.
Он наливает себе из самовара кипятка, красит его крепкой заваркой из чайничка, подносит чашку к бескровным, когда-то чувственным губам, и вместе с кипятком внутрь, в желудок, проникает еще какое-то тепло — то ли от неостывшего пепла, который у всех в руках, то ли от далекого костра, на котором будет принесен в жертву маленький мальчик с рогаткой — Гирш, то ли от песка Синайской пустыни, который почтенный рабби всегда чувствует под своей ступней.
В углу монотонно шуршит жук беспамятства.
Сколько лет Хана вяжет свой носок?
Тридцать, наверно.
Нехаме, кажется, шестой годик шел, когда они сюда приехали.
С тех пор Хана орудует спицами. Вяжет и распускает. Вяжет и распускает.
— Спицы, Эфраим, простые спицы тоже могут быть виселицей… Тридцать четыре года… она нас вздергивает… каждый день… с утра до вечера…
— Пей! — говорит Нехама. — Чай остынет.
— Я пью, доченька, пью… Мы все должны верить в чудо, — говорит рабби Авиэзер.
— В какое чудо? — спрашивает Авнер.
— Гирша могут еще помиловать… И Хана, моя жена, ее мать, — рабби Авиэзер поворачивается к дочери, — может еще отложить вязанье, сесть с нами за стол и выпить чашку чая…
— А Нехама — выйти замуж… — шепчет растроганный Эфраим.
— За козла, — язвит дочь рабби.
— А что? — уплетая сыр, вставляет Авнер. — А что? Дай бог каждому жениху такую невесту. Эх, Нехама! Будь я на сорок несчастий моложе, я бы к тебе сегодня же посватался… Ты пошла бы за меня?
— Побежала бы, — насмешничает Нехама. — Всю жизнь мечтала быть женой бакалейщика. Изюм — даром, корица — даром, марципаны — даром. Я, Авнер, сластена… И у меня все сладкое…
— Нехама! — возмущается рабби Авиэзер.
— Все! Все! Все! Снизу доверху! Сверху донизу! Все! — вдруг вскрикивает Нехама и закрывает лицо руками.
Эфраим и Авнер перестают прихлебывать чай, рабби Авиэзер принимается пересчитывать пуговицы на жилете, пялит черные, как окатыши каштана, глаза; в углу посверкивают спицы, на полу кошка играет клубком ниток, но никто ее не гонит, она еще совсем молодая и глупая, еще не знает, что это за нитки.
— Будет тебе, доченька, — стыдит Нехаму рабби Авиэзер. — Кто же пьет чай со слезами?






