Козлёнок за два гроша Канович Григорий
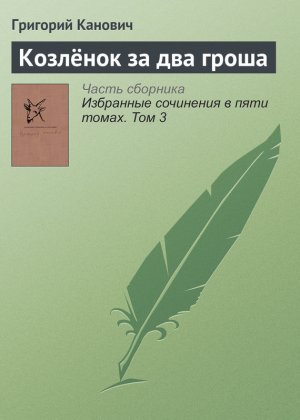
— Из Мишкине.
— Мишкине, Мишкине, — постучал по шайке пальцами толстячок. — Есть у меня там один знакомый. Маркус Фрадкин. Может, слыхали?
— Как не слыхать! Как не слыхать! — закричали со всех сторон, словно седой приготовился прочесть завещание.
— Далеко едете?
— В Вильно, — ответил Шмуле-Сендер и на всякий случай снял с головы шайку.
— Зачем?
— У евреев всегда найдется какое-нибудь дело в Вильно, — набил себе цену Шмуле-Сендер.
Дальше они мылись молча. Толстячок с каким-то болезненным рвением натирал брюшко, намыливал свое причинное место, взвешивал свою силу, медленно, чтобы не ошпариться, обливался и сквозь льющуюся струю приглядывался к Шмуле-Сендеру, к Авнеру, к Эфраиму.
— Даст бог, встретимся там, — сказал он, принимаясь за мытье ног. Ноги у него были белые-белые, лишенные растительности, словно он окунул их в известку. Он долго копался между пальцев, и Шмуле-Сендер издали поглядывал — что он там достает?
В самом разгаре мытья, еще не взобравшись на полок, хозяин возка шумно отдышался и осторожно, не желая, видно, оставлять на мокром полу следы, направился к выходу.
— А вообще, чтобы мы только на свадьбах встречались… И в бане, — сказал он на прощанье.
— И в бане, — вдогонку бросил Шмуле-Сендер.
Странный какой, подумал он. Даже тут выделяется. Господи, надо же ухитриться всю жизнь пройти на таких белых ногах без единой ссадины, без единой мозоли! Наверно, у внука Джорджа (тьфу!) Лазарека такие ноги! Не то что наши лапы, сбитые в кровь!
— Может, вместе с нами сейчас мылся Ротшильд? — предположил Шмуле-Сендер.
— То-то он все время держался за свое… богатство! — расхохотался Авнер.
— Эй, вы! Кто меня похлещет? — спросил старик Эфраим.
— Иду, иду, — отозвался Шмуле-Сендер, не трогаясь с места. Ему почему-то по-детски захотелось рассказать седому — Ротшильду не Ротшильду — о своем Берле, изготовляющем самые лучшие в мире часы и моющемуся в бане, которая у него дома, прямо за стеной столовой, о своем внуке Джордже с белыми ногами, который посещает английский хедер и говорит по-английски, как их президент… как он там… Ему захотелось рассказать о своей внучке Еве, которая с утра до вечера ничего не делает, а только пиликает на скрипке. Скрипка стоит триста долларов. Но они — так уверяет Берл — окупятся с лихвой. Ева станет знаменитой скрипачкой, объедет все страны мира и края, будет играть на еврейских свадьбах, не на простых, а на таких, где серебра столько, сколько слов в Торе, и еще в роскошных залах для цариц и для царей, которые платят за игру большие деньги. Может, Ева приедет и сюда, в Россию, в Петербург, и он, Шмуле-Сендер, запряжет свою гнедую, посадит в телегу Фейгу, Эфраима, Авнера, и Ева будет играть для них, как для государя и государыни.
Царь и царица Лазарек слушают царевну Еву Лазарек!
В предбаннике топал тяжелыми башмаками банщик-горбун.
Сумерки густели.
Скоро суббота, и снова нельзя будет ехать, помрачнел Эфраим и зажал мокрой тряпкой рот. Господь бог карает не только за слово, но и за мысль, пусть неизреченную, пусть никем не услышанную.
Хватите него, Эфраима, кар. Каждый год — кара, каждый плод — кара. Эзра! Гирш! И кто знает — может, его гордость Шахна — тоже кара? Чем больше жалованье, тем больше грехи. И наоборот.
Он неистово принялся хлестать себя веником; он бил себя за все грехи, сущие и не сущие, за свои и за грехи своих детей.
— Эфраим! Что ты делаешь, Эфраим! — испуганно пролепетал Авнер. Жара утомила его; он сидел на лавке, опустив в воду ноги, и чем-то был похож на пророка Моисея на библейской картинке — только без его пышной бороды, без посоха и без толпы, ожидавшей его пророческого слова.
Старик Эфраим хлестал себя веником, несмотря ни на какие увещевания, как будто хотел забить себя до смерти.
Наконец и он устал.
С бороды, с рук, с бедер стекала мутная вода; на полу валялись голые березовые ветки рассыпавшегося веника, и Эфраим ступал по ним, как по гати.
Купальщики высыпали в предбанник, где, кроме банщика-горбуна, никого не было.
— Евреи! — вдруг воскликнул нищий. — С нами мылся не Ротшильд, а самый обыкновенный воришка! Что-то я не вижу своих портков и рубахи.
Старик Эфраим, Шмуле-Сендер и «палестинец», который был одет как бы на все времена года (до Палестины путь далекий), застыли от удивления.
— Вот твоя одежда, — сказал банщик, сгреб чужие вещи (видно, того — Ротшильда) и протянул ошарашенному Авнеру.
— Мои? Панталоны? Штиблеты?
— Твои!
— Да их, дружок, подменили!
— Панталоны и штиблеты, а также свежую сорочку и чистое исподнее, чулки оставил реб Шая.
— Мы не знаем никакого реб Шаи, — заступился за голого Авнера Шмуле-Сендер. Где это слыхано, чтобы человек спутал нищенские портки с панталонами и штиблетами. Зачем Авнеру эти диковинные чулки? Эти панталоны? Подойдет к кому-нибудь в таком одеянии, попросит милостыню, а его так огреют, так ошпарят.
— Одевайся, — подбодрил его старик Эфраим. — В этих панталонах и штиблетах ты станешь прежним Авнером. Авнером Розенталем, у которого наши отцы и мы покупали изюм и корицу.
Но Авнер про эти панталоны и слышать не хотел. Он стоял, непреклонный, нагой, как тогда, под деревьями в лесу, из которого его насилу вытащили. Станет прежним Розенталем?! Много они, голодранцы, понимают! Авнер Розенталь, бакалейщик, по весне, в мае, носил совсем не такие сорочки и не обувал никаких штиблетов. Только сандалии. Только сандалии на мягкой подошве, которые не пропускают воду и в которых ступаешь по земле, как будто ты ее единственный хозяин.
— Авнер, — вдруг сказал Шмуле-Сендер. — Ты когда-то носил и панталоны, и штиблеты. А я никогда. Давай поменяемся. Ты влезешь в мою одежду, а я — в этого реб Шаи. — И он обратился к банщику: — А он… этот реб Шая… нас не разденет посреди дороги?
— Нет, — ответил горбун. — Реб Шая каждый месяц разъезжает по уезду и оставляет в бане свою одежду.
— У него что, магазин?
— Нет, — так же приветливо ответил банщик. — У него доброе сердце.
Попутчики переглянулись. Доброе сердце? Доброе сердце и штиблеты — разные вещи. В слякоть, пожалуй, лучше доброе сердце!
— А что он будет делать с моими портками и рубахой?
— Что будет делать? — горбун ласково улыбнулся. — Что и всегда.
— А что он делает всегда?
— Разъезжает или ходит в бедняцкой одежде до следующего банного дня. А через месяц, в следующий банный день, снова облачается в свои лучшие одежды, садится в свой возок, смотрит, где баня дымит, входит, раздевается и…
— Есть же такие чудаки на свете! — восхитился Шмуле-Сендер. — Ну что, Авнер, меняемся?
— А у тебя вшей нет? — невесело сострил нищий. — Вшей я больше боюсь, чем смерти. Смерть раз укусит, и готово. А вошь…
«Палестинец» слушал и морщился. О чем они говорят? О вшах, о панталонах, о штиблетах. Хоть бы один из них вспомнил про родину своих праотцев, где в кисельных берегах текут молочные реки. Казалось, они слыхом не слыхивали ни про Иордан, ни про Самарию и Иудею, ни про подвиг Маккавеев. Вши! Вши! Черт бы их побрал!
Авнер стал облачаться в одежду Шмуле-Сендера, а тот неторопливо, с какой-то величавой торжественностью надел белую сорочку реб Шаи (он, наверно, какой-нибудь подрядчик, а может, еще более важный туз), потом с таким же горделивым спокойствием — панталоны, потом эти вычурные, великоватые штиблеты. В таком виде и Берлу показаться не стыдно. Приодеть бы только Фейгу, чтобы не смахивала на пугало.
Он был счастлив. Когда все обсохли и стали располагаться тут же, в предбаннике, на ночлег, Шмуле-Сендер наотрез отказался раздеться.
В новом своем одеянии он и вышел во двор, к лошади.
Гнедая не узнала его в белой сорочке, метнулась в сторону, но Шмуле-Сендер погладил ее по холке, что-то шепнул в большое лопушиное ухо, и шепот примирил их, как влюбленных.
Почти совсем смеркалось.
На весеннем небе появилась первая звезда и, как это бывает в середине апреля, вслед за ней дружно высыпал целый выводок. Звезд было великое множество, но Шмуле-Сендер почему-то среди них искал ту, первую.
— Если я ее найду, — прошептал он лошади, — мы, может быть, еще увидимся.
Лошадь знала, о ком он говорит, — о белом счастливом Берле.
Теперь и она своими вишневыми глазами уставилась на звездное небо.
Господи, мелькнуло у Шмуле-Сендера, как страшно, когда свою звезду ищет бессловесная лошадь!
Белому счастливому Берлу, видно, некогда смотреть на небо. Зачем им впустую смотреть на небесный купол, если в отличие от них, пленников черты оседлости, они находят счастье на земле? Что это за земля такая Америка, где еврею за всю жизнь некогда даже взглянуть на небо?
Шмуле-Сендер забрался в телегу, сел на козлы, обмотал себя вожжами и приготовился было во дворе бани встретить утро.
— Пойди поспи в предбаннике на лавке, — услышал он голос Эфраима. — Мне все равно не спится. Я посторожу твою гнедую. — Он покосился на своего друга в белой сорочке, в штиблетах на босу ногу — возница так спешил, что совсем забыл про чулки.
— Жалеешь? — спросил Эфраим.
— О чем?
— Что поехал со мной?
— Нет, — ответил Шмуле-Сендер. На мгновение ему показалось, что он нашел ее, ту первую свою звезду, но в ней не было ни изначальной яркости, ослепившей его, ни того приманившего тепла.
— Жалеешь… Сам сказал: на похороны едем…
— Вчера сказал одно, сегодня — другое, — признался Шмуле-Сендер. — Слушай ты меня, дурака! Ты ведь сам все знаешь.
— Что?
— Куда бы мы ни ехали, куда бы ни шли, мы едем и едем к нашим детям… А они, Эфраим, идут и едут в противоположную от нас сторону… все дальше и дальше… И никогда мы с ними не встретимся… Что поделаешь, Эфраим, если с детьми можно только прощаться…
Эфраим подавленно молчал.
— Знаешь, когда я смотрю на небо, — продолжал Шмуле-Сендер, — мне и впрямь кажется, что там, в Вильно, ждет меня посланец.
— Какой посланец?
— От Берла… С золотыми часами… Когда я смотрю на небо, я слышу, Эфраим, как они тикают… И не говори мне, что это тикает мое сердце… моя любовь…
Лошадь, встревоженная голосами, залилась протяжным ржанием. Оно долго отдавалось в тихих и звездистых сумерках.
— Мое сердце, Эфраим, грохочет… Моя любовь заливается, ржет, как эта лошадь.
Эфраим слушал затаив дыхание. Звезды сияли совсем близко, перемигивались, переговаривались.
Неужели, думал Эфраим, и там, в горных высях, есть звезды-родители и звезды-дети? Кажется, до первой звезды так близко, а Юдл Крапивников говорит, что до нее надо лететь — не ехать! — тысячи лет! Господи! Звезде-родительнице к звезде-ребенку лететь тысячи лет! А сколько мы летим?.. Мы, наверно, тоже летим тысячи лет, только иначе, чем Юдл Крапивников, их считаем.
— Ты что-то мне сказал? — встрепенулся Шмуле-Сендер.
Присутствие Эфраима навеяло на возницу предательскую дремоту. Шмуле-Сендер клевал носом, но тут же просыпался, натягивал потуже вожжи и для бодрости принимался шевелить ногой в штиблете.
— Я говорю: куда смотрит бог? Почему он отдаляет друг от друга всех: и зверей, и птиц, и нас, смертных, и даже звезды на небе? Может, он не отец, а отчим?
— Не богохульствуй, Эфраим. Если хочешь, чтобы он тебе помог — спас от казни твоего Гиршеле, называй его не отчимом, а «татеню» — отцом.
Шмуле-Сендер широко зевнул, прикрыл обмотанными руками рот и сказал:
— Ты про птиц, про зверей, про бога думаешь. А я думал про свою Фейгу. Она для меня и птица, и зверь, и бог. Что же мне ей соврать, когда мы приедем обратно?.. Всем умею немножко врать, а ей — ну, хоть убей, нисколечко… Скажу: променял я, Фейгеле, американские часы Берла на эти панталоны и штиблеты. Неплохо придумано, а?
— Неплохо.
— Неплохо-то неплохо. А она мне в ответ: панталоны ты только один можешь носить, а на часы может смотреть все местечко!.. Эх!.. — вздохнул Шмуле-Сендер. — Давай лучше слушать, как звезды тикают… Забирайся-ка в телегу!
Старик Эфраим залез в телегу, уселся рядом со Шмуле-Сендером — так они сиживали в немыслимо далекой молодости в вырытом окопе на русско-турецкой войне, на которой Шмуле-Сендер удостоился неслыханной для еврея милости — Георгиевского креста третьей степени, — поежился от вечерней прохлады, притулился к водовозу, уставился на звезды. Все небо было в Георгиевских крестах — выбирай любой и вешай на грудь.
Шмуле-Сендер вздыхал, поглаживал панталоны, которыми поразит Фейгу в самое сердце, как когда-то, в день сватовства, когда по совету свата он, вопреки всем обычаям и установлениям, нацепил царскую награду.
Эфраим неотрывно смотрел на звезды и думал о том, что никаких детей у него нет и никогда не было, что он их просто выдумал, что все это — и страхи, и тревоги, и надежды — только сон, долгий, затянувшийся сон, от которого он никак не может отделаться.
Все, думал он, ему приснилось: и Шмуле-Сендер в панталонах и штиблетах, и нищий Авнер, бредущий в чем мать родила среди деревьев в лесу, и этот молодой человек, вознамерившийся добраться пешком до Палестины и уже перешагнувший через их заботы и беды.
Если раньше поездка в Вильно казалась дерзостью, чуть ли не вызовом судьбе, то теперь старик Эфраим понимал всю ее бессмыслицу, невообразимую вздорность, столь свойственную сну.
Сон петлял, как дорога, и старику Эфраиму хотелось только одного: чтоб больше не было ни остановок, ни развилок, чтобы все как можно скорее оборвалось.
Отчаяние Эфраима усугублялось тем, что и возвращаться назад, в Мишкине, к своим камням и козе, к рабби Авиэзеру ему не хотелось.
— Ее зовут Казе, — неожиданно сказал возница.
— Кого?
— Ту литвинку, которая дала мне овес. Мужик ни за что не дал бы. Ни за что.
— Почему?
— Мужик нашего брата не жалует. Не сеем, мол, не пашем.
— О чем ты, Шмуле-Сендер, думаешь? — удивился старик Эфраим.
— О чем? Обо всем. Об этой литвинке… О моей Фейге — птице-звере-боге, об этом Шае, который в банные дни оставляет в предбанниках свою одежду… А ты… ты о чем думаешь?
— О смерти, — сказал Эфраим.
— И что ты о ней думаешь?
— Думаю, что она лучше жизни.
— Обе они наши мучительницы, Эфраим! Обе! Смотри — звезда упала!
— Смерть добрей, — сказал каменотес.
— Смотри, смотри! — гнался пальцем за звездой Шмуле-Сендер. — Вот бы и человеку так. А?
— Как?
— Упасть светясь… Светясь и скатываясь, — промолвил Шмуле-Сендер. — И чтобы кто-нибудь на нас, падающих, загляделся. Выйдет, например, Берл со своими Джорджем и Евой, вскинет голову и скажет: «Дети! Смотрите! Вон ваш дедушка Шмуле-Сендер Лазарек падает. А вот ваша бабушка Фейга летит. А вот их сосед — каменотес Эфраим Дудак…» Ведь на небо, Эфраим, смотрят не зря. Чтобы что-нибудь увидеть. Ведь небо не яма, а окно.
— Окно в яму, — сказал Эфраим.
Лошадь, похоже, спала. Спина ее едва заметно подрагивала, и от этого подрагивания становилось теплей. Иногда гнедая поднимала ногу и торжественно, бесшумно опускала ее — наверно, видела какой-нибудь сон. Лошадям, как и людям, тоже снятся сны, но в отличие от людских сны лошадей никогда не сбываются и всегда пахнут сеном; небеса им даже во сне недоступны.
Тихо посапывал и Шмуле-Сендер.
Только старик Эфраим бодрствовал. Ему казалось: уснет и не проснется.
Он глядел то на маячившие вдали дома местечка, то на круп лошади, то на усыпанный звездами небосвод.
Из предбанника неслышно выскользнул Авнер.
— А тебе чего не спится? — окликнул его старик Эфраим.
— Весна, — сказал нищий. — С тех пор как я переоделся в барахло Шмуле-Сендера, меня все время тянет к его лошади… — прыснул он.
Старику Эфраиму не терпелось, чтобы Авнер ушел, оставил его наедине со спящим Шмуле-Сендером, с лошадью, со звездами, но нищий и не собирался уходить.
— Ты помнишь мой изюм и мою корицу?
Этот вопрос Эфраим уже слышал тысячу раз.
— А ты знаешь, Эфраим, почему я отказался облачиться в одежду этого реб Шаи?
Эфраим, конечно, догадывался, почему Авнер не облачился в эти панталоны и штиблеты. Он снова почувствовал бы себя лавочником Авнером Розенталем. В панталонах и штиблетах он не мог бы проехать вместе с ними ни одной версты; в панталонах и штиблетах он ни у кого на свете не попросил бы овса.
— В панталонах и штиблетах, Эфраим, можно продавать колониальные товары, но нельзя просить милостыню… Господи! — Авнер зацепился за звезду. — Где они, мои колониальные товары?
— Не гневи бога, — сказал старик Эфраим.
Он не понимал, как можно все время трепыхаться, словно в неводе, в прошлом и даже не пытаться вырваться из этой сети — пропахшей изюмом и корицей лавки, из этого дома на базарной площади, в котором если чего и не хватало, то только птичьего молока.
— Твоя беда больше, — сказал Авнер. — Но у тебя, кроме Гирша, есть еще другие сыновья и дочка в Киеве… А у меня, кроме моей лавочки, ничего не было и никогда не будет. Могли ведь в тот день сгореть синагога, или костел, или корчма Ешуа Манделя. Почему же всевышний выбрал именно меня, Авнера Розенталя? Почему? Почему он выбрал не Берла, не Семена, а твоего Гирша? Чем мы перед ними провинились?
— Авнер, — спокойно ответил Эфраим. — Я согласен, чтобы у меня все сгорело… все до нитки… чтобы я сгорел… чтобы мой дом сгорел… только бы огонь детей моих не трогал.
— А зачем… зачем, Эфраим, они в этот огонь лезут?
— Затем, что не умеют возле него греться.
Тишина сомкнулась над ними, уплотнилась; слова вдруг утонули в ней, как брошенные в реку камешки; небо на востоке зарозовелось, зарумянилось; оно походило на огромный под в нагревающейся печи.
Лошадь зашелестела гривой, и этот шелест, эта румяность раскинувшегося простора, это зыбкое посапывание Шмуле-Сендера слились в один призыв: в дорогу.
— Эфраим, — вдруг сказал Авнер. — Если со мной что-нибудь случится, не задерживайтесь из-за меня, поезжайте дальше.
— А что с тобой может случиться? — насторожился каменотес. — Деревом ты уже был… И бакалейщиком… И прокаженным…
— Да, но я еще не был тем, кем мы все должны стать.
Эфраим делал вид, будто нищий говорит о каких-то пустяках, на которые не следует и внимания обращать. Какой старец не любит рассуждать о смерти? Ну и пусть рассуждает. Когда Авнер или Шмуле-Сендер молчат, дорога до Вильно, до Гирши, кажется куда длинней.
Эфраим снова поднял голову вверх.
Сегодня оно, это небо, как никогда близко, протяни руку и достанешь.
— Я еще, Эфраим, не был мертвецом, — сказал Авнер.
Помолчал и добавил:
— Обещай мне, Эфраим, что в случае чего вы не станете со мной возиться, а зароете на первом попавшемся пригорке или хуже… Оттуда я уже сам дойду.
— Куда?
— До Мишкине… До родного кладбища.
Странное дело, но убежденность Авнера передалась и Эфраиму, проросла в нем колючей тревогой. В словах нищего Эфраим уловил не только жалобу на судьбу — сколько он их от него наслушался за свою жизнь! — но и скорбную радость и облегчение, какое наступает перед концом.
Авнер не шутил. Он был слишком серьезен, и в этой серьезности было больше боли, чем в его осунувшемся лице, ввалившихся, как остывшие оладьи, щеках. Эфраим собирался ему что-то ответить, но тут подошел проснувшийся «палестинец».
Проснулся и Шмуле-Сендер. Первым делом он посмотрел на телегу. Слава богу! Лошадь на месте! А когда гнедая на месте, все в мире на месте.
— Уже утро? — невпопад спросил он.
— Умный человек никогда не скажет «уже утро», — ни с того ни с сего поддел его Авнер.
— А как?
— «Еще утро»?.. Потому что в слове «еще» больше радости, чем в слове «уже».
Они беззлобно переругивались, как будто никуда не спешили — ни в Вильно, ни в Палестину, ни, как Авнер, на кладбище.
— Мы, евреи, слишком много говорим, — вставил нетерпеливый «палестинец», — Красноречие такой же наш враг, как жидоеды.
— По-вашему, мы должны всю дорогу молчать? — обиделся Шмуле-Сендер. — Не можем же мы все время говорить про вашу Палестину?
— Палестина — наша, а не моя, — отрубил четвертый попутчик. — Когда-нибудь вы это поймете, но будет поздно.
Ишь как осмелел, подумал старик Эфраим. Что за время? Дети отцов учат!
Они могли промчаться мимо местечковой синагоги, но был час утренней молитвы, и не завернуть в молельню значило совершить лишний грех.
Авнер хорохорился, требовал, чтобы зря времени не тратили, можно, дескать, помолиться, не слезая с телеги, но Шмуле-Сендер заартачился: нет и нет, Авнеру, мол, что — все равно не за кого молиться, а у него и Берл, и Ширли, и Джордж, и Ева, и Фейга.
Не успел Шмуле-Сендер просунуть голову в дверь синагоги, как тут же отпрянул и сам не свой воскликнул:
— Он там! Поехали!
Теперь заартачился Авнер. Хоть у него нет ни Берла, ни Шмерла, а перед смертью — он чувствовал ее приближение, как приближение поезда: тук-тук-тук! — не мешает сотворить молитву.
У киота стоял реб Шая, тот самый, который оставил в предбаннике свою одежду и в чьих штиблетах и панталонах разгуливал богомольный Шмуле-Сендер.
— Он, — прошептал возница Эфраиму, все еще пятясь от двери.
Зрачки его заволок ужас. Неужели придется расстаться с этим роскошным одеянием и вернуться к Фейге в лохмотьях Авнера?
Шмуле-Сендеру стало страшно — страшней, чем на русско-турецкой войне, где он мог потерять голову, лишиться руки или ноги. Но ни голова, ни руки, ни ноги не были ему сейчас так дороги, как эти замечательные, почти не ношенные панталоны, которые при ходьбе пухом обволакивают голень. Ему стало страшней, чем при проводах Берла.
Шмуле-Сендера вдруг обдало жаром при мысли, что жизнь ему до сих пор ничего лучшего не дарила, чем то, что ему досталось в этом заплесневелом предбаннике.
— Спасибо, — бочком продвигаясь к толстяку и стараясь соскоблить ржавчину со своего голоса, пробормотал Шмуле-Сендер.
— За что?
— За панталоны… штиблеты… сорочку… чулки…
— Вы, наверно, обознались, — сказал реб Шая. — Никакого отношения к вашим панталонам и штиблетам я не имею.
Он сгорбился и, сжав под мышкой сложенный талес, вышел из молельни.
— Он? — подскочил Шмуле-Сендер к Авнеру. — Он? — терзал своим вопросом возница «палестинца». — Он? — взывал он к самому справедливому из них — Эфраиму.
— Он, — ответил за всех каменотес.
— Почему же он тогда не признался?
— Тебе этого не понять, — бросил Авнер.
— Опять не понять?.. Да кто я, по-вашему? Кто?
— Успокойтесь, — сказал «палестинец». — Разве важно, что он не признался?
— А что важно? — по-прежнему недоумевал Шмуле-Сендер.
— Важно, что сделал добро. А настоящее добро должно остаться безымянным! — объяснил четвертый попутчик. Ничего не поделаешь: приходится по дороге просвещать. Народ израильский выше страны израильской!
Шмуле-Сендер ликовал.
Одетая в панталоны и штиблеты, наряженная в белую сорочку, мысль Шмуле-Сендера устремилась в Америку, к счастливому белому Берлу, потом в Мишкине, к Фейге; она, эта мысль, металась между лесами и океанами.
О, диво! Изменилась и лошадь!
Не было на ней ни лишаев, ни коросты, ни подержанной сбруи, ни обрубленного хвоста.
Лошадь была в штиблетах. Сверкала дуга, гремели бубенцы, лоснилась новехонькая попона, поскрипывала дорогая подпруга.
Лошадь везла его не в Вильно, не к арестованному Гиршу, а на Ривер-стрит, восемнадцать, где расположена фирма, изготовляющая лучшие в мире часы.
Потому, наверно, гнедая не бежала рысью, а летела по ковенскому тракту как птица.
— Вьо! Вьо! — погонял ее ликующий Шмуле-Сендер.
Лошадь перемахивала через рытвины и страны, через лужи и моря, и не было для нее преград ни на суше, ни в воде, ни в воздухе.
Гнедая Шмуле-Сендера летела бы и летела, если бы на развилке, там, где от ковенского тракта ответвляются дороги на Кейданы и Паневеж, ее не догнала бы другая лошадь, запряженная в легкую, как яичная скорлупка, бричку.
— Юдл Крапивников, — возвестил нищий Авнер, когда из скорлупки вылупилась голова в цилиндре. — И с ним какая-то женщина.
Шмуле-Сендер обернулся, прищурился, вгляделся в даль и после некоторого раздумья бросил:
— Твоя невестка, Эфраим.
Каменотес даже не шелохнулся.
— Дорогу! Дорогу! — дурашливо, упиваясь скоростью и своей властью, кричал Юдл Крапивников.
Графский рысак как бы рассекал своей породистой грудью воздух, оставляя за собой ожившие, опрысканные первой робкой зеленью леса и рощи и большое обручальное кольцо солнца, которым голубое небо венчалось с еще по-зимнему вдовьей землей.
Бричка все приближалась и приближалась.
Юдл Крапивников мчался как смерч.
Старик Эфраим уже слышал его смех. Никто так не смеялся, как эконом графа Завадского, — громово, захлебываясь.
— Дорогу! Дорогу!
Казалось, бричка на всем скаку врежется в телегу и разнесет в щепы не только ее, но и всех седоков, и кончится их дорога, и свершится суд, не тот, военно-полевой, а божий, и не будет никаких забот, никаких язв ни на душе, ни на теле, но эконом графа Завадского, оттеснив телегу на обочину, придержал буяна рысака, окинув их, точно бог Саваоф, слезящимся от солнца взглядом и обняв Дануту за плечи, выкрикнул:
— Доброе утро, евреи! Ну, чего вы такие хмурые?.. Ведь не каждый день на небе солнце светит!
Его распирало от радости, и он спешил поделиться ею со всеми.






