Козлёнок за два гроша Канович Григорий
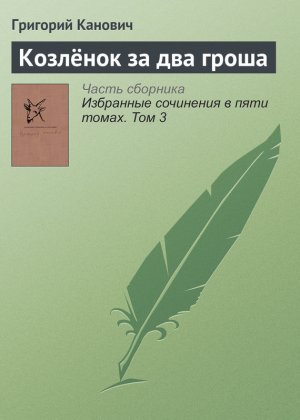
Шахна был почти счастлив, что Гирш на время забыл про ремень, задул, как коптилку, свою ненависть и что на смену ей пришла маскирующаяся под терпеливое безразличие нежность.
— Отец наш бессмертен, — сказал Шахна.
— Что правда, то правда.
— А ты не задумывался, почему?
— Бог ему здоровья не пожалел.
— Не в этом причина, не в этом.
— А в чем?
— В том, что наш отец, Эфраим Дудак, — сам бог.
— Для нас… для тебя… для меня… для Эзры… для Церты — да… А для него? — Гирш кивнул на глазок в двери, за которой мерно и преданно расхаживал Митрич — маятник неволи. — Для него?
— Бог, Гирш, всегда для всех, — волнуясь, промолвил Шахна, и при воспоминании об отце у него так защемило сердце, что он даже на миг зажмурился, и вдруг в его глазах, прикрытых ставнями век, в его глазах, как в родном доме на окраине местечка, приближаясь и увеличиваясь, выросла фигура старика; и зашагал старик по камере, подошел сперва к нему, старшему сыну, потом, скользя по тюремному полу, как по льду, к среднему сыну Гирше и обхватил его своими могучими руками.
Пока руки отца тянутся к нам, обнимают нас, подумал Шахна, ни тюрьмы, ни виселицы, ни погромы нам не страшны.
Пока руки отца… как частокол… как заслон…
Шахна так и стоял — с закрытыми глазами, и его воспаленные белки были похожи на землю, вращающуюся в туманном пустом пространстве, где обитают только два бога — отец небесный и отец Эфраим Дудак.
— Если увидишь его — передай… — начал было Гирш и осекся.
— Что?
— Что-нибудь, — попросил Гирш.
— И все?
— И все.
— Ладно… Скажу: он любит тебя… очень… больше всех… больше жены Миры… меня… Эзры… Церты… Ведь это, Гирш, правда?
Гирш словно онемел.
— Не поверит, — сказал он.
— Почему?
— Тот, кто любит, всегда рядом.
— А он рядом… Разве ты не видишь?
— Не вижу.
— Вы стоите рядом — ты и он, — прошептал Шахна, — И руки его на твоей шее.
— На моей шее? — Гирш потрогал шею.
— Да. И пока ты не оттолкнешь его… пока они будут на твоей шее — с тобой ничего не случится.
— Задурили тебе раввины голову! Задурили! Ха! Руки на шее? Ха! Стоит рядом!..
— А ты вглядись! Вглядись!
Брат оторопело огляделся.
— Рядом стоит… и руки его на твоей шее, — продолжал свои заклинания Шахна, все больше распаляясь и кружа в темноте вокруг озадаченного Гирша.
— Чувствуешь?
— Что?
— Его дыханье.
— Ничего не чувствую… И никого, кроме тебя, не вижу.
— Спать! Спать! — просунул голову в дверь Митрич. — А то я вам, морды, всыплю!
— Давай ляжем. А то он целую свору приведет, — сказал опомнившийся Шахна.
— Давай, — неожиданно согласился Гирш.
— Ты — справа, я — слева, а он… отец — посередке…
— Хватит! Больше ни слова! Слышишь, ни слова.
— Ладно…
Молчание, однако, длилось недолго.
— Когда ты был маленький, — не выдержал Шахна, — тебя клали спать ко мне… на топчан… Топчан был старый… с клопами…
— Ты же обещал: ни слова, — одернул его Гирш, косясь на ремень и мысленно прикидывая его размеры. А вдруг мал? Что, если только на петлю хватит: обмотаешь шею и будешь стоять как дурак? Нашел что вспомнить — клопов!..
— Гирш!
— Что?
— Неужто ты ни во что, кроме насилия, не веришь?
— Теперь уж это не имеет значения.
— Разве стоит верить… и погибать за то, чем можно пользоваться?
Гирш крякнул, но смолчал.
— Например, разве можно верить в нужник, который станет дворцом, или в дворец, который во имя справедливости превратят в нужник?
— По-твоему, надо верить в ворону-ангела? В руки отца на шее, когда на ней веревка? Хороша вера!
— Вера всегда выше, чем ее осуществление. Веру пропускаешь через душу, а осуществленное через задницу. Если тебя, не дай бог, казнят, то не потому, что этого требует закон или справедливость, а потому, что они больше дорожат своей задницей, чем своей или твоей душой!..
— Тогда зачем ты им служишь? — выдохнул Гирш. — Зачем ты служишь их заднице?
Желая употребить свою ничтожную, добытую долгими и бессонными бдениями власть, Митрич открыл дверь камеры и гаркнул:
— Это вам не синагога! Ша-ша да шу-шу! Молчать!
Братья притихли. Но Митрич не уходил, косился на арестантские штаны и куртку, хотел было наорать на Шахну, который ослушался, не переоделся, но, подумав, решил, что на ночь можно и не менять одежду. Он вынул кисет, скрутил козью ножку, и едкое облачко дыма повисло в воздухе, потом распушилось и завитками, колечками поднялось вверх, к небеленым тюремным сводам.
Молчание снова ввергло Семена Ефремовича в сплин, нагнало на него отвратительную хлипкую хандру; и мысль, что он отныне больше не толмач жандармского управления Северо-Западного края, а узник, что ему суждено занять место своего среднего брата Гирша, которое в любом случае опустеет, казнят ли Гирша или не казнят, заменят ли ему виселицу на какой-нибудь медный рудник или отправят в бессрочную ссылку, эта мысль сапожничьим шилом снова вонзилась в мозг и сердце, и не было от нее никакого спасу.
После долгого молчания, опасно преобладавшего над тишиной, после молчания, всасывавшегося в них, как тлетворный запах мишкинской топи, куда они вдвоем бегали собирать утиные яйца, Шахна сказал:
— Я никому не служу. Я посредник.
— Между душой и задницей? — съязвил Гирш и растянул в клоунскую улыбку рот.
Семен Ефремович не видел в темноте ни этой улыбки, ни лица брата. Все вокруг обезличилось, уравнялось, не стало разницы между ним, толмачом, и ими, узником и стражем. Все они одновременно были теми, кем хотели, и теми, кем страшились быть. В камере воедино слилось три дыхания, совместилось три вида невменяемо-блаженного отупения и, как казалось Семену Ефремовичу, три несчастья.
Все мы несчастны, думал он, все, независимо от племени, возраста и положения. И дети наши будут (если вообще будут!) такими же несчастными, как мы. Тюрьмы испугался? Одной только тюремной ночи! Но разве там, за окнами, свобода? Разве там, за стенами, не тюрьма? Что из того, что у таких, как он и этот Митрич, ключи покамест в кармане: запирай-отворяй? Отворил и попал из одного застенка в другой, от одного надзирателя к другому; из одних рук в другие — полковника ли, лесоторговца ли, антиквара ли, прачки ли.
Шахна лежал и выдергивал из темноты какие-то лица, звания, ответы. Мозг его работал, как мишкинская мельница после жатвы. И в тишине слышно было, как стонут ее жернова.
Только бы дотянуть до утра, думал Семен Ефремович. А, впрочем, так ли уж важно, дотянет он или не дотянет. Кроме отца, никто и не заметит его исчезновения.
Кроме отца.
Если он жив.
И Семену Ефремовичу до судорог, до боли в суставах захотелось, чтобы он, его отец Эфраим Дудак, был жив, чтобы спустился с тюремного потолка, как бог с небес, и положил ему на шею свои горячие, свои целебные, свои неподкупные руки.
Отец разыщет их — даже мертвых.
И каждому поставит на могилу камень.
Митрич вывернул наизнанку кисет, охлопал себя сверху донизу и, не найдя ни крохи махорки, задремал стоя.
Ключи позвякивали в его настороженной, неусыпной руке, и их тихий, почти поминальный звон бередил Семену Ефремовичу душу.
Гирш не подавал никаких признаков жизни. Привалился к стене, как бревно, и, похоже, спал.
А говорил, не уснет, подумал Шахна. Пусть спит. Пусть. Сколько ему осталось.
Семен Ефремович сомневался, оставят ли Гирша в живых. Конечно, бывают исключения из правил, счастливое стечение обстоятельств, когда судьями руководит милосердие, а не буква закона. Но тут не тот случай. Тут пощады не жди. Гирша повесят для острастки. Чтобы другим неповадно было. В империи не может быть иных победителей, чем ее стражи и слуги. Победа одного заразительна. Там, где сегодня победил один, завтра может победить второй, а послезавтра — третий. Страж или слуга — другого выбора нет. Другой выбор ведет к поражению.
— Спишь? — спросил Семен Ефремович брата.
— Никак нет! — встрепенулся Митрич; в руке еще громче звякнули ключи, надзиратель отряхнул с себя дремоту и на пьяных ногах заковылял к двери.
— Спишь? — повторил Шахна, когда сонный Митрич вышел.
Стояла омутная, без эха, тишина.
— Спи! Спи! — поражаясь не то его выдержке, не то безразличию, прошептал Семен Ефремович. — Пусть тебе приснится какой-нибудь чистый… безмятежный… неповторимый сон. Не пустырь в Шнипишках, а родина наших праотцов… оливковые рощи… Стена плача… Пусть тебе приснится белый пароход… ты стоишь на палубе… а впереди холмы Галилеи… Спи!
Семен Ефремович прислушался.
Неужто брат бодрствует?
Нет, спит… Значит, ни о чем не жалеет. Значит, душа его спокойна…
Шахна расстегнул ремень, спустил всхолмленные, как Галаадские горы, штаны, задышал ровней и легче.
Оливковые рощи? Галаадские горы? Какая глупость, какая несносная чушь на прощание!.. Куда девались другие слова — скупые, горькие, единственные слова любви…
Умерли… Каждый день умирают слова любви.
Сердце — их кладбище…
— Прощай, Гирш!
— Ме-ме, — отозвалась темнота.
— Ты?
— Ме-ме…
Что это? Семен Ефремович напряг слух и глаза. Там, где только что стоял Митрич, что-то белело. Он готов был поклясться, что это — коза, обыкновенная, со впавшими боками, недоразвитыми рожками и большим, гладким, как лицо матери, выменем, а на козе верхом сидел рыжеволосый мальчик, остервенело болтал ногами, размахивал хворостиной и тонким перепелиным дискантом пел:
- Козленка, козленка отец мой купил,
- два гроша, два гроша всего заплатил.
- Козленка, козленка кот черный сожрал.
- Кота за околицей пес разорвал.
- Тяжелая палка разделалась с псом.
- Сжег палку огонь.
- А потом, а потом
- вода из бочонка огонь залила.
- Вол выпил всю воду.
- Ну и дела!
- А резник пришел и зарезал вола.
- А резника смерть навсегда унесла.
Бред! Галлюцинация, подумал Семен Ефремович. Если дотяну до утра, обязательно пойду к доктору… К Гаркави… Он живет рядом в доме за углом. Самуил Яковлевич. Еврейский доктор, как его называет вся улица.
Непременно схожу.
Беньямин Иткес, получеловек-полуовн? Козленок в камере смертников? Да что это со мной?
— Что это со мной? — спросил он вслух, но темнота утешила его только молчанием, которым он и без того пресытился там, на свободе.
Семен Ефремович до утра так и не сомкнул глаз.
Каин сторожил Авеля?
Авель сторожил Каина?
Шахна чувствовал себя одновременно и тем и другим.
— Дай мне свой ремень, — сказал Гирш, когда за дверью в коридоре раздался уверенный самодовольный топот сапог. — И, пожалуйста, без возражений. Клянусь богом: до суда ничего не сделаю… честное слово!
Семен Ефремович еще недавно и мысли не допускал, что может отдать брату ремень, но теперь что-то сломалось в нем, раскололось.
— Когда они войдут, будет поздно, — торопил его Гирш. — И пусть тебя совесть не мучает.
— А вдруг тебя помилуют… вдруг сошлют в Сибирь…
— Ты мне зубы не заговаривай!
— Я куплю тебе шифскарту… тебе… твоей Мире и твоему ребенку… ты только обещай мне… Отбудешь срок и уедешь в Америку, в Палестину… Уедешь и сможешь оттуда стрелять в наших генерал-губернаторов сколько влезет.
Топот!
Мимо! Мимо! Господи, сомнение ломало и выворачивало Шахну.
— Давай.
— А как же я?
— Что ты? — не сразу сообразил Гирш. — Боишься портки потерять? — И он снова растянул рот в клоунскую улыбку.
— Думаешь, тебе одному хочется?..
— Давай! Давай!
Гирш подстегивал его, готов был заломить брату руки и снять ремень, но то ли его удерживал стыд, то ли топот в коридоре.
— Думаешь, тебе одному хочется покончить с собой? Думаешь, ты один такой на свете? — стараясь заручиться его сочувствием, дождаться Митрича, нарочно тянул время Семен Ефремович.
Кто-то уже скребся в дверь. Чьи-то руки уже отодвигали засов.
В соседней камере!
Опять мимо!
— Короткий он, — прибег к последнему аргументу Семен Ефремович. — Тебе бы с какого-нибудь толстяка, а не с такой жерди, как я.
Господи, взмолился Шахна, ты — свидетель, это не я, не я накидываю ему на шею веревку, это они… это он сам. Прости и не покарай меня — разве можно карать тех, у кого нет выхода, тех, которые, как эта дверь, закрыты не изнутри, а снаружи. Изнутри мы свободны, мы птицы, мы белые козы в непроглядной темноте, мы трудолюбивые Авели, а снаружи… снаружи — соглядатаи, слуги, ключники, тюремщики и палачи! Прости! Если ему, моему брату, суждено болтаться в петле, то пусть он лучше сам… своими руками… Хотя они и запятнаны чужой кровью, но запятнаны по слепоте, по неразумению, а не по заведомому умыслу, и потому его руки чище, чем руки его судей и палачей. Господи!
Вздохнул и протянул ремень.
Гирш быстро свил его и сунул под нары, в щель дырчатого, отдававшего волглой соломой и казенной похлебкой матраца.
— Спасибо, брат, — сказал Гирш.
— Только после суда… после… после, — как заведенный твердил Семен Ефремович.
— Бог свидетель, Шахна.
— Но ты же в него не веришь? Ведь он для трусов… для таких, как я…
— Ты, брат, исключение.
Он никогда раньше Шахну так не называл, и от этого обращения у Семена Ефремовича слегка закружилась голова — а может, она закружилась от сознания собственной ничтожности и малости? — он покачнулся и, если бы Гирш не подхватил его под руки, то рухнул бы на пол камеры.
— Ты говорил правду, — сказал Гирш.
— Какую правду?
— Ты действительно посредник.
— Между душой и задницей?
Семен Ефремович попытался улыбнуться, но улыбка, как судорога, свела его помятое, бледное лицо с лишаями прихлынувшей крови.
Гирш промолчал.
— Идут, — сказал он после паузы. — Теперь уже точно к нам.
— А ты откуда знаешь? — боясь в это поверить, выдавил Семен Ефремович. Сейчас… сейчас решится его судьба… выйдет он на волю отсюда или нет…
— Я сапожник, — объяснил Гирш. — У каждого башмака свой голос. Это — Митрич. У него на левом башмаке набойка отлетела. — И он снова прислушался. — Да, это — наш Митрич.
— Наш?
— Мой, — сказал Гирш.
Семену Ефремовичу казалось, что дверь камеры открывали невероятно, непостижимо долго — дольше, чем он ожидал. Это длилось не минуту, не две, а целый день, целую ночь, целую вечность, и он, Семен Ефремович Дудаков, Шахна Дудак, успел за это время прожить две, а может, даже три жизни — одну на воле, вторую — в тюрьме, третью — в Сибири, дождаться помилования, вернуться домой, в Мишкине, жениться, смастерить, как и его отец, четырех детей, вымостить ковенский тракт до самого Мемеля, поставить уйму надгробий и умереть в придорожной корчме на чужих подушках, пахнущих вином, которое он, Шахна, так ни разу на своем веку и не попробовал.
— Выходи! — приказал Митрич.
Забыв, что он без ремня, Шахна слишком поспешно ринулся к двери, но вынужден был остановиться, чтобы подтянуть сползающие штаны. Только бы Ратмир Павлович не заметил! Наведет свои глаза-бинокли, и он, Шахна, пропал!.. И говори: прощай! И, может, даже раньше, чем Гирш.
— Ну, чего остановился? Выходи! Выходи!
В коридоре их ждали четыре конвоира, численность коих сильно омрачила настроение Семена Ефремовича. Тем не менее он держался достойно, старался не выдать себя, шагал бодро, по тюремной лестнице даже припустился вприпрыжку, но грубый окрик Митрича снова остановил его, и все началось сызнова, как во время лихорадки: жар — озноб, озноб — жар, слабость — дурнота, дурнота — слабость.
Гирш же напротив — шел твердо, не спеша, его крепкие короткие ступни впечатывались в землю, он как бы прощался с ней, а может, набирался у нее сил, словно отец. Недаром же старик Эфраим говорил: «Душа, Гиршеле, от бога, а сила от земли».
Они ехали в карете по городу. Лошади бежали ленивой, совсем не жандармской рысцой, их то и дело надо было взбадривать кнутом или окриком, хотя они были прекрасно вышколены, получали особый харч — отборный овес без всяких примесей мякины, душистое сено, которое нижние чипы жандармерии накашивали в окрестностях Вильно на зиму и на весну, если она случится холодной и вьюжной.
Семен Ефремович заметно повеселел — уж коль скоро везут не в другое узилище, а в следственную часть, стало быть, кончились его тюремные мучения. Нет никаких сомнений: его высокоблагородие Ратмир Павлович изволили пошутить, позабавиться, преподать ему урок, чтобы не очень зазнавался, не кичился своей независимостью, не корчил из себя святого среди грешников. Дескать, все мы, Семен Ефремович, жандармы: и ты, и я, и писарь Крюков…
Единственное, что все же Семена Ефремовича тревожило, это сползающие портки. Но если даже Князев разоблачит его, он, Шахна, покается в своем малодушии, а полковник прикажет обыскать камеру и изъять ремень. Семен Ефремович примет удар на себя, сказавши в свое оправдание, что у человека всегда должно быть право выбора — даже смерти, даже петли.
— Подъезжаем! — с суеверной, почти детской радостью промолвил Семен Ефремович.
— Только знай: отвечать я не буду, — предупредил брата Гирш.
— А ты говори что угодно… рассказывай об отце… о матери… о нашем местечке… А там уж мое дело… Ты можешь на меня положиться.
Разобравшись по двое, конвоиры повели арестованных — а для них каждый, кого они сопровождают, узник — на второй этаж, где был кабинет Ратмира Павловича Князева.
— Садитесь! Садитесь! — с обескураживающим радушием встретил их полковник и привстал из-за массивного, состоявшего из множества ящиков стола. Ящиком казался и сам Князев — только самым вместительным, с более надежным замком, — Долгонько ехали! Долгонько, — посетовал он, как будто от Семена Ефремовича и Гирша зависела скорость движения жандармской кареты.
Семен Ефремович и Гирш сели рядом, как когда-то в хедере.
— Не будем терять времени, — объявил Князев. — Имя, фамилия и место рождения нам известны… Род занятий тоже. Сапожник. Чеботарь, — почти задорно сказал Ратмир Павлович.
— Сапожник, — эхом отозвался Семен Ефремович.
— Записывай, Крюков! — обратился Князев к молчаливому писарю, склонившемуся над кипой чистых листов. — Хороший сапожник?
Гирш что-то пробормотал по-еврейски.
— Он говорит, — перевел Семен Ефремович, — что есть сапожники и получше его.
— Если все хорошие сапожники будут палить в особ, приближенных к царю-государю, — улыбнулся Ратмир Павлович, — мы скоро будем ходить босые… — и, выдвинув ящик стола, достал оттуда какую-то папку.
— Подпольные клички «Воротник» и «Косолапый»? Так?
Гирш мотанул головой.
— Выходит, ротмистр Менчиков врет?
— Говори, Гирш… Говори что-нибудь… Мы же с тобой договорились… — спокойно произнес Шахна, — Помнишь Нехаму, дочь рабби Авиэзера?
— Да, — сказал Гирш. — И ее, и беспамятливую Хану.
— Переведи! — насупился Князев.
— Ваше высокоблагородье. Он утверждает, что у него были клички только в детстве: Гирш-Копейка и Гирш-Заноза.
— Его детские клички меня не интересуют, — искоса поглядывая на своего толмача, проворчал Ратмир Павлович.
Семен Ефремович не скрывал своей радости. Во-первых, край массивного полковничьего стола надежно прикрывал нижнюю часть его туловища — Князев видел его только до пояса. Во-вторых (и это главное), Гирш против ожиданий оказался послушным и необыкновенно сметливым партнером.
— 23 мая позапрошлого года, — раскрыв папку, прочитал Ратмир Павлович, — ты и шесть твоих подельников — Федор Васильев, Арон Вайнштейн-Дорский, Алоизас Довейка, Давид Магарам, Фаина Абрамзон и Пнина Пудель совершили нападение на новогородский полицейский участок города Вильно и пытались освободить арестованных смутьянов. Ты был задержан, осужден, заключен в петербургские «Кресты», потом передан под надзор полиции. Правильно я говорю?
— За Нехамой ухаживал Семен Мандель… Шимеле… сын корчмаря Ешуа… и ты…
— Он все еще стоит на развилке? — оживился Гирш.
— Стоит… и ждет…
— А лошадь… лошадь их жива?
Семену Ефремовичу ничего не было известно о лошади Ешуа Манделя.
— Не знаю… ты называй поменьше фамилий… понимаешь? — посоветовал он Гиршу.
— Ладно.
— Что он говорит?
— Он говорит, что никакой Фаины Абрамзон он не знает. Говорит, что его возлюбленная была Нехама, дочь местечкового раввина Авиэзера.
— А кто такой Мандель?.. Кто такой Шимеле?.. Кто такой Семен?
— Это, ваше высокоблагородье, одно лицо — сын корчмаря Ешуа Манделя — Шимеле-Семен, его соперник. Он говорит, что в дочь рабби Авиэзера Нехаму было влюблено все местечко.
— Записывать? — спросил писарь Крюков у Князева.
— А что тут записывать: раввин, корчмарь, соперник?.. Пойми, — повернулся он к арестованному. — В твоих интересах говорить правду.
Ратмир Павлович насупился, углубился в чтение. Он читал лихорадочно, не отрываясь от папки, строго пронумерованные листы шуршали, потрескивали, как поленья, и от них впрямь веяло ересью. А раз ересью, то, стало быть, и костром.
В какой-то момент Семену Ефремовичу померещилось, что их игра разгадана, и вот-вот кончится трагической развязкой не только для Гирша, но и для него самого. Ратмир Павлович — хитрая лиса! Первые его вопросы — только пристрелка, только проба, как он говаривал, материала — камень ли, железо ли, олово ли, плавятся ли на малом или на большом огне.
— Мы наведем справки, кто такая Нехама и кто такой Семен-Шимеле Мандель, — сказал Ратмир Павлович, показывая арестанту и толмачу, что он, Князев, рано или поздно узнает все. Истинный жандарм должен все знать. Если он через год не выйдет в отставку по болезни, если сердце не подведет и его, Князева, переведут в столицу, он и идиш, и древнееврейский изучит, чтобы обходиться без переводчиков и читать в подлиннике «Книгу пророков» или «Притчи Соломона». Что о евреях ни говори, а народ этот многомудрый и вследствие своей мудрости не столько вредный для России, сколько полезный, ему надо только дать верное направление. Мудрость, чья бы она ни была, считал Ратмир Павлович, не зазорна, и усвоить ее не грех. Чужая мудрость — не обряд обрезания, она добавляет, а не отнимает. А сейчас? Сейчас поди проверь, о чем они между собой калякают. Он, Князев, не удивился бы, если бы и в сговор вступили. Переводчик — всегда соучастник. И потом, они все-таки братья. Будь у него брат — родной ли, сводный ли — разве поступил бы он иначе? Их можно по-человечески понять. Но там, наверху, плевать хотели на его, Князева, человеческое понимание. Сними шелуху, начисть картошку, а уж палач Филиппьев зажарит ее, что-нибудь из нее состряпает — отбивную, бифштекс, шашлык или еще какое-нибудь любезное вельможным едокам блюдо.
Если сердце будет так ухать в груди, как ухает сейчас, если никакого продвижения по службе не последует, он, Князев, через годок передаст бразды правления другому. Хватит! Покорнейше благодарю за честь. К морю, в Курляндию или в Крым! Лучше — в Крым! Жить в мазанке, читать книги, три раза на дню купаться, вкушать персики и виноград. В голове Ратмира Павловича проносились верстовые столбы, татарские мазанки; с грохотом на берег накатывали черноморские волны.
— Вам плохо, ваше высокоблагородье? — перо застыло в руке писаря Крюкова.
— Нет, нет!
Ратмир Павлович на минуту впал в какое-то предосудительное, не предусмотренное уставом службы забытье, и эта минута была такой сладостной, такой неповторимой, что просто больше не хотелось жить.
— Кто помог тебе достать оружие? — вылезая из черноморской волны, спросил Ратмир Павлович.
Ему вдруг вспомнились слова его жены. Вчера вечером, когда он вернулся домой, Антонина Сергеевна, побывавшая днем у своей троюродной тетки в губернаторском дворце, нарисовала ему картину происшедшего у входа в цирк Мадзнни, и Князев своим разветвленным и цепким умом смекнул, что это — дворцовая версия, что им никакая другая не нужна, если бы даже все произошло иначе.
Другая версия не нужна. Этот несчастный еврей — Антонина Сергеевна так и сказала «несчастный» — умышленно хотел его убить… умышленно! Убить! Не отомстить за унижение, а ни с того ни с сего убить. Какая наглость, кипятилась Антонина Сергеевна. Что он им, бедный, — так она называла генерал-губернатора! — плохого сделал? Велел их, смутьянов, выпороть, всыпать им по двадцать пять плетей каждому. Ну и что? Разве в отца стреляют, когда он спускает с сына портки и розгой расписывает ему задницу? Порка — ведь это не каторга, не Сибирь. Вместо того чтобы приложить к заднице примочку, этот… как его… Гирш (что за дикое имя?!) Дудак (можно подумать — украинец!) схватил револьвер и — к цирку Мадзини.
Другая версия не нужна, осенило Ратмира Павловича, и выступившая на его широком лбу испарина в миг слизала татарскую мазанку, сладкий виноград и золотой черноморский песок.
Не было случая, чтобы что-то не стесняло действий Князева — то смена шефа жандармов, то смутные слухи о каких-то послаблениях, ограничениях, ужесточениях, изменениях, дополнениях, докатывавшиеся до Вильно, то собственная совесть, торчавшая, как шутил Ратмир Павлович, торчком, а не покоившаяся, как платяная щетка: взял, стер половину Северо-Западного края, как пыль с мундира, и положил ее на место.
— Где ты достал револьвер? — терпеливо спросил Князев.
Семен Ефремович перевел вопрос полковника и, вспомнив о том, что брат не назвал ему адреса своей жены Миры, по-еврейски осведомился, как ее найти.
— Еврейская улица… двадцать… — ответил Гирш.
— Он назвал адрес своей жены… Еврейская двадцать… Она ждет, ваше высокоблагородье, ребенка, — непонятно почему, добавил Шахна.






