Козлёнок за два гроша Канович Григорий
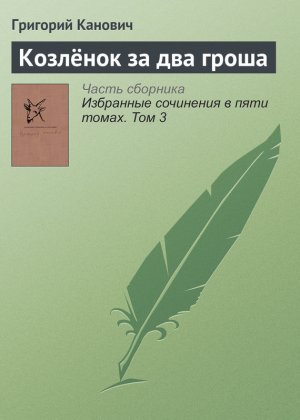
Григорий Канович
Козленок за два гроша
Глаз, насмехающийся над отцом и презирающий покорность матери, выклюют вороны долины и пожрут птенцы орлиные.
Старинное заклятие
Отцу — С. Д. Кановичу
КНИГА ПЕРВАЯ
КОЗЛЕНОК ЗА ДВА ГРОША
I
Всю жизнь старик Эфраим для других надгробия делал, а когда стукнуло ему восемьдесят, стал подумывать о том, что пора и себе соорудить. Высечет он на памятнике свое имя и звание, украсит каким-нибудь изречением из торы и, закончив работу, в тот же день испустит дух; потому, видно, Эфраим не спешил, долго и придирчиво выбирал для своей могилы камень — и тот нехорош, и этот! — рыскал по полям, по оврагам, по пустошам — мало ли их там валяется без дела, — ездил за камнем чуть ли не в Россиены к такому же каменотесу, как и он, Вацловасу Гадейкису, но то ли не сторговались, то ли камень был с изъяном — вернулся Эфраим домой ни с чем.
Другой расстроился бы — в его-то годы из такой дали, не солоно хлебавши, — но старик Эфраим не только не огорчился, но даже по-своему обрадовался. Стало быть, господь не торопит его, стало быть, всемилостивейшему угодно, чтобы он, Эфраим бен Иаков Дудак, еще малость небо покоптил, помучался на земле, один, без жены и детей. Ну что ж, живому человеку и помучаться радостно. Конечно, с женой и детьми мука слаще, да где ты их возьмешь? Разлетелись, растаяли, испарились! Криком кричи — не докричишься, навзрыд рыдай — не отзовутся. Разве тучку приманишь? Разве ветер посадишь на цепь?
Были у Эфраима даже три жены: сперва Гинде, потом Двойре, потом любимица Лея, царство им небесное, нарожали ему трех сыновей, а покойница Лея в придачу и дочку, Церту, и отправились к праотцу Аврааму.
С Гинде Эфраим прожил шесть лет, с Двойре — в два раза больше, а с любимицей Леей — почитай, все двадцать.
Не держались у Эфраима Дудака жены, не держались. Что правда, то правда. Всех карает господь, но Эфраима — во всяком случае, ему так казалось — он карал чаще и жесточе, чем других.
Смерть ходила за женами в Эфраимовом доме, как цыганская собака за телегой.
Гинде, первая его жена, хворала долго — год-полтора. Перед смертью позвала мужа, посмотрела на него выжженными глазами и прошептала: «Может, ремесло твое виновато… Всю жизнь якшаешься не с живыми, а с камнями».
С камнями Эфраим, конечно, имел больше дела, чем с людьми, и в нем самом было что-то от камня — могучий, с широкими, как русло Немана, плечами, с тяжелыми ручищами, которыми он по привычке постукивал себя по коленям, как молотом по наковальне, с крепкими, как багры плотогонов, ногами, под которыми постанывал выложенный им булыжник на местечковой мостовой и, как прищемленная мышеловкой мышь, попискивала покладистая кладбищенская трава.
Об Эфраимовой силе в местечке рассказывали небылицы. Говорили, например, будто в молодости, еще задолго до женитьбы на Гинде, поспорил он, что по нему, как по мосту, проедет телега его друга водовоза Шмуле-Сендера. Телега якобы проехала — говорили, будто бочка была пустая! — не причинив Эфраиму никакого вреда, он поднялся, стряхнул с себя пыль, два раза чихнул, разгладил рубаху и преспокойно, надев ермолку, отправился на вечерний молебен в синагогу. То был, по слухам, всем молебнам молебен. Евреи не столько буравили глазами молитвенники, сколько мышцы Эфраима, бугрившиеся под дешевым льном, как священная гора Сион.
— Ах, ах! — вздыхали на хорах женщины, мечтавшие родить от него сына, хотя и знали, что за такое желание могут через год, через два расплатиться смертью.
Эфраим снисходительно посмеивался над побасенками о его богатырской силе, стеснялся ее, никогда не употреблял во зло, а однажды из родственных чувств даже позволил гончару Цемаху, брату первой жены Гинде, уложить его на лопатки.
Был Эфраим в молодости молчалив — другого такого молчуна в местечке не было. Урядник Нестерович — тогда еще он не был почтарем — принял его за глухонемого.
— Хуже всех тем, которые говорят, — басил Эфраим.
В местечке шутили, что у молодого каменотеса два дома — один с соломенной кровлей, другой крытый молчанием.
Для того чтобы мостить улицы, делать надгробия, нужна сила, и господь дал ее Эфраиму, а после того как дал, еще и добавил.
Сколько надгробий он на своем веку соорудил — всех и не перечтешь.
Первый камень он поставил в память о сыне рабби Ури, положившего начало местечковому кладбищу.
— Эфраим, — сказал рабби Ури. — Изобрази на камне мое горе и горе моей жены Рахель.
— А как оно, рабби, выглядит?
В те далекие годы, когда рабби Ури приобрел участок для захоронения умерших, Эфраим был простым каменотесом, не ваятелем, не резчиком и о горе-печали ничего не знал. Какая печаль в двадцать лет?
— Как птица с покалеченным крылом, — сказал рабби Ури. — Вчера еще жила в небе, а сегодня упала на землю.
— А разве, рабби, на земле плохо?
— Ты еще не жил на земле, — ответил тот. — Поживешь, и тебе покалечат крыло…
Ах, рабби Ури, рабби Ури! Накаркал, напророчил, накликал! Но отказать ему Эфраим не мог. Рабби Ури — не простой смертный, рабби Ури — светоч во мгле кромешной, целительный бальзам, мудрец из мудрецов. Эфраим вырубил на камне ангела с подбитым крылом, да так умело, так выпукло, что и сам на него засмотрелся. Посадил он своего ангела на желтый холмик, окопал его со всех сторон, но тот весь трепетал, рвался в небо, — что из того, что у него одно крыло, — ангелы не живут вместе с кошками, дворнягами, с гончарами, банщиками, водовозами.
С той поры, с того дня, когда рабби Ури и его жена Рахель облились слезами, увидев на камне ангела, рвущегося в поднебесье, и посыпались заказы.
— Эфраим, сделай и для моей дочери ангела.
— Эфраим, для моего отца ангела.
— Эфраим, для моей матери ангела.
Ну где он для них возьмет столько ангелов? Есть ангелы, избавляющие от зла, ангелы-ходатаи, воители, ангелы восхваляющие, ангел, охраняющий Сарру от Фараона, а ангелов горя и печали нет.
Когда ангелов на кладбище развелось столько, сколько кур в курятнике, родственники покойников просили изобразить их горе строчкой из священного писания, излохмаченной львиной гривой, рыбой, заходящейся в исступленном беззвучном крике, да мало ли как — сколько ликов у горя, столько и изображений.
Но и у него, у Эфраима, стряслась беда — умер отец, плотогон Иаков Дудак, гонявший плоты аж в германский Мемель и говоривший по-немецки, как истый немец, а может, и лучше, потому что речь его была понятна не только немцам, но и евреям.
Иаков Дудак, отец Эфраима, хотя и не отличался такой силищей, как сын, был здоровяк из здоровяков, свободно подкидывал в воздух шестипудовую гирю, мог, не согнувшись, удержать на плечах бычка-двухлетку.
— Задуманы на веки вечные, — шипели завистники.
— Кто рождается на кладбище, тот либо долгожитель, либо дьявол во плоти. Дед Иакова Дудака Шимен среди могил родился.
Отец Эфраима был и долгожителем, и дьяволом во плоти одновременно. У него была удивительная способность заговаривать болезни, он не боялся самого лютого холода, расхаживал по снегу босиком, пугая коченеющих от страха перед резней и погромами сородичей, для которых снег и стужа были сущим наказанием, ниспосланным еврейскому народу за его грехи. Когда по местечку пошел гулять невеселый слух о смерти Иакова Дудака, никто поначалу не хотел верить. Те, что побойчей, доили пейсы, посмеивались: мол, нас не проведешь, мы, моет, деньгами бедны, зато ума у нас палата, можем и вам одолжить. Но и самые бойкие, самые заядлые сдались, когда пришло время отпевать бессмертного Иакова.
Он лежал на полу завернутый в саван, казалось, такой же могучий, как прежде, и его крупное, как бы желтушное лицо выражало не смирение перед судьбой, а удивление и непримиримость. Его мертвые, свинцовой тяжести руки плыли по половицам, как бревна по реке, и сын его богатырь Эфраим не мог оторвать от них скорбно-восхищенного взгляда. Потом через два года он поставил на могиле памятный камень с изображением плота, мчащегося по бурным волнам жизни и исчезающего в непроглядной пропасти воды-смерти, а на плоту фигурку, маленькую, неприметную фигурку Иакова Дудака.
Памятный камень стоял бы и по сей день, Иаков Дудак и сегодня несся бы по бурным волнам на своем, уже неземном, плоту, не пристыди ваятеля рабби Ури. Где, мол, ты такое, Эфраим, видел на еврейском кладбище? По еврейскому кладбищу скачут каменные олени, на еврейском кладбище рычат каменные львы, развеваются на ветру раскрытые страницы торы, над еврейским кладбищем круглый год кружатся каменные мотыльки, но плотов никто никуда не гоняет — ни в Мемель, ни к божьему престолу. Как Эфраим ни объяснял почтенному рабби Ури, тот был непреклонен, тот только отмахивался и взамен плотов и рыб предлагал ваятелю виноград, пальмы, плоды граната, голубей, означающих любовь и согласие, и пеликанов с выводком, олицетворяющих родительскую заботу и преданность.
По правде говоря, Эфраиму до сих пор неясно, почему на еврейском кладбище плоту возбраняется лететь в небо, как птице. Небо же — не земля, там всем хватает места, там каждый — и бедняк, и богач, и плотогон, и плот.
— Грех. Неуважение к предкам, — ворчал рабби Ури.
И все, и кончен разговор.
Скрепя сердце Эфраим сколол отцовский плот, переделав его в челнок с маленькой, почти неприметной фигуркой гребца, уронившего весла. Но когда бы Эфраим ни пришел на кладбище, сколько бы ни стоял у отцовской могилы, он всегда видел этот сколотый плот, эту вспененную волнами реку жизни, это буйство и гибельную притягательность воды.
Он видел себя, того, молодого, не обремененного ношей лет, еще не изъязвленного горем, еще не траченного молью, печалью и отчаяньем. Видел свои руки — не сегодняшние, высохшие, как палки, а те, из далекого жаркого лета, лета его первой любви, его неведения; руки, не знающие усталости, сжимающие долото и зубило, резец и молот. С какой легкостью сновали они по камню, сколько в них было завораживающей прыти. Тогда, в то далекое жаркое лето, его руки напоминали двух забияк-петушков: пока не изойдут кровью, не уймутся. То было шестьдесят лет назад. А сейчас? Сейчас жизнь ощипала его боевых петушков. Сейчас до могилы так близко, и так пуста в восемьдесят лет котомка, с которой он придет к господу.
Как много камней и внутри, и вокруг — даже небо теперь как камень.
— Идите дорогой праведных! — говорил рабби Ури. — Вера придаст вам силы.
И они шли и верили — хиляки и богатыри, портняжки и сапожники, каменотесы и парикмахеры, плотогоны и гончары.
Верили! Эфраим может поклясться на библии! Верили в бога, в плот, мчащийся по волнам в небо, в силу, творящую добро и укладывающую зло на лопатки.
И что из их веры получилось?
Плот рассыпался, остались только склизкие мокрые бревна, и каждый норовит присвоить их, чтобы построить свой дом, срубить свой хлев, воздвигнуть свою крепость. Но что это за вера, которая умещается в одном доме, которую можно загнать в хлев, для которой требуется крепость?
Старику Эфраиму дом даже для детей не нужен.
Нет их.
Разлетелись кто куда.
Никогда не думал Эфраим, что заберет его такая тоска по детям, как сейчас, в канун его ухода, в конце его земного пути, который он на протяжении шести десятков лет добросовестно мостил отборными камнями, чтобы им, его счастливым и безвестным потомкам, было легче ходить и ездить (и верить!); пути, который он с обеих сторон обсаживал деревьями надежды, надежды на то, что когда-нибудь — когда его уже не будет и в помине! — сольется он, этот путь, разрезавший, как ножом, местечко на две половины, со вселенской дорогой, и его, Эфраима, дети выйдут по ней к свету и справедливости, к равенству и братству. Но ничто так медленно не плодоносит, как дерево надежды, всю жизнь ждешь его плодов, а на нем за одну человеческую жизнь только почки набухают.
Дорога! Дорога! Как ни пряма она, вспомнил Эфраим слова рабби Ури, а все равно ведет туда, на кладбище. Как странно — не дети, а чужие люди проводят его, опустят в яму, зароют, и не будет среди них, кроме камня, ни одного близкого родственника, ни сыновей, ни дочери. Камни — самые верные его родичи с того дня, когда отказался он пойти в плотогоны и отправился на строительство тракта, добравшегося и до его, Эфраима, родного местечка. Он не хотел быть плотогоном, не хотел быть портным или сапожником. Его сила потешалась над иголкой, презирала шило, требовала не подражания, а самостоятельности. Иаков Дудак, отец Эфраима, сына и дурнем обзывал, и недоумком, но Эфраим не сдался. Господи, сколько камней перетаскал он на себе, сколько их согрел своими руками, сколько уложил в землю, как в колыбель.
Любимица Лея, третья его жена, частенько упрекала его:
— Ты свои камни любишь больше, чем своих детей. Больше, чем меня.
Корила и тайком вытирала свои черные бездонные глаза.
Эфраим обнимал ее своими пудовыми ручищами, прижимал к своей богатырской груди и молча, дыша на нее виной и любовью, не то успокаивал, не то просил прощения, а может, и беззлобно журил.
— Всех на свете надо любить. И тебя, и детей, и камень. Кто ж его, одинокого, полюбит? Кто, если не мы… человеки?
Лея не понимала, почему это надо любить всех, даже неодушевленный камень, но Эфраим уверял ее, что у камня такая же душа, как и у человека. Во всем каменотес искал душу.
— Душу нельзя увидеть глазами, — говорил он. — Потому что глаз алчен и завистлив.
Лея все время ревновала его к чему-то невидимому, не доступному глазу, тонула в его молчании, как в омуте, и потом, в постели, обвивала своими тростниковыми руками его голову, забиралась на него, как на плот, и до утра, опьянев от ласки и неги, в беспамятстве плыла по простыне, как по белому, быстроходному облаку, шептала что-то стыдное, нежное и называла: «Мой камень, мой добрый камень…», а он только улыбался в темноте, и грубое его лицо озарялось улыбкой, как хлев факелом из подожженной пакли.
Он был счастлив с Леей. Недаром она родила ему столько детей, сколько Гниде и Двойре вместе. Двое умерли при родах, а погодки Эзра и Церта уцелели. Двадцать лет прожил Эфраим с Леей, за это время она даже состариться не успела. Другие женщины в местечке старели, седели, покрывались морщинами, а она, его Лея, выглядела как невеста. Эфраим берег ее от сглаза, от шныряющих по местечку странников, отпугивал их своим суровым молчанием, отгонял, как слепней, мог в случае нужды взять самого прилипчивого за шиворот и выставить прочь. Молодость Леи льстила ему, и он просил у неба только одного, чтобы Лея пережила его, чтобы не сошла до времени в могилу, как и две его другие жены — Гинде и Двойре.
Небеса, казалось, не отказали Лее в своей милости, услышали Эфраимову просьбу. Лея цвела, как яблоня, роняя на Эфраима свой цвет и орошая его своей молодостью, как весенний паводок дернину.
Может, потому, а может, по другой причине Эфраим так растерялся, когда Лея вдруг слегла. Все началось с легкого кашля, с невинной простуды (дело было под Рождество), не предвещавшей ничего дурного. Полежит денек-другой в постели, попьет липового отвара или молока с медом, попарит в корыте ноги, и кашель как рукой снимет. Но Лея кашляла пуще прежнего. Даже за околицей, у молельни, было слышно, как она надрывается, бедняга. Никакой отвар, никакое молоко — ни парное, ни кипяченое — не помогли.
Эфраим надел кожух и по льду отправился на другой берег Немана, в крохотный городок, где жил старый фельдшер по фамилии Браве, изредка лечивший и мишкинских евреев.
Эфраим отыскал его дом, объяснил Браве свою просьбу и стал ждать ответа.
Фельдшер Браве крутился возле пахучей, увешанной чистенькими тряпичными гномиками елки и, похоже, не обращал на просителя никакого внимания. Он переставлял своих гномов, поправлял на них красненькие колпачки с таким тщанием, словно от этого зависело все: и жизнь Леи, и продолжительность зимы, и благополучие его дома.
— Господин доктор… Моей жене… плохо… нихт гут, — произнес Эфраим на ломаном немецком, скрестив свой родной язык с языком Браве, как яблоко с грушей.
— Нихт гут.
Всем своим видом Эфраим давал Браве понять, что заплатит — у него, Эфраима, есть марки, да, да, есть, — что он до гроба не забудет господина доктора, только пусть поскорей надевает шубу, пусть оставит в покое своих гномов — с ними ничего не случится, а вот с Леей…
— Майн фрау… руфт мен… Лея… (мою жену зовут Лея), — на яблочно-грушевом наречии сказал Эфраим.
Но Браве, видно, не было никакого дела до Леи, до марок, до талеров, до рублей, до назойливого гостя. Он готовился к Рождеству, и ничто другое его не занимало.
Эфраим затравленно оглянулся.
Взгляд его вдруг зацепился за лисью шубу, висевшую на оленьих рогах в прихожей. В два скачка Эфраим очутился у оленя, снял с его рогов шубу и, не дав Браве опомниться, закутал его в нее.
— О, майн готт! — воскликнул Браве. Он не понимал, что этот огромный, этот лохматый юде собирается с ним делать — убивать или грабить?
Эфраим не выпускал его из своих объятий. Браве хрипел, пытаясь освободиться от собственной шубы и вернуться к гномикам в красных колпачках и желтых сапожках.
Эфраим связал тонконогого, поджарого фельдшера сыромятным ремнем и, пользуясь ранними зимними сумерками, понес Браве из теплого рождественского дома к замерзшей реке, по которой проходила русско-германская граница.
Эфраим нес его задами, огородами, чтобы никому не попадаться на глаза.
Пересек Неман.
— Энтшульдиген зи битте… — шептал он, как заклинание.
Пленник ерзал, закутанный в злополучную шубу, клял насильников-юден, клял близкое соседство с дикой Россией, клял стужу (Эфраим в спешке не заметил, что господин Браве не в ботинках, а в теплых ярких шлепанцах, которые, казалось, сняли с елки), сучил озябшими ногами и негромко завывал. А может, это завывал не он, а ветер, метавшийся между двумя империями.
Когда Эфраим принес связанного фельдшера к себе домой, тот наотрез отказался осматривать Лею.
— Найн! Найн! — мотал он головой, как гном на рождественской елке.
Он принялся снова, в том же порядке, клясть насильников-юден, Россию, стужу, тер ногу об ногу, силясь вернуть им прежнее, германское, тепло.
Лея испуганно смотрела на мужа, на незнакомца, одинаково жалея их, а молчаливый Эфраим кивал то на больную жену, то на себя и приговаривал:
— Энтшульдиген зи битте… ради бога… помогите ей… Я отнесу вас обратно… цурюк… ферштейст? Цурюк… И ботинки дам — шуэ… и носки… Понимаете, носки… по-нашему шкарпеткес, а по-вашему не знаю…
— Умрет твоя жена… дайн фрау… штербен… Умрет… — выдохнул перепуганный, мстительный фельдшер, и Эфраим весь сжался, сплющился, как будто у него вынули кишки. Только теперь он заметил, что у Браве — ни трубки, ни лекарства, зря он тащил его столько на себе, только подверг себя опасности, ведь за такое похищение и взгреть могут, фельдшер пожалуется своему, германскому, начальству, те передадут русским властям, явится урядник, спустит с тебя портки и отсчитает пятьдесят горяченьких. Хорошо еще, если плетьми отделаешься. А вдруг — чтобы улестить германца — тебя сперва в россиенский острог упекут, а потом в Сибирь погонят.
Но что плети, что Сибирь по сравнению с этими ржавыми словами:
— Умрет дайн фрау… умрет…
Пусть секут плетьми, пусть ссылают на край света, но пусть Лея живет. Слышите, господин Браве, пусть Лея живет! Пусть по-прежнему цветет, как яблоня, роняя свой цвет на него, на погодков Эзру и Церту, орошая их своей любовью, как паводок дернину. Слышишь, бог! Пусть живет! Если костлявая изголодалась, если ей нечем набить свое брюхо, возьми меня! Только не трогай Лею!
Эфраиму нестерпимо хотелось спросить у Браве, означают ли его слова обыкновенное проклятье или приговор.
Он на минутку оставил фельдшера наедине с Леей — может, ей удастся расшевелить его! — а сам потопал в прихожую, принес оттуда казанок с остывшей картошкой, поставил на стол, нарезал хлеб, достал соль, подвинул ее фельдшеру. Браве опасливо-брезгливо выловил картофелину, посыпал ее солью и принялся по-стариковски, с чавканьем и чмоканьем, есть, боясь вконец разозлить Эфраима.
Радуясь сближению, Эфраим приволок свои еще не надеванные башмаки, привезенные ему из Вильно преуспевающим начальственным Шахной, поставил перед изумленным немцем и, достав из комода шерстяные носки, предложил ему обуться.
Браве, как курица с насеста, скосил глаза на один башмак, на другой, мысленно их примерил, но обуваться не стал, поднялся из-за стола, скинул свою лисью шубу, положил ее на лавку и, прошелестев шлепанцами, заковылял к кровати, где на взбитых подушках лежала смертельно больная Лея, пунцовая, с растрепанными волосами, глаза у нее лихорадочно горели, и блеск их, подозрительно яркий, больше отдавал закатом, чем восходом солнца.
Дети — Эзра и Церта — испуганно поглядывали на незнакомца, на отца, совершившего ради матери такой замечательный подвиг.
Фельдшер присел на край кровати, взял руку больной, послушал пульс, что-то прошамкал, потом изогнулся, наклонил свое ученое ухо к груди Леи, которая покорно и заблаговременно задрала сорочку.
— Ну? — торопил его хозяин. Эфраиму казалось, будто Браве отдыхает на груди у Леи, касается своим волосатым ухом ее правого соска; каменотес сердился на фельдшера и даже на Лею: чего позволяет этому немцу… Он вдруг подался вперед, чтобы помочь немцу как можно скорее услышать говорок хвори.
Прослушав легкие Леи, Браве принялся высохшими пальцами мять ее живот — ворох спелой пшеницы, — и Эфраим снова весь вспыхнул от ревности и возмущения. В самом деле — что это Браве ее месит, тискает, дразнит хворь?
Эфраим ждал от фельдшера каких-то слов, он и сам не знал, каких, ну, наверно, таких, какие говорят все доктора: «Поправится… завтра станет лучше…» Но Браве был нем, как гном на елке. Он только чмокал губами, только моргал ресницами, и в этом чмоканье, в этом постоянном моргании Эфраиму чудилось что-то неотвратимое. Силясь отодвинуть угрозу, он потерянно, сорвавшимся голосом издали спросил:
— Что вы там… в груди у нее… услышали?
Но Браве не ответил, и от этого Эфраим расстроился больше, чем от его первых страшных слов.
Он бросился к фельдшеру, взял кружку, наладился было сливать ему, но Браве вытащил из жилета носовой платок и принялся вытирать руки. Эфраим стоял как вкопанный с кружкой в руке, вода из кружки лилась на пол, пол прогибался под его огромными ботинками, но несчастный каменотес ничего не замечал.
Фельдшер долго зашнуровывал Эфраимову обувь. Ботинки каменотеса были велики немцу, но тот, похоже, не огорчился. Лицо его выражало крайнюю степень удовлетворения, сменившего прежнее раздражение и злобу. Как же? В таких невыносимых условиях он выполнил свой долг, не нарушил клятвы Гиппократа, которую, если память ему не изменяет, давал на первом курсе королевского университета в Кёнигсберге, хотя и не закончил его по состоянию здоровья (у него открылась чахотка) и по причине потомственной бедности. Йа, йа! Долг превыше всего. Он может уходить со спокойной совестью. Этой юдин… этой, хе-хе, очаровательной юдин никто не поможет — у нее, видно, болезнь крови. Никто. Даже бог, если бы этот ферфлюхтер юде, этот насильник, украл его с неба.
От порчи крови нет лекарства.
Эфраим долго стоял у окна, глядя на согбенную фигуру удаляющегося по местечковой улице Браве, смотрел, как он, нахохлившись, ступает по выложенному им, Эфраимом, булыжнику, и ему страшно было оглянуться на примолкшую Лею, на Эзру и Церту, забившихся в угол, на свой стол, на котором трупно синела недоеденная картофелина, на облупившиеся, давно не беленные стены (Эфраим собирался побелить их, даже белила в москательно-скобяной лавке Спиваков купил). Смотрел на стены и завидовал клопу, который ночью выползет на промысел и потом вернется к своей клопихе. А вот он, Эфраим, должен лечь рядом с умирающей.
— Господи, вырви мой язык, — сказал он тихо.
Дети заплакали, Лея заметалась на кровати; сквозь жар, сквозь лихорадку, сквозь смертный сон, сковывавший веки, прорвалось:
— Ты меня зовешь, Эфраим?
Господи, порази неподвижностью мою правую руку, только верни Лее силы, сделай так, чтобы не я ее похоронил, а она меня, рокотало у Эфраима внутри, и этот рокот грозил разорвать грудную клетку.
Никого он так не любил, как Лею. Никого. Даже родную мать. И не задумывался почему.
Эфраим никогда не задумывался над этим.
А вот сейчас задумался.
Он должен дать ответ не Лее, не Эзре и Церте, а самой смерти, и, поскольку она знает все ответы наперед, надеялся растянуть свой ответ на годы, на десятилетия.
Погоди, смерть, я отвечу, отвечу, отвечу. Садись и слушай.
Но смерти неинтересно, кто кого любит.
Смерть любит самое себя.
И потому она вечна.
И потому всегда остается в выигрыше.
Тогда, у постели умирающей Леи, ему впервые пришло в голову сделать и себе впрок надгробие. Он высечет на нем такие слова:
— Эфраим бен Иаков Дудак, рожденный для смерти в одна тысяча восемьсот двадцать третьем году… каменотес. И все. И больше ни строчки, ибо все остальное неправда.
Он сделал бы его тотчас и поставил бы за один день, если бы не стыдился детей.
Эфраим откладывал сооружение не только собственного надгробия, но и памятника Лее. Пять лет подходящего камня не находил, пока не привез его из Тильзита.
Рабби Ури его и кощунником называл, и упрямцем — такие среди евреев встречаются редко, ибо евреи — не цыгане, евреи бесследно не хоронят — не сравнивают могилу с землей.
— Вы ж, Эфраим, любили ее, — горячился рабби Ури.
— Потому и не спешу. Для Леи надо найти не камень, а перышко.
Он любил Лею.
Ему хотелось, чтобы ей и после смерти было легко.
Он ее и сейчас любит, когда ему восемьдесят стукнуло, и на том свете будет любить, хотя там обретаются и две другие его подруги — Гинде и Двойре.
Рабби Ури не видел, как он ее любил, как несся их плот по ночам, не слышал, какие лютни над ним звучали.
Не видел рабби Ури, как он, Эфраим, держал ее на руках мертвую, как ерошил ее волосы и приговаривал: «Лея!.. Лея!» Рабби Ури не видел, как он баюкал ее, запеленутую в саван, не опуская на пол, как того требовал обычай.
До самого кладбища он нес ее на руках и жалел, что кладбище так близко. Он, Эфраим, мог бы ее нести и нести. Он мог бы ее нести до Мишкине, до Россиен, до Ковно, до Вильно, даже до земли обетованной.
Он принес бы ее в священный город Иерусалим, и бог смилостивился бы над ними и над Эзрой и Цертой, воскресил бы Лею, изгнал бы из ее смарагдового тела хворь, очистил бы от порчи ее кровь, и отправились бы они, помолившись, назад, на родину, в Литву, где такое маленькое, такое серое, как овчинка, небо, где остались все его дети от всех его жен.
Он мог бы скитаться с ней, как цыган, лудить на базарах посуду, красть коней и мчаться на них во весь дух по лугам и полям, по градам и весям, унося ее от смерти.
Уж так, наверно, устроен мир, думал Эфраим, стоя у открытой могилы безвременно сгоревшей Леи, уж так устроен мир, что всевышний отнимает то, что дорого, и дает то, что немило. Не потому ли вчерашний, пусть пасмурный, пусть не очень счастливый день лучше завтрашнего, который еще надо прожить, и неизвестно, каким он будет.
Он стоял и смотрел, как похоронная братия равнодушно, вытирая испачканные мокрой глиной носы, ловко орудуя лопатами, зарывает его вчерашний счастливый день, его козочку, его виноградник, а он — богатырь, косая сажень в плечах — бессилен перед взмахом этой ржавой и вездесущей лопаты.
Гелэв гаволим!
Суета сует и всяческая суета!
Двадцать лет промчались как один миг. Эфраим сидит в синагоге и ждет своего друга водовоза Шмуле-Сендера, который помогает ему искать камень для надгробья.
Шмуле-Сендера нет. Молельня пуста.
Эфраим глядит на ковчег завета, расписанный добродушными лиловыми львами, держащими в своих когтистых лапах не то кубки с праздничным вином, не то роги, полные меда, и, комкая каравай Моисеева Пятикнижия, что-то бормочет себе под нос.
Время — костер, бормочет он, события — хворост, а человек — овца для заклания. Костер пылает, хворост трещит, овца дрыгает ногами, и так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, из века в век и снова изо дня в день, и ничего не меняется на белом свете, даже если кто-нибудь и убавит пламя, если хворост и намокнет, если овцу перед тем, как принести в жертву, отдадут стригальщику, все равно через час, через восемьдесят лет (разве восемьдесят лет — не один час?) отнимут ее и бросят в огонь.
Почему же ты меня забыл?
Потому что шерсть моя запаршивела?
Потому что одинаково нет проку ни в моей жизни, ни в моей смерти? Восемьдесят лет прожил, а бурдюк пустой.
Господи, неужели мне столько? Неужели столько лет день за днем, год за годом я прихожу в эту убогую молельню и не свожу глаз с этих лиловых львов, держащих в лапах вестников твоей безъязыкой радости и веселья? Хоть бы один раз разинули свою пасть, хоть бы один раз зарычали от моего вздоха, от моего взгляда, от моего стона! Молчат! Молчат!
Старик Эфраим косится на ковчег завета и сам порыкивает, и рык его отдается в пустой молельне зловещим эхом. Эфраим пугается звука собственного голоса, но тут в синагогу входит его друг и советчик водовоз Шмуле-Сендер, сухопарый, благообразный, с плавными, будто смычком водит по струнам, движениями, в длинном зипуне, подпоясанном замызганным поясом. Он подходит, вернее, подкрадывается к Эфраиму и, по-заговорщицки хихикнув, бросает:
— Нашел! Нашел для тебя камень! Всем камням камень!.. В имении графа Завадского. Попросишь Юдла Крапивникова, он тебе, глядишь, и отдаст…
Шмуле-Сендер произносит это с непонятным Эфраиму волнением, как будто речь идет не о могильном камне, а о краденых драгоценностях, садится рядом с каменотесом и против обыкновения замолкает. По его непривычному молчанию, по глазкам-пуговкам, бегающим по ковчегу, амвону и даже потолку, Эфраим догадывается, что камень в имении графа Завадского — не единственная новость, которую принес в молельню водовоз. Так уж повелось исстари, что балагулы и водовозы больше всех знают: весть то по реке приплывет, то в дороге под полог кибитки попросится. О войне, о море, о голоде, о погромах первыми местечковому жителю сообщают они, возницы, заменяя большинству газету. Так, помнится, Эфраим от Шмуле-Сендера узнал об освобождении крестьян. Шмуле-Сендер примчался в синагогу с криком:
— Свобода, евреи! Свобода! Да пошлет всевышний царю Александру Второму радость и процветание! Свобода!
Когда евреи разобрались, в чем дело, то оказалось, что это не их свобода, а крестьянская, но виду не подали и продолжали ликовать. Ничего не поделаешь — при отсутствии собственной радуешься хотя бы чужой. В другой раз Шмуле-Сендер вкатил бочку на рыночную площадь, влез на нее, набрал в легкие воздуха и что есть мочи заорал:
— Убили! Евреи, убили!
Поначалу все на базаре подумали, будто евреи совершили какое-то тяжкое преступление, окружили бочку, с которой разглагольствовал Шмуле-Сендер, стащили его с нее и чуть в клочья не разорвали. К счастью водовоза и еврейской общины, выяснилось, что убили царя-батюшку, того самого, что крестьянам свободу даровал.
В отличие от Эфраима, Шмуле-Сендер без слов не мог и минуты обойтись. Слова были его пищей. Он набрасывался на них, как голодный воробей на хлебные крохи. Порой казалось, что только ими, словами, Шмуле-Сендер и сыт. Он мог безостановочно говорить круглые сутки.
Что-то явно скрывая от Эфраима, Шмуле-Сендер снова принимается нахваливать графский камень:
— Пух лебяжий, а не камень… Чтобы мне под таким лежать… Легкий, красивый, с прозеленью… Только из-за него стоит сойти в могилу!
Словолей! Говорун! А все потому, что воду возит. Воду возить — не ремесло. Воду возить каждый умеет. А то, что умеет каждый, не работа, а развлечение. Он, Эфраим, хоть завтра, хоть сейчас — дай ему только лошадь и телегу — нальет бочку воды и развезет по домам. А вот Шмуле-Сендер надорвется, если вздумает камни ворочать.
В местечке дивились их дружбе — до того они были разные. Эфраим — молчун, увалень, ломовая лошадь, Шмуле-Сендер — словоблуд, хиляк, попрыгун. Однако дружили они с детства, с хедера, где их сек яростный меламед Гершен, который иногда, обленясь, доверял их зады и своей жене Малке. Ясное дело, кого вместе секут, те друг за друга всю жизнь держатся.
Эфраим не давал Шмуле-Сендера в обиду, приходил в ярость, когда над водовозом посмеивались, обожал слушать его побасенки о царе, которого он якобы своими глазами видел. «Как тебя вижу. Вышел из леса, в правой руке — подстреленный заяц, в левой — винтовка с золотым стволом!», о других странах и народах, например об Африке («Они там все черные и круглый год ходят в чем мать родила!»), об Америке («Там есть евреи-губернаторы! Чтоб я так жил! Если бы мой Береле не занялся бы там торговлей часами, и он бы стал губернатором!»). Эфраим никогда не принимал на веру его небылицы, но без них скучал и тянулся к Шмуле-Сендеру больше, чем к нищему Авнеру, с которым тоже издавна водил дружбу.
Шмуле-Сендер Эфраиму и Двойре, вторую жену, сосватал. Пришел однажды и выпалил:
— Есть у меня для тебя, Эфраим, невеста! Уж эта точно не умрет. Потому что все время околачивается на кладбище и оплакивает других. Зовут ее Двойре-Дада. Дада — прозвище. Она никогда не говорит «нет!», а только «йе-йе» — «да-да».
Что за наваждение? После того как стукнуло ему восемьдесят, все его жены начали ему сниться то в отдельности, то вместе. На прошлой неделе он видел такой сон:
приходит Гинде, первая его жена, ложится в постель, требует, чтобы и он, Эфраим, лег;
только лег — стук в дверь;
слезает с кровати, открывает, а там Двойре, вторая его жена, та, которую Шмуле-Сендер ему сосватал;
и она — в постель;
Двойре-Дада — справа, Гинде — слева;
и ждут;
а он не шелохнется — застыл на пороге, в одной сорочке, чешет голую грудь;
снова стук;
Лея!
И тут Эфраим проснулся.
Стыд и срам видеть такие сны. Да еще в его возрасте. Но жены словно сговорились — приходят в его сновидения, как покупатели в лавку, пялят друг на дружку глаза, делят его на три части, как воловью тушу:
Гинде, первой его жене, — руки.
Двойре-Дада — ноги.
Любимице Лее — грудь.
Тьфу!
Во сне они все молодые, а он — старый. Чего старому покоя не дают?
Эфраим сидит в молельне и вспоминает всех своих жен.
Двойре-Дада была хорошей женой, но занудой и скупой, как все старые девы. Но ни ее занудство, ни ее скупость так не донимали Эфраима, как это ее вечное «да-да!».
Хоть уши затыкай! Со всех сторон на голову бедного Эфраима обрушивалось «да-да», «да-да», «да-да». Словечко жены подстерегало Эфраима в каждом углу, в чулане, на чердаке, часы с тяжелым маятником тикали: «да-да, да-да», птицы на ветвях выводили: «да-да», половицы поскрипывали: «да-да». Паршивая присказка заменяла Двойре все глаголы и существительные.
Иногда и в постели до слуха обессиленного Эфраима ни с того ни с сего долетало:
— Да-да… Да-да…
То ли как просьба, то ли как укор.
Поначалу Эфраим проклинал тот день, когда поддался на уговоры своего друга Шмуле-Сендера и обвенчался с Двойре, хотя и признавал все ее достоинства (и немалые!). Она была удивительно чистоплотна, бережлива, предана до судорог, любила пасынка Шахну — первенца Эфраима, любила как своего родного сына, ничего не жалела для него, не делала различия между ним, сыном Гинде, и Гиршем, их общим с Эфраимом чадом, целыми днями Двойре не бывала дома, кого-то обмывала, оплакивала, пропадала на кладбище, ухаживала за всеми могилами, даже за теми, которые давным-давно мхом обросли, не пропускала ни одной похоронной процессии, всегда шла впереди вместе с родственниками покойника или покойницы, поддерживала их под руку, шептала свое непостижимое «да-да», обязательно заглядывала в яму и, примеряя ее к себе, искренне и громко причитала (слез у нее было больше, чем у любой другой местечковой бабы), потом возвращалась домой и на все вопросы домочадцев, начиная с материи, из которой сшит был саван, и кончая числом скорбящих, отвечала:
— Да-да… Да-да…
И свою смерть, как считал Эфраим, Двойре привела оттуда, с кладбища.
Ходила, ходила и привадила.
— Ты ее еще к Гиршу и Шахне приведешь, — разозлился однажды Эфраим.
А она взяла и ответила:
— Да-да… да-да…
Смертельно больная, она лежала в постели, отказываясь от пищи, не подпуская ни на шаг Эфраима, а Шахну и Гирша дребезжащим голосом гнала от себя, как будто они и впрямь могли заразиться смертью.
— Не приближайтесь! Не смейте!
Чувствуя свою вину перед ней, Эфраим изредка подходил к кровати, на которой она угасала, хватал ее, эту кровать, своими могучими ручищами, выносил во двор, ставил под дикую грушу, и тогда солнце золотило пепельно-серые волосы Двойре, и волосы вспыхивали, как пучок соломы, а Эфраим стоял в изголовье, держась за дубовую спинку, смотрел на спокойное, умиротворенное лицо жены, на котором земляничкой розовела родинка. Эфраиму непонятно почему хотелось ее сорвать, и от этого желания душу захлестывали не безропотная печаль, не дряблая жалость, которую обычно испытываешь при виде умирающего, а какой-то глухой рокот.






