Козлёнок за два гроша Канович Григорий
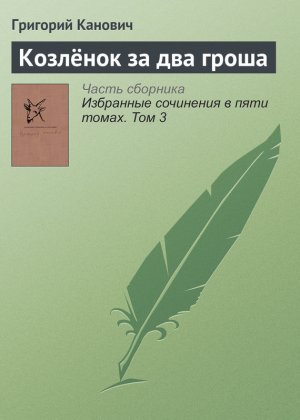
— Он собирается его выкопать.
— Кого?
— Моего брата Гирша Дудака. Спасите его, ваше благородие.
— По-моему, спасать надо тебя, ласковый ты мой.
— Меня?
— Разве ты допустишь, чтобы отец в его возрасте рыл один?
— Ратмир Павлович… Господин полковник…
— Я ничего не знаю. Но скажу тебе, Семен Ефремович, только одно: дай бог, чтобы у каждого был такой отец…
— Спасибо, ваше благородие… Спасибо, — зачастил Семен Ефремович.
— Делай что хочешь. Но я ничего не знаю. Мне все равно, где будет покоиться казненный. Земля для мертвых всюду одинакова.
— Не скажите! — бросил Семен Ефремович и осекся. — Если родина не может пригреть живых, то она должна приютить хотя бы мертвых. У каждого из нас должно быть право вернуться на свое кладбище. Иначе, согласитесь, оно теряет смысл и из места людской памяти превращается в свалку.
— Не буду с вами спорить, — перешел вдруг на «вы» Ратмир Павлович. — Поступайте, как знаете. Только не впутывайте меня!
Сказать отцу о смерти Гирша Шахна не посмел не потому, что боялся этой вестью добить его — тот к ней давно был готов! — и не потому, что боялся разгласить государственную тайну — завтра или послезавтра досужие виленские газетчики разнесут по всему Северо-Западному краю молву о повешенном, — а потому, что тогда старик потребовал бы, чтобы он сказал всю правду. Нет, не про Гирша. Про Эзру, про него, Шахну, а этой правды отец, будь он и помоложе, не перенес бы.
— Что теперь с ней делать? — спросил старик Эфраим, протягивая Шахне купленную за два рубля и сорок копеек подзорную трубу, которой, видно, пользовался еще сам Наполеон.
— Отвези ее в Мишкине. Приедет Церта с Давидом. Подаришь ему. Пусть смотрит.
— На что?
— На птичек, белок, ворон.
Они говорили о каких-то пустяках, но Семен Ефремович не обольщался, знал, что главный и самый трудный разговор впереди.
— Пойдешь с нами?
«С нами» — это значило — с ним и Шмуле-Сендером. Да представляют ли они себе всю тяжесть и всю опасность предстоящей работы? Видно, думают, что приехал на военное поле, спрятал лошадь в кустах, взял лопату и начал копать. Военное поле — не огород, не грядка, а огромный пустырь, который тянется по крутосклону до самой Вилии. И рвов там видимо-невидимо. Поди отыщи тот самый, где зарыли Гирша.
Отказаться от предложения отца было равносильно предательству. Но и соглашаться Семен Ефремович не спешил. Даже негласное разрешение Ратмира Павловича не радовало его, не вдохновляло. Князеву что? Он за порядки на военном поле не отвечает. Порядок на военном поле поддерживают солдаты первого виленского пехотного полка, в основном новобранцы. Их там днем унтеры обучают: «Встать!», «Лечь!», «Встать!», «Лечь!» Иногда местные жители пригоняют на военное поле своих телок и коз; по весне там — особенно поближе к реке — трава сочная и высокая.
Семен Ефремович как-то, еще будучи семинаристом раввинской семинарии, забрел туда и еле ноги унес: какой-то веснушчатый унтер-офицер устроил ему допрос — то был первый и последний допрос в его жизни, но он, Шахна, еще легко отделался. Унтер-офицер поставил его перед отделением, как мишень, и скомандовал: «Пли!», новобранцы принялись целиться в его ермолку. Но только целиться. Мысль о том, что ему могли размозжить череп не за то, что он совершил государственное преступление, а за простое любопытство, долго колыхала его черную молитвенную шапочку.
Семен Ефремович мог бы — он даже собирался! — рассказать отцу об этом давнем происшествии, но вовремя удержался. Прослывет в его глазах трусом. И снова со своего листка-насеста взмыла бабочка и полетела через притихшую комнату! Разве доктор Хаим Брукман не говорил ему, что никакой бабочки нет? Нет, конечно, нет. Бабочка — плод его воспаленного воображения, порождение его усталого мозга. Стоит немного отдохнуть, и все станет, как прежде. А как было прежде? Прежде — это когда?
Ни с того ни с сего Семен Ефремович взял в руки подзорную трубу, повертел, приложил к правому глазу — осторожно, с опаской: а вдруг та маленькая, неприметная бабочка увеличится во стократ, движется на него и раздавит.
Он быстро отложил трубу в сторону и принюхался.
Слава богу, полуовн-получеловек Беньямин Иткес не портил воздух; пахло сиренью — как раз напротив дома цвело сиреневое дерево, и запах его цветов по весне плыл над Большой улицей, которая казалась тогда не клоакой, не нагромождением нор, куда поминутно прячутся двуногие звери, а садом.
Семен Ефремович вспомнил, что два буйных сиреневых куста голубели и на военном поле. Он ходил туда. Ему издавна, еще с детства, еще с той поры, когда он жил в местечке, нравился и этот запах, и эти цветы, от прикосновения к которым он как бы становился чище. Может, так оно и было. Ведь это было прежде. Прежде. Прежде — это когда?
Шахна прикидывал и так и эдак, и все равно получалось, что затея отца — чистое безумие. Конечно, каждый мертвый должен покоиться не в заросшем репейником рву близ славного города Вильно, каждый мертвый должен прийти — как? с чьей помощью? — туда, где он родился и рос, где даже кладбище — предмет гордости.
Богатыри! Что они втроем могут?
Что?
Скажем, улучат удобную минуту, въедут ночью, когда солдаты спят, на кладбище, выгрузят свои лопаты и заступы. А дальше? Дальше что?
— Ты можешь узнать то место? — тихо, катая по столу подзорную трубу, поинтересовался Эфраим.
— Я ж тебе, отец, сказал: в одном из рвов… Хотя и не имел права.
— Все еще боишься?
Нет, нет, он, Семен Ефремович, больше не боится — ни Ратмира Павловича, ни полуовна-получеловека Беньямина Иткеса, ни бабочки, которая нет-нет да взмывает над его головой. Господи, копать военное поле — это все равно, что копать земной шар. Для двух стариков, которым вместе сто пятьдесят лет, это даже больше, чем земной шар. Они что — вознамерились копать Вселенную?
— Да. Вселенную! — отрубил Эфраим.
Он стал убеждать Шахну, что тот зря поднимает панику; если богу будет угодно и он повесит на небо ясную луну, то они без труда отыщут эту могилу, в которую наспех — Эфраим в этом не сомневался — зарыли несчастного Гиршеле. Три ночи, доказывал Эфраим, и дело будет сделано. Почему три? В первую — они присмотрятся, во вторую начнут копать, а в третью — кончат. А солдаты? Он сам был солдатом. И Шмуле-Сендер был солдатом.
— Хорошо, — сдался Шахна. — А хоронить где собираетесь?
Старик Эфраим задумался:
— До Мишкине не довезем.
— До Мишкине? Да понимаешь ли ты, отец, что говоришь? До Мишкине примерно триста верст.
— Жаль, — сказал Эфраим. — Придется на Антокольском еврейском кладбище.
— Нет, — чуть не выдал себя Шахна.
Погребальная братия — хевра кадишим — узнает их, и тогда пиши пропало. Начнутся вопросы, расспросы: чего, мол, каждый день по брату хороните. Куда угодно, только не на Антокольское! Уж лучше в Мишкине.
Семен Ефремович прислушался и возненавидел свое сердце: так громко оно колотилось.
— Сперва Гирша надо найти, — сказал он, и отец понял это как согласие.
К удивлению Эфраима, Шмуле-Сендера пришлось уламывать еще дольше, чем Шахну.
На все их доводы он твердил одно и то же:
— А что, если у меня лошадь заберут?
И Эфраим, и Шахна убеждали его, что лошадь никто не тронет, что они ее спрячут в кустах, но Шмуле-Сендер, страдая от своей непонятливости, отвечал:
— А что, если лошадь отберут?
Что он без гнедой значит в жизни? Господи, прости и помилуй, без нее хуже, чем без Берла. Берл — далеко, за тридевять земель, а лошадь, она вот, рядом.
— Ты оставишь меня? — в упор спросил водовоза Эфраим.
Чувствуя себя виноватым за клятвопреступление, Шмуле-Сендер не мог ответить Эфраиму прямо; он юлил, вилял, клялся, что у него грыжа, а при грыже копать рвы строго-настрого возбраняется — можно в один миг протянуть ноги. Но грыжа — это не главное; главное — это его орлица, его лошадушка!.. Вернись он без нее, Фейга его из дому выгонит. А вот приди лошадь без него, Фейга и бровью не поведет.
— Когда мы справимся, — выдохнул Эфраим и показал на Шахну, — он купит тебе новую лошадь.
— Зачем мне новая лошадь? — сопротивлялся Шмуле-Сендер.
— Значит — врозь? — прогудел старик Эфраим.
И это короткое словечко «врозь», в котором не слышно было ни звона денег, ни ржанья своенравных рысаков, все перевернуло в водовозе.
— Вместе!
В душе Шмуле-Сендер надеялся, что Эфраим не столько оценит его участие в перезахоронении Гирша, сколько простит ему его страшную ложь про Эзру. Шмуле-Сендеру не раз приходилось лгать, но эта ложь отравляла ему жизнь, делала его еще несчастней, чем прежде.
Заговорщики договорились, что отправятся на военное поле не вместе, а раздельно: Эфраим и Шахна придут пешком, а Шмуле-Сендер приедет туда, как только стемнеет, и привезет необходимый инструмент — лопаты, заступ, веревки, которые Семен Ефремович накануне купил в москательно-скобяной лавке.
Военное поле было неровным, в кочках, насыпях жженого угля, сваленного бог весть кем; оно было вдоль и поперек изрезано неглубокими рвами, заросшими скудной, жесткой растительностью. На самом обрыве гляделись в воду два буйных куста сирени, но сама сирень была жива и еще издалека источала ни с чем не сравнимый запах, облагораживавший и эти груды, и эти кочки, и эти рвы.
Старик Эфраим и Шахна прочесали все поле в двух направлениях, стараясь в каком-нибудь из рвов отыскать свежую глиняную плешину.
В середине они сошлись, и по их невеселому виду сразу же можно было понять, что поиски их были напрасны.
— А ты уверен, что его зарыли здесь? — тихо промолвил Эфраим.
— Здесь… Я своими глазами читал документ…
— Может, этот документ — обман?.. Одно написали, другое сделали, — предположил Эфраим. — Там, — он показал рукой в сторону двух сиреневых кустов, — есть какой-то бугорочек. Может, с этого места и начнем?
Они осмотрели со всех сторон бугорок, просеяли сквозь пальцы глину, переглянулись. Глина и впрямь была свежая; она рассыпалась — как изюм, подумал Эфраим! — но сам бугорок был слишком мал, словно его вырыл ревностный подземный трудяга-крот.
Подъехала телега.
Остановилась.
Эфраим попросил Шмуле-Сендера, чтобы он подкатил поближе: за этими пышными кустами сирени можно спрятать лошадь, да и лопаты зачем зря таскать?
Но водовоз не послушался.
Он оглядел военное поле, и ему казалось, что этот крутосклон, этот обрыв над рекой и есть тот конец света, о котором ему еще в далеком детстве рассказывала бабушка.
Правда, тот конец света его не пугал, а вот этот привел просто в оцепенение. Не дай бог, лошадь сделает неосторожный шаг, свалится с обрыва, плюхнется в воду и поплывет по Вилии в море, а из моря в океан, а из океана на Ривер-стрит и увидит его, Шмуле-Сендера, сына раньше, чем он сам.
— Ближе подъезжай, ближе! — повторил Эфраим.
— А вы нашли?.. — дрожащим голосом выдавил Шмуле-Сендер.
— Давай, давай! — подстегнул его Шахна.
Шмуле-Сендер нетребовательно стегнул лошадь, и телега, заваливаясь на бок, подпрыгивая на кочках и ныряя в бесчисленные рвы, подкатила к кустам сирени.
Водовоз привязал лошадь к кусту, вытащил из телеги лопаты, заступ, веревки, поволок их к старику Эфраиму и Шахне, стоявшим над желтым бугорком, как над родной могилой. Первым взялся за лопату старик Эфраим.
Он копал не пустырь, не военное поле, а что-то такое, что никак не складывалось в название — то ли это была Вселенная, то ли это была небесная твердь, то ли это было его собственное, старое, уставшее жить и надеяться тело.
Шахна несколько раз пробовал подменить его, напомнить о своей очереди, но Эфраим только оттирал его плечом и продолжал орудовать лопатой.
Хотя он уже понимал, что под этим бугром его сына Гиршеле нет, Эфраим хотел докопаться до недр, до самой сути, до того пласта, за которым кончается земля и начинается царство теней. Ему хотелось проткнуть лопатой хотя бы одну из них или поддеть ее и поднять на поверхность.
Но тщетно!
Оставив это, как им казалось, верное место, они перешли к другому, залитому луной, которая всегда останется единственной плакальщицей для тех, кого господь не сподобил чести быть зарытым на родине.
— Попробуем тут, — сказал Шахна.
Старик Эфраим, обессилев, смотрел, как его сын вонзает лопату в землю, как выбрасывает наверх глину, перемешанную с жухлыми прошлогодними листьями, как грязной рукой вытирает пот на своем высоком, столь ценимом в аду, лбу. Он смотрел на него и думал, что это не занятие для того, кому безразлично, где будут покоиться кости его братьев. Думал о том, что, может, это рытье научит его чему-то большему, чем научили его они, Эфраим и Гинде, что если он ничего и не выроет, то что-то — может, свой позор? — зароет.
Не было Гирша и в этой яме.
— Может, на сегодня хватит? — пропищал Шмуле-Сендер, глядя, как лошадь своей огромной головой чешется о куст сирени, как бы желая навеки, до конца своих лошадиных дней, впитать этот благородный, не конюшенный запах. Вместе со своей гнедой почесывался о куст сирени и Шмуле-Сендер, но то было другое почесывание, скорее от страха, чем от удовольствия. Да и как тут было не страшиться? Шмуле-Сендер от литовского Иерусалима всего ждал: и велегласных молитв, и богатства, пусть не его — чужого, на чужое богатство тоже приятно посмотреть, приятней, чем на чужую нищету. Но такого он не ожидал! Если бы ему во сне приснилось, что он вместе с Эфраимом и его старшим сыном Шахной стоит на пустыре и разрывает могилы, он, Шмуле-Сендер, в постели бы умер. А ведь вот же не умер! Жив! Почему? Разве только потому, что не свое роешь…
— Ты прав. На сегодня хватит, — после третьей попытки выдохнул Эфраим.
По закону предков полагалось семь дней не выходить из дома, сидеть на низенькой табуреточке в одних носках и молча горевать о покойнике, но никакие законы — ни имперские, ни божьи — сейчас не существовали для Эфраима, у него не было времени сидеть сложа руки, даже горевать, хоть большего горя он еще в жизни не испытывал. Умрет жена — горе, но когда у тебя забирают сына или дочь, никем их не заменишь. Жена может быть другой, а дети — всегда единственные!
Самое трудное было ничего не делать и ждать ночи. Эфраим торопил день, гнал минуты и часы, подстегивал их, как лошадей, чтобы только поскорей промчались, а они тянулись как обычно; солнце двигалось медленно, и мысль Эфраима катила его, будто каретник готовое колесо — к закату, к закату, к закату. Ему не терпелось снова очутиться на этом пустынном поле, среди этих заросших бодяком и репеем рвов, где солдаты-каратели так умело разровняли землю, что и днем, пожалуй, могилу Гирша не сыщешь. Но Эфраим не терял надежды. Главной его заботой было не упустить Шмуле-Сендера, который жаловался на то, что он не может то снимать, то водружать бочку на телегу, что за день в Еврейской больнице он так устает, что у него все из рук валится.
Теперь уже они отправились туда не раздельно, а вместе. Может, не доверяли друг другу, а может, боялись, что Шмуле-Сендер не приедет — человек слаб! — возьмет и не приедет.
В годы Эфраимовой молодости мертвецов несли до самого кладбища на руках.
— Мертвец как ребенок, — объяснила ему бабушка. — Только пеленки разные.
Из памяти, из таких же бесконечных, заросших репеем и бодяком рвов, вставали какие-то лица, как дым, поднимались какие-то слова. Несли на руках! Теперь — даже если им подфартит — на руках до Антокольского кладбища не донесешь. Руки не те. Ну что за руки стали, что за руки?
Старик Эфраим вздыхал, косился на Шахну, тот в свою очередь разглядывал его, как чужого, неживого; Эфраим и впрямь был какой-то неживой: не ел, не пил, не разговаривал, вертел в руке эту дурацкую подзорную трубу, иногда прикладывал к правому глазу и не отрываясь смотрел на голую стену.
Что можно увидеть на голой стене?
Ничего.
Разве что клопа, вылезающего из-под обоев?
Но Эфраим видел все: и прошлое, и настоящее, и будущее.
Видел Гирша.
Видел, как он тонет в Немане.
Как два крестьянина-литвина вытаскивают его из воды, кладут на землю, наклоняются к нему и начинают оживлять своим дыханием.
Он, Эфраим, этим литвинам поклялся служить вечно; отблагодарить их не деньгами, а тем, чему цены нет.
И отблагодарил.
Приходил на местечковое католическое кладбище и, не обращая внимания на возмущение самого рабби Авиэзера, читал над их могилами поминальную молитву — кадиш.
Кто прочтет кадиш над безвестным рвом, заросшим репеем?
Никто не прочтет. Никто. Ни литвин, ни поляк, ни татарин. Ни еврей.
Может, только солдаты, которые в ночном дозоре бродят по военному полю, нет-нет да остановятся там, где зарыт Гирш Дудак, его сын, его кровиночка, и помочатся на могильную глину.
Нельзя допустить, чтобы могилы поливали не молитвами, а мочой.
Пока он, Эфраим, жив, он этого не допустит. А они — Шахна и Шмуле-Сендер — как хотят.
Шахна — если он хочет искупить свои грехи — должен помочь ему, быть с ним до конца, не оставлять один на один с этим грозным и пустым полем. Он хотел спуститься в ад, чтобы творить добро. Вот он — его ад, пусть опускается, ниже, ниже, ниже, по самую шею!
Если они наткнутся на Гирша и извлекут его из этих рвов, то ему, Эфраиму, придется задержаться в Вильно надолго. Может, навсегда.
Похоронить на Антокольском кладбище — это значит сделать полдела. Надо его Гиршу надгробие соорудить.
Гирш был самый красивый из его сыновей. Самому красивому сыну полагается и красивое надгробие. Только бы достало сил, только бы не выронить долото. Выронишь, и некому будет его поднять. Некому. Шахна не поднимет. Эзра — даже не нагнется. А Церта? Разве долото — женское дело.
Одна надежда на внуков: на Давида и на этих двух — Миры и Дануты, — которые стучатся в мир, как спелые яблоки на ветке в окно…
Что поделаешь: будет у него один внук-шляхтич! Пусть! Только бы родился здоровый шляхтич Дудак!
Эфраим с тревогой взглянул на небо. Оно было затянуто тучами, только кое-где пробивалась луна, освещая тихую, почти вымершую комнату на Большой улице.
Там же, на дворе, уже без бочки, стояла телега Шмуле-Сендера.
Накрапывал мелкий дождь.
Все против меня, думал старик Эфраим, и военно-полевые суды, и рвы, и само небо.
— Господи, — взмолился он. — Если ты на самом деле хочешь мне помочь, рассей тучи!..
Дождь царапал по стеклу, словно кожевник иглой по коже.
— Рассей, — просил Эфраим.
— Отец, — пристыдил его Шахна. — Ты обращаешься к нему, как к городовому.
— Если он не рассеет тучи, он и будет городовой, — кощунственно промолвил Эфраим и снова глянул на небо.
О чудо! Бог, тот самый бог, которому он верил восемьдесят с лишним лет, не захотел быть городовым.
С запада налетел бодрый ветер, разогнал тучи, и вымытая дождем луна засверкала еще ярче, чем прежде.
Когда мы приедем на военное поле, подумал Эфраим, мы попросим его, чтобы он ткнул своим божественным перстом в то место, где похоронен наш сын… наш брат… человек…
На сей раз они решили начать с самого края. Вряд ли солдаты утруждали себя долгими поисками; похоронили Гирша там, где и повесили.
Но и следа от виселицы нигде не было, хотя луна светила так, как все субботние свечи во всех еврейских домах.
Лошадь Шмуле-Сендера дышала сиренью; она спешила надышаться ею потому, что больше жизнь не будет баловать ее такими запахами. Только она, видно, жалела, что не сегодня-завтра этот удивительный, этот благовонный запах кончится, ей хотелось здесь остаться до последнего дыхания, никуда не двигаться, ничего не возить — она уже все в жизни перевезла! — жить здесь, на этом обширном поле, где, кроме нее, ее седоков и этих двух пышных кустов, никого нет. Да и зачем ей кто-нибудь? Мало ли она на своем веку повидала!
Шмуле-Сендер, который по совету Шахны купил три больших свечи на случай, если тучи не рассеются, радовался тому, что их не надо будет зажигать. Свечи могли привлечь внимание солдат, а луна испокон веков ни в ком не вызывала подозрения. Он ходил за Эфраимом по пятам и, видно, как и он, молил всевышнего, чтобы тот простер свой божественный перст и прожег тот клочок земли, который приютил злополучного Гиршеле-Копейку.
Но от бесконечных тычков в другие, не менее важные, участки земной коры божественный перст всевышнего, наверно, распух и ангелы перевязали его тряпкой.
Не терявший до сих пор самообладания Шахна начал нервничать. Тупое, тихое раздражение охватывало его не только от тщетности поисков, но и от слишком яркой луны, высвечивавшей — страшно вымолвить — его безразличие. Отец всегда отличался своими причудами. Всегда. Но мы живем в такое время, когда миру не до причуд, когда весь мир — сплошное военное поле, где в каждом рву лежит по одному безымянному, а может, и по сотне безымянных сыновей!
И я здесь лежу, думал Шахна, и белый счастливый Берл, все уехавшие и оставшиеся, все вкусившие свободы и не вкусившие ее, все мечтающие о бурых медведях и о справедливости без порки. Все.
— Копай, — сказал Эфраим. — Копай! Кажется, изменился ветер?
Они прислушались.
— Северо-западный, — сказал Шмуле-Сендер, разбиравшийся не только в качестве литовской воды, но и в направлениях литовских ветров.
— По-моему, скорее северный, — выдохнул Эфраим. — Как бы снова не нагнало туч.
— Не нагонит, — успокоил его Шмуле-Сендер.
Несмотря на то, что ему пришлось бросить свою работу в Еврейской больнице и что для покупки рейтузов не хватало еще полтинника, он тем не менее не унывал. Может, оттого, что был освобожден от рытья и не чувствовал тяжести этой бросовой, неплодородной земли. Что это за земля, которая родит только репей и трупы?
Поскольку Шмуле-Сендер был занят лишь слежкой за луной и лошадью, он первым заметил чьи-то силуэты на самом обрыве.
— Сюда идут! — пролепетал он.
Силуэты приближались, и теперь уже можно было разглядеть винтовки.
— Солдаты, — невесело заметил Шахна. — Видно, ночной дозор.
— Копай! — приказал старик Эфраим. — Копай!
— Может, не злить их?
— Копай! — чуть не вскричал каменотес. — Или отдай мне лопату!
Солдаты приближались.
Они шли не спеша, коротенькой цепочкой, и Шахна успел их сосчитать — трое.
Три на три, с горькой усмешкой подумал он, но рыть не перестал.
Шаг у солдат был какой-то не военный, совсем не воинственный. Видно, прогулка на это поле не доставляла им большого удовольствия. В самом деле: чего они тут не видели? Рвы, груды жженого угля, горы ветоши, которые жители, жившие неподалеку, ухитрялись сюда вывозить и сваливать, несмотря ни на какие запреты. Два буйных куста махровой сирени, которые давно пора срубить, чтобы внимание не отвлекали. Родион Дмитриевич, их командир, давно это предлагал. Негоже, чтобы на поле, где приводят в исполнение смертные приговоры и обучают новобранцев, цвела легкомысленная сирень.
Теперь дозор приблизился настолько, что уже видел копателей.
— Стой! Стрелять буду! — разнесся над полем молодой, не порченный ни грустью, ни жалостью голос.
— Можно подумать, что мы лежим, — невесело сострил Эфраим.
— Кто такие? — осведомился тот же молодой голос у Шахны.
Семен Ефремович не знал, что ответить. Наконец нашелся:
— Люди.
— Кто разрешил копать?
— Никто.
Только бы лошадь не заржала, подумал Шмуле-Сендер и, поскольку другого заступника кругом не было, снова обратился к богу.
Лошадь вела себя безучастно. Видно, запах сирени опьянил ее.
— Золото ищете?
Солдату и в голову не могло прийти, что они ищут здесь что-то другое. Золото. Ну, конечно, золото. Говорят, на этом поле когда-то зарыл клад сам Наполеон.
— И что — много нашли?
В его голосе впервые прозвучала нотка заинтересованности. Если золото, тогда… Тогда и поделиться можно.
— Нет, — ответил Эфраим. — Я сына ищу.
Зря сказал, подумал Эфраим. Надо было сказать: золото! Ведь… ведь кости наших детей — наше золото. Но разве он, этот солдатик, его поймет? Он еще слишком молод. Его дети, как шутил дед Шимен, пока в табакерке: он их еще не вычихнул.
— Что будем делать, ребята? — обратился молодой к своим спутникам. — Это, мабуть, батька того… повешенного…
— Под стражу и — к Родиону Дмитриевичу. Там разберутся.
— Они ни в чем не виноваты. Это я их сюда привел. Я… Мне и ответ держать, — твердо произнес Шахна.
— А ты кто таков?
— Семен Ефремович Дудаков, толмач жандармского управления. Готов следовать за вами.
Шахна бросил лопату, сложил руки и сделал несколько шагов вперед по направлению к дозору.
— Ладно, — сказал молодой дозорный. — Вы, — он ткнул прикладом в Эфраима и Шмуле-Сендера, — проваливайте! Чтоб духу вашего не было, сыноискатели. А ты, толмач, пойдешь с нами. — И дозорные, не дожидаясь, пока старики покинут военное поле, увели Семена Ефремовича.
— Шахна! — крикнул ему вслед Эфраим, но тот даже не обернулся.
— Мы с тобой в сорочке родились, — сказал Шмуле-Сендер, когда дозорные исчезли. — И лошадь моя в сорочке… Могли взять и — в худер-мудер… в тюрьму.
Старик Эфраим не слушал его. Он смотрел на брошенную лопату, на горку выкопанной глины, на яму, и горло его сжимало словно обручем. Он еле сдерживался, чтобы не заорать, не выплеснуть вместе с криком свои внутренности. Они ему были не нужны, как и его голос, как и его волосы; он мог их спокойно выдрать по одному из чуприны и бороды. Он не чувствовал своих пальцев, кроме одного, указательного, прожигающего недра так же, как перст всевышнего; он хотел исколоть его в кровь, и чтобы эта кровь потекла по черенку этой лопаты, по этой глине, по этим рвам.
— Принеси свечи, — глухо сказал Эфраим.
Шмуле-Сендер не осмеливался прекословить ему. Все его тело напоминало большую, натянутую вожжу, и он подчинялся ей без ропота, боясь, чтобы она не перерезала его.
— Зачем? — все-таки не удержался водовоз. — Ты же слышал: чтоб духу вашего не было!..
— Принеси.
Когда Шмуле-Сендер сбегал к кусту сирени и принес из телеги три дешевые субботние свечи, Эфраим стал шарить в карманах.
Спичек не было и у Шмуле-Сендера, но каменотес все равно воткнул их в глину, и то ли от его глаз, то ли от света луны они зажглись и осветили все военное поле, каждый ров и каждую косточку.
Дело шло к июню, дни стали длиннее, и лошадь Шмуле-Сендера, почуявшая, что они едут обратно в Мишкине, к ночи оставляла позади сорок, а то и все пятьдесят верст. Никто ее не понукал, никто с ней не разговаривал: возница и седок были странно молчаливы. Гнедая не помнит, чтобы они когда-нибудь так долго молчали. Бывало, и пяти минут не вытерпят, не поговорив, а тут целый день рта не раскрывают.
Своим ржанием она напоминала им, что соскучилась по разговору, по кнуту, но ни Шмуле-Сендер, ни Эфраим не откликались, и это ее не столько злило, сколько смущало.
Смущало ее и то, что телега полегчала.
Своим лошадиным чутьем она смекнула, что не хватает того, кто доставал для нее овес, и жалела его, но утешалась тем, что есть хозяин, Шмуле-Сендер. Хоть он и огреет ее бывало кнутом, но любит, а тому, кто любит, позволено тебя и вытянуть.
Не сказали путники ни одного слова и сыну корчмаря Ешуа Манделя Семену, который по-прежнему стоял на развилке с галкой на плече. Галка косила на лошадь свой уже не птичий, а человечий глаз и как будто спрашивала — ну, что там слышно в славном городе Вильно, в Ерушалаиме де Лита? Не видели ли они там мессию, которого ждет не дождется Семен? Дождется его и покинет развилку, а она, галка, улетит к своим, и все будут счастливы — и птицы, и люди.
Но гнедая Шмуле-Сендера ничего не ответила. Раз обещал мессия прийти, придет: пешком или, как сказано в писании, на ослике приедет.
Не доезжая местечка, телега неожиданно сделала крюк, и лошадь сообразила, что Шмуле-Сендер решил заглянуть по пути на почту. А вдруг письмо от Берла?
Эфраим и Шмуле-Сендер слезли с телеги и побрели в конторку, где обычно выдавал землякам почту Ардальон Игнатьевич Нестерович.
Самого Ардальона Игнатьевича на месте не было, но на столе лежала его фуражка с околышем (даже став почтарем, он никогда с ней не расставался). А раз есть фуражка, появится и сам почтарь. Видно, вышел по нужде во двор. Или куда-нибудь в другое место отлучился. Он знал, что письма все равно никто не украдет, а переводные деньги всегда носил с собой, даже когда ходил в нужник.
— Мне есть письмо? — несмело спросил Шмуле-Сендер, когда Ардальон Игнатьевич вернулся в контору.
— Кажется, есть, — хмуро ответил Нестерович.
Ардальон Игнатьевич порылся в какой-то сумке, выудил оттуда конверт и протянул Шмуле-Сендеру. В другой раз Шмуле-Сендер расплылся бы в улыбке, подпрыгнул бы от радости до потолка — благо потолок в конторке был низенький-пренизенький, но соседство Эфраима глушило его радость. Письмо от Берла, письмо от Берла! Все в Шмуле-Сендере ликовало, но ликовало тайно, подспудно, внешне он был так же угрюм и не словоохотлив.
Они собирались уже попрощаться, как вдруг Ардальон Игнатьевич совсем не начальственным, старческим голосом, похожим на их голоса, попросил:
— Посидите!
Просьба Ардальона Игнатьевича была настолько странной и неожиданной, что у Шмуле-Сендера брови сошлись на переносице, как два шелкопряда. Легко сказать — посидите! Да знает ли он, что на душе у Эфраима? Знает ли он, что и Шмуле-Сендер ни секунды не может усидеть на месте, когда ему вручают «летр» от его белого счастливого Берла? Надо срочно ехать домой к Фейге. В другой раз Шмуле-Сендер ответил бы Нестеровичу: некогда, ваше благородие, рассиживаться. Но ему хотелось чем-то отблагодарить почтаря за письмо.






