Козлёнок за два гроша Канович Григорий
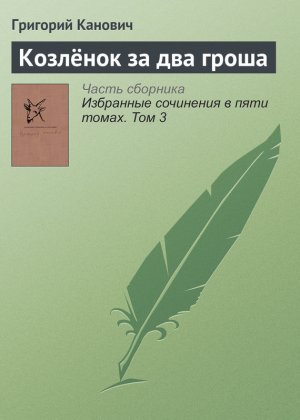
— Когда мы отправлялись из Мишкине, отец твой… Эфраим больше волновался за Гиршеле. Но чтоб с Эзрой что-то случилось?!
Семен Ефремович сглотнул слюну.
— Веселей и горластей Эзры во всей округе не было! Вороний грай перекрикивал. А как пел!..
- Гоп-па-па, гоп-па-па,
- Повстречал раввин попа.
- Поп раввину говорит:
- «Рабби, клин у вас открыт!..» —
неуместно затянул Шмуле-Сендер.
— Перестань! — оборвал его Семен Ефремович. — Кто… Когда тебе сказал?
— Сперва Мендель.
— Какой Мендель?
— Мендель-Челюсть… Ну тот, который при покойниках… А потом Цемах… А потом Менаше Пакельчик… Нет, говорят, больше Эзры-скомороха.
— Неправда! — заорал Семен Ефремович. — Неправда! Слышишь! Сейчас же перестань молиться! И плакать… Прибереги свои слезы для мертвых! А Эзра жив! Жив!
Он наступал на беднягу Шмуле-Сендера, сминал его правду, рвал ее в клочки, топтал ногами, как топчут огонь, от которого может заняться пожар, не щадящий никого.
— А если отец придет в больницу и спросит того же Цемаха-соседа или Менаше Пакельчика? — защищал свою тоску Шмуле-Сендер. — Что тогда?
— И ты, и я, и Цемах, и Менаше Пакельчик, и доктор Гаркави — все в один голос скажем, что Эзра сбежал, отправился в тайгу за бурым медведем. Понимаешь?
— А Мендель?
— Менделю-Челюсти мы позолотим руку.
Шмуле-Сендер широко и испуганно посмотрел на Шахну. Нет, он не шутил. Он готов был на все, чтобы его отцу каменотесу Эфраиму на вопрос, где его любимый сын, поскребыш Эзра, хором ответили:
— Отправился за бурым медведем!
Семен Ефремович оглядел Шмуле-Сендера с ног до головы, вынул у него из рук кнут, положил его на стол, как обглоданную рыбу, и тихо — Шмуле-Сендера еще никогда так тихо и печально не спрашивали — спросил:
— Шмуле-Сендер! Где мой брат Эзра?
Шмуле-Сендер зашевелил губами, собрался было что-то ответить, но зарыдал в голос; плечи у него тряслись, и он поддерживал их, скрестив дрожащие руки; казалось, его голова вот-вот отделится от туловища и, не желая участвовать в этой неслыханной, в этой постыдной сделке, покатится к выходу.
— Где мой брат Эзра? — вопрошал Семен Ефремович.
Теперь Шмуле-Сендеру померещилось, что и голос Шахны выкупан в слезах.
— Отправился в тайгу за бурым медведем, — повиновался водовоз.
— Хорошо, хорошо, — думая о чем-то другом, приговаривал Шахна. В эту минуту он больше всего боялся, как бы откуда-нибудь, из раскрытого на улицу окна или из-под отодранных обоев, еще более голубых, чем небо, не вылетела бабочка, та самая бабочка, для которой даже такое светило, как доктор Хаим Брукман, не мог придумать сачок.
Но бабочки не было, и Семен Ефремович хотя бы этому обрадовался в душе. В чем-то — он сам не мог себе дать отчета, в чем именно, — он завидовал Эзре, отправившемуся в тайгу за бурым медведем. В его, Шахны, тайге летают только жандармские полковники — бабочки с эполетами.
— А до нее… до тайги, далеко? — верный житейскому расчету, осведомился подавленный Шмуле-Сендер. Никогда в жизни не повторял он чужих слов, если не считать слова его благоверной Фейги. Но от повторений ее слов ему почему-то чаще хотелось смеяться, чем плакать.
— Есть участок на территории самой больницы, где хоронят бродяг и безродных. Но нам, Шмуле-Сендер, нужна тайга. НАША ТАЙГА сразу же за мостом… на Антокольском кладбище. Кровь из носу, но надо управиться дотемна!
Они и управились дотемна.
Погребальная братия Антокольского кладбища — хевра кадишим — долго не соглашалась хоронить ничем не прославившегося Эзру Дудака рядом с такими звездами на небосклоне Израилевом, как мудрейший из мудрых рабби Элиагу и не менее мудрый рабби Акива. Но Шахна раскошелился, и гробокопатели смилостивились. В конце концов, рассудили они, есть какая-то справедливость в том, что рядом с мудрейшими будет лежать обыкновенный еврей. Пусть набирается ума-разума. Такое соседство и мудрецам на пользу — пусть не считают свою мудрость единственной добродетелью на свете: что это за добродетель, которая не может перемудрить смерть.
— Кем был покойник? — охлопав лопатой могильный холмик, спросил один из погребальной братии.
Шмуле-Сендер, наученный Шахной отвечать всем и каждому, что Эзра отправился в тайгу за бурым медведем, поначалу растерялся, а потом ляпнул:
— Охотником. Он охотился на бурых медведей…
Когда они уже выходили с кладбища, до слуха Шмуле-Сендера донеслась песня виленской хевры кадишим. На кладбище всегда что-то мерещится, подумал Шмуле-Сендер. Но песня вилась в воздухе, как шмель, и, вытравливая из души печаль, засоряя прочищенные кладбищенской скорбью уши, то усиливалась, то затихала.
- Гоп-па-па, гоп-па-па,
- Повстречал раввин попа.
- Поп раввину говорит:
- «Рабби, клин у вас открыт!»
— Слышишь? — спросил Шмуле-Сендер у побледневшего Шахны. — Эзра из могилы, как из тайги…
Старику Эфраиму пришлось изрядно поплутать по городу, пока он отыскал извилистую улицу, смахивавшую на не оконченную стеклодувом бутылку.
Искать было приятно — светило желтое, словно подсолнух, солнце, и каждой живой твари перепадало по крупному полновесному семечку.
В подворотне — несмотря на солнечный день — было темно, как вечером; жизнь там вообще была какая-то вечерняя, примолкшая, без свойственных еврейскому жилью восклицаний, разбитной перебранки, шепота, которые — о, эти еврейские тайны! — слышны на соседней улице.
Эфраим долго приглядывался к домам, стараясь угадать, в каком именно проживает жена Гирша — его невестка, но в домах, как назло, не было молодух; в них, в этих тесных, почти лишенных воздуха жилищах, обитали только старики и дети, к которым изредка, как урядник или городовой, заглядывало весеннее солнце.
Не найдя того, кого он искал, Эфраим обратился к какому-то старику, скорее похожему на обнищавшего польского шляхтича, чем на еврея, в довольно-таки приличном городском пиджаке и высокой шляпе из фетра (правда, траченного молью). Старик был весь какой-то подарочный, как будто со всех уголков города ему неизвестно за какие заслуги нанесли уже однажды дареные вещи.
— Значит, и вы за тем же? — поинтересовался старик и приподнял фетровую шляпу, в которой светились маленькие дырочки.
— За чем? — любезно вступил в разговор старик Эфраим.
— За ботинками. За чем же еще?.. Мне его порекомендовали как замечательного мастера, — зачастил старик в шляпе. — Чинит быстро, недорого берет. Обычно мне подбивал подметки Лайзерсон. С Рудницкой…
— Так, так, — сказал Эфраим.
— Если бы я знал, что этот обалдуй попадет в эту грязную историю… моей ноги бы здесь не было… Теперь все. Баста. Терпенье мое лопнуло!.. Он, наверно, думает, что я буду ждать, пока он с моими ботинками вернется с каторги… Жена его ото всех прячется.
Причину того, почему жена сапожника прячется, еврей в фетровой шляпе с чужой головы объяснил с еще большим запалом. Все дело в том, что задаток-то она съела. А съеденный задаток не вернешь. Пусть небольшие деньги, но для еврея и небольшие деньги в один прекрасный день могут обернуться большими, если их вложить в стоящее дело.
Еврей в фетровой шляпе еще долго шумел, озирался по сторонам, а потом, так и не дождавшись жены сапожника, съевшей его задаток, поплелся прочь и вскоре скрылся за углом.
Старик Эфраим прождал Миру до самой ночи.
Он сразу узнал ее по маленькому аккуратному животу. Казалось, Мира принесла в подоле большой подсолнух. Увидев незнакомого человека и приняв его за заказчика, она метнулась было в сторону узкого каменного прохода, который, видно, вел в другой, такой же затхлый и промозглый двор, но Эфраим успел ее окликнуть:
— Мира!
Не услышав в оклике никакой угрозы, она остановилась и, держа обеими руками свой подсолнух, чтобы он не выпал, подошла поближе к старику.
— Я — Эфраим, — сказал тот. Но Мира и ухом не повела. — Эфраим. Разве тебе Гирш обо мне не рассказывал?
— Нет, — ответила женщина.
— Не может быть! — прошептал удивленный Эфраим. — Дождь начинается. Может, в дом зайдем?
— Нет у меня своего дома… С тех пор как Гирша взяли, я переехала к мачехе… Ей нужна была нянька… Десять детей — не шутка…
— А ботинки?
— А-а! — протянула Мира. — Мачеха говорит: не отдавай заказчикам. Потому что, пока дело дожидается мастера, с ним ничего не случится. Вы за ботинками?
Вопрос Миры просто огорошил Эфраима. В самом деле — зачем он сюда пришел? Жениться? Но то была только шутка. Увидеть свою невестку? Он еще ни одной своей невестки не видел. Как и внука. Ни Давида, ни этого, ни того, которого носит под своим гордым польским сердцем Данута.
— Я пришел на тебя посмотреть, — сказал Эфраим, не найдя ничего лучшего.
— А что на меня смотреть? Сами видите, какая…
— Красивая, — промолвил Эфраим.
Она стояла под дождем — длинноволосая, черноглазая, с округлившимся животом, казалось, он вот-вот лопнет, как почка, и из него вылупится крохотный, зеленый листочек, в котором до поры до времени нельзя будет узнать ни весны, ни лета, ни осени; он явится только их намеком, их счастливым обозначением.
Господи, думал старик Эфраим, до чего она похожа на Лею! Почему все беременные женщины похожи на нее? Что за дикое, что за невыносимое наваждение! Разве может плодоносить срубленное дерево? Ему хотелось приласкать Миру, сказать ей какие-то особые слова, какие он еще никому на свете, даже Лее, не говорил, ему хотелось — о, кощунство! — растянуться рядом с ней на траве, сорвать былинку, вложить ей в рот и закусить другой конец, по которому — старик Эфраим это до сих пор помнит — в жилы переливается сила земли, молодость времени. Как странно, думал Эфраим, время одно, а сколько у него возрастов, и все существуют разом!
Вся она — с ног до головы, с набухшего живота до ждущих своего часа сосков — была повторением всего того, что уже было в его жизни, и этому не мешали ни дождь, ни бедное, коробившееся в плечах платье, ни этот затхлый двор, по которому невозбранно летали привыкшие ко всему виленские летучие мыши.
— Послушай, — промолвил Эфраим. — Теперь тебе нельзя оставаться в городе. Хотя бы из-за ребенка.
Мира вся сжалась, как будто для нее не оставалось места среди этого ленивого майского дождя, в этом загроможденном еврейскими несчастьями и рухлядью дворе.
— А я… я и не останусь, — сказала Мира.
— Может, поедешь ко мне?
— Нет.
— Куда же ты собираешься?
— За ним, — тихо выдохнула она.
Дождь все усиливался, но они и не думали уходить. Стояли друг против друга — в первый и, может, в последний раз. Никто их не звал, никому они не были нужны — разве что дождю, которому надоедает барабанить по жестяным кровлям и хочется прикоснуться к чему-то живому — лицу, листку, щенячьей или кошачьей морде.
— В Сибирь?
— Да.
— Про Сибирь знаешь, а про меня, выходит, нет.
— Вы его отец? Как же я сразу не догадалась? Гирш не любил рассказывать… Он любил… вам, как отцу, это не страшно сказать — целоваться.
— Дудаки все любят целоваться, — признался Эфраим. — Меня, бывало, не оторвешь…
Он помолчал и добавил:
— А если?..
Старик Эфраим не отваживался выговорить слово «казнь».
— Не знаю, — просто ответила она. — Наверно, умру. Кому я такая нужна?
— Мне, — твердо произнес Эфраим.
— Вам?
Эфраим заметил, как у нее недобро сверкнули глаза, как руки вдруг выпустили подсолнух и платье еще больше встопорщилось.
— Но вы же сами…
Мира закусила губу, ту самую, которую так любил целовать сапожник-бомбист Гирш Дудак. Бомбы бомбами, а поцелуям никакие перевороты не помеха!
— Скоро умру? — опередил ее Эфраим.
— Мира! — раздалось откуда-то сверху.
— Сейчас!
— Вынеси горшок!
— Сейчас!
— С кем ты там болтаешь под дождем?
— Сейчас! Сейчас! Сейчас!
Она громко кричала, чтобы не заплакать, но старик Эфраим даже сквозь капли дождя ухитрялся разглядеть слезы. Капли тут же скатывались с глаз, а слезы как-то держались, оставляя на щеках свои незримые, свои горестные отметины.
— Вокруг лес… Неман… Есть коза, — торопился Эфраим. — Если родится мальчик, назовем его по прадеду Иаков. Иаков Дудак.
— Вынеси горшок, Мира!
— Если девочка — Чарна… По прабабушке… Чарна Дудак!
— Только не проклинайте меня… только не проклинайте! — затараторила Мира, прощаясь. — Но лучше будет… для меня… для него… для всех, если… — она снова схватилась за живот, — если он родится мертвый.
И убежала выносить горшок.
То ли она вылила его сверху, из окна, то ли вынесла через другой ход, но старик Эфраим ее больше не увидел.
Он протянул руки и обнял дождь, и от этого объятия у него полегчало на душе.
Он не может умереть… он не может умереть, шептал он дождю, который смачивал его губы, так любившие в молодости целоваться. Теперь старик Эфраим целовал эту мысль: он не может умереть… он не может умереть!..
Если кто-то и уйдет из жизни, так это будет он, восьмидесятилетний горемыка. Жизнь всего дала ему вдоволь: трех жен, четырех детей, внука Давида, которого он не видел, но который все-таки существует. Пусть она столько же даст и его детям, пусть убережет их от Сибири и виселицы. Пусть и этой Мире даст всего вдоволь!
Домой он вернулся за полночь.
Шахна и Шмуле-Сендер не спали, дожидались его на пустынной Большой улице, которая к полуночи совершенно вымирала. Они шныряли по ней то вместе, то поодиночке, заглядывали в подворотни, побывали во всех соседних синагогах, даже в синагоге ломовых извозчиков, куда Шахна давненько не захаживал, но старика Эфраима нигде не было.
— Идет! Идет! — как оглашенный заорал Шмуле-Сендер и, путаясь в дорожном балахоне, бросился навстречу Эфраиму. Живой и здоровый! Слава богу! Слава богу!
— Где ты, отец, был? — строго, почти сурово спросил Шахна.
На минуту у него закралось подозрение, что отец знает их тайну, побывал на Антокольском кладбище на могиле поскребыша Эзры, и только ночь прогнала его оттуда, хотя его, кладбищенского жителя, чем-чем, а кладбищем не запугаешь.
— Могли бы лечь спать и без меня, — сказал Эфраим. — Ну, есть какие-нибудь новости?
— Есть, — горестно сказал Шмуле-Сендер.
— Суд — завтра, — быстро перебил его Семен Ефремович.
— А как же свидание?
— Свидание состоится, — отрапортовал Семен Ефремович, пытаясь таким образом усыпить бдительность отца. — В жандармской карете…
— Скажи, какая честь!.. В жандармской карете!
Семен Ефремович принялся объяснять отцу, что дело тут не столько в чести, сколько в хитрости Ратмира Павловича Князева, решившего столь необычно обезопасить от нападения тюремный экипаж.
— Времени у тебя в обрез, — напомнил Семен Ефремович. — Если Гирш тебя не послушается, ты хоть увидишься с ним.
— Я сперва собирался повидаться с Эзрой, — сказал старик Эфраим.
— О! — воскликнул Семен Ефремович, стараясь собственным криком заглушить тревогу. — С этого надо было начать.
— С чего?
— С Эзры, — уже тише заметил Шахна.
— Я пошел спать, — виновато бросил Шмуле-Сендер.
Он не имел никакого представления, куда в эту пору идти, он знал, что в постели, даже на царском ложе, на пуховых перинах Маркуса Фрадкина, ему все равно не сомкнуть глаз, но присутствовать при этом разговоре тем не менее не хотел. Он, Шмуле-Сендер, тут ни при чем. Он давно советовал старику Эфраиму связать своих детей, как молодых бычков, погрузить в трюм парохода и увезти подальше отсюда — от Литвы, да будет она трижды счастлива, от России, да пошлет ей господь бог многие годы благоденствия. Но пусть и Литва, и Россия, уговаривал он своего друга, будут счастливы без них, без наших детей. Эфраим не послушался.
Нет, в мыслях Шмуле-Сендера не было никакого злорадства. Он просто отказывался участвовать в этом ночном убийстве. Конечно, убийстве.
— С Эзры? — переспросил Эфраим.
— От него другого нечего было ждать. Больница не для него. Лекарства не для него.
— За брагой потянуло? — без опаски произнес Эфраим.
— Нет, нет… Вылез из-под одеяла и под покровом тьмы подался за бурым медведем… в тайгу…
— Я так и думал, — выдавил Эфраим. — Как говорят русские, горбатого могила исправит. — И тут же усомнился — Эзра в тайгу? За бурым медведем? Ты можешь, Шмуле-Сендер, поклясться? — двинулся он на водовоза.
— Ну что ты ко мне пристал? Мало тебе слов Шахны?
— Можешь?!
Шмуле-Сендер почувствовал, что весь покрывается ледком, как лужица в начале ноября; ледок сперва лег на щеки, потом на шею, потом на руки. Продрогшему, почти закоченевшему, ему не хотелось прослыть клятвопреступником. Но и правды он не мог сказать. Может, маленькая, тихая ложь не повредит его счастливому Берлу, который по-прежнему будет продавать лучшие часы в мире и ездить на самоходной карете. Богу было легко сказать: живите по правде. Но он, Шмуле-Сендер, не бог. Без маленькой лжи нельзя, без маленькой лжи шагу не ступишь. Только надо следить, чтобы она не вырастала. Шмуле-Сендер будет следить — денно и нощно, до своего смертного часа. Но сегодня, но сейчас пусть ему будет позволено сказать эту маленькую, тихую ложь. Если хорошенько пораскинуть мозгами, тут и лжи никакой нет — ни большой, ни маленькой. Эзра действительно уехал в тайгу, где заблудились все его, Шмуле-Сендера, предки, где срослись с корнями предки самого Эзры, его дед Иаков, его бабушка Блюма, его прадед Шимен и прабабка Чарна, где бродит столько евреев и неевреев и все ищут одного: бурого медведя, самого бурого из бурых, которого в тяжелую минуту можно водить на цепи, который, когда невмоготу, когда дышать нечем, встает на задние лапы и катает на своем медвежьем носу шарик. Ведь если хорошенько пораскинешь мозгами, какал разница, как его называть — бурый медведь или бог?
— Клянусь, — сказал Шмуле-Сендер.
Он услышал за своей спиной вздох. Не один вздох, а два.
Но ему было легко отличить их потому, что старик Эфраим вздыхал так же, как он.
Как маленькая спичка зажигает большой огонь, так маленькая ложь зажгла большую правду.
Шмуле-Сендер не знал — и, наверно, уже не узнает! — большей правды, чем любовь.
Когда врут ради любви, возносят правду.
— Клянусь.
— Сегодня хороший день, — вдруг объявил Эфраим. — Я видел своего внука, — сказал Эфраим и рассмеялся.
Засмеялись и они — Шмуле-Сендер и Шахна.
Давно в Вильно не слышали такого громового, такого редкого в ночной тишине смеха.
Все приготовления к суду над государственным преступником Гиршем Дудаком были закончены. Здание суда, построенное в стиле позднего барокко, было оцеплено солдатами. Солдаты стояли у парадных дверей с винтовками наперевес так плотно, что мышь не могла бы проскользнуть.
Накануне суда Эфраим обошел всю улицу и договорился с хозяином небольшого шляпного магазинчика, чтобы тот пустил его на чердак, из подслеповатого оконца которого был виден зал суда, скамья подсудимых и длинный председательский стол, накрытый, как запомнил Эфраим, красным сукном. Хозяин шляпного магазинчика — худющий, в ловком пенсне, как кузнечик, в кожаных налокотниках — уже жалел о сделке, но Эфраим заверил, что будет вести себя тише воды, ниже травы и на всякий случай изображать из себя голубятника — благо какие-то дикие голуби и впрямь водились на чердаке. Когда Эфраим распахивал оконце, они вылетали из своей неволи и кружились над скучающими солдатами. Когда же хозяин магазинчика протянул ему бог весть откуда выуженную подзорную трубу, потребовав за нее два рубля сорок копеек — почему именно сорок копеек? — старик рассказал об этом Шахне и назавтра принес шляпнику деньги.
Шахна не смел ему перечить. Он знал, что другого доступа в суд нет — туда не пускают даже вездесущих виленских репортеров, которые ради какой-нибудь новости готовы взобраться куда угодно, и был рад сметливости отца.
Лучше, конечно, сидеть в самом зале, но и тут, на чердаке шляпного магазина, можно следить за всем: и за Гиршем, и за господином присяжным поверенным — Шахна клянется, что он — лучший ходатай в Вильно, защищает Ешуа Манделя и пока не отдал его на растерзание, может, и Гирша не отдаст? — и за самим председателем полковником Смирновым, тем самым, в шинели и в барашковой шапке.
Одно огорчало Эфраима: к суду все готово, а он почему-то не начинается.
— У Николая Николаевича насморк, — с доверительной загадочностью объяснял Семен Ефремович, не имевший права разглашать государственную тайну (даже на уровне насморка) и подводить своего начальника — полковника Князева, от которого получал все сведения.
Утомленный долгим ожиданием, мечтавший только о том, чтобы вернуться в Мишкине, уехать от своих непутевых сыновей к пророчице-козе, Эфраим, с одной стороны, хотел, чтобы болезнь Николая Николаевича прошла как можно быстрей, а с другой стороны, желал, чтобы этот насморк продолжался как можно дольше.
Однако настал день, когда ни хворь председателя суда, ни другая важная причина не могли отсрочить суда над Гиршем.
— Едем! — сказал отцу Шахна.
— Куда?
— В тюрьму…
Подкатят карету, распахнут перед ним дверцы и скажут: «Садитесь!» А там в карете, за железной решеткой, его Гиршеле, Гиршеле-Копейка, которого он совсем недавно носил на руках по местечку, по берегу Немана, по кладбищу и подбрасывал вверх, к богу. Подбрасывал и приговаривал:
— Улыбнись нам, господи!
О, если бы можно было ехать с ним до конца, он бы ни минуты не раздумывал. Поехал бы! Когда едешь вместе с любимым сыном, то и медные рудники кажутся Нью-Йорком, а золотые копи на Севере — жаркой Палестиной, цветущей Галилеей.
Напротив шляпного магазина, где он облюбовал себе голубятню, Эфраиму придется вылезти, и все для него кончится. Все.
Все, что будет дальше, будет не для него, а для Николая Николаевича, для его высокопревосходительства генерал-губернатора, для огромной и необъятной Российской империи, но не для него.
Неправда! Неправда! Он никому — ни Николаю Николаевичу, ни его высокопревосходительству генерал-губернатору, у которого царапина на правой ноге, не отдаст своего сына Гиршеле, Гиршеле-Копейку.
— Иди сюда ко мне, сыночек. Я возьму тебя на руки. Я подброшу тебя так высоко, что никакие судьи до тебя не доберутся.
Старик Эфраим не видел, как Шахна расплачивался с извозчиком, который довез их до 14-го номера; он и самого 14-го номера не видел; мысль его витала там, где стояли, как солдаты в цепи, ангелы и херувимы, отец Иаков и мать Блюма, три его жены — Гинде, Двойре, Лея — и охраняли от зла его детей. Всех — и этого, рыжеволосого, которого сейчас вывели закованного в кандалы.
— Иди… иди ко мне на рученьки!
Откуда доносились до Эфраима эти звуки? Из-под земли? С неба?
Государственного преступника Гирша Дудака затолкали в карету, в ту ее часть, которая была огорожена железными решетками, где не было даже пенька, чтобы присесть, где всю дорогу до Виленского окружного суда надо было стоять на закованных в тяжелые цепи ногах.
Крюков примостился на задке.
Впереди — ротмистр Лиров.
И он — Эфраим.
— Возле суда тебя высадят, — заверил Шахна.
Вместо того чтобы обрадоваться этому, старик Эфраим вдруг опечалился.
Как же так, подумал он, когда жандармская карета тронулась с места.
Если в кандалах — так вместе!
— Идите… идите ко мне на рученьки, дети мои!.. Вместе так вместе!..
Он что-то бормотал, и его бормотание было скорее похоже на фырканье жандармской лошади, чем на человеческую речь.
Неужели они друг другу не скажут ни одного слова?
Старик Эфраим чувствовал за спиной кандальное молчание сына.
— Свидание на то и свидание, чтобы что-то друг другу сказать, — сказал Лиров. — Понимаешь, старик.
Эфраим молчал.
— А тебе что, отцу сказать нечего? — озлился он на Гирша.
Но и от него он не дождался ни слова.
Когда жандармская карета миновала Полицейский переулок, бормотание старика Эфраима перешло в песню.
Ротмистр прислушался.
— Что поешь, старик?
- — Козленка, козленка отец мой купил,
- Два гроша, два гроша всего заплатил.
- Козленка, козленка кот черный сожрал,
- Кота за околицей пес разодрал.
- Тяжелая палка расправилась с псом.
- Сжег палку огонь.
— О чем твоя песня, старый? — допытывался ротмистр.
- — Сжег палку огонь. А потом, а потом
- Вода из колодца огонь залила.
- Вол выпил всю воду. Ну и дела.
- Резник пришел и зарезал вола.
- А резника смерть навсегда унесла.
— С вами держи ухо востро, — пожаловался ротмистр Лиров. — С виду песня, а на самом деле, может, сговариваетесь…
Его бесило упрямство старика. Ну что за народ? Сына, можно сказать, не в суд, а на смерть везут, а он — хоть бы хны. Ни слезинки. Ни единого слова. Да и сынок хорош! Ратмир Павлович по просьбе Семена Ефремовича сжалился над отцом, пошел на такое, за что и со службы вылететь можно, а сынок вцепился в решетку и ни гугу. Что за народ? Кандалы им родного отца дороже.
— Тебе, старик, скоро слезать, — объявил он.
Эфраим кивнул головой, обернулся и впервые за всю дорогу посмотрел на Гирша.
— А тут появился наш праведный бог.
— Он смерть придушил и с собой поволок, — неожиданно допел песню узник.
— Кончай петь! — распорядился Лиров. — Уже близко. Так что поговорите, пока не поздно… не молчите, сукины вы дети.
— Господин начальник, — внятно сказал Эфраим. — Вы знаете, что евреи должен научиться делать лучше других? Особенно если этот еврей — несчастный отец? Молчать, господин начальник, молчать.
— Свидание закончено, — объявил ротмистр.
— Прощай, Гиршеле, — не поворачиваясь к решетке, промолвил Эфраим. — Больше я не буду подбрасывать тебя вверх… Ты уже наверху, сынок… на самом… самом верху… Только не говори мне, что ты взлетел туда ради справедливости. Зачем мне твоя справедливость, если она делает несчастной твою жену Миру, превращает в сирот моих внуков и убивает моих детей?
Когда Гирша ввели в зал, как рассаживались судьи, как занял свое место присяжный поверенный Михаил Давыдович Эльяшев, единственный иудей, допущенный к совершению таинства российского судопроизводства, как по бокам обвиняемого встали два дюжих солдата, старик Эфраим увидел уже из своего наемного наблюдательного пункта на чердаке шляпного магазина. Вдруг перед его глазами все смешалось: Петр Петрович оказался Николаем Николаевичем, мужчина в шинели, которого Эфраим принял за главного, и вовсе отсутствовал, а в заднем ряду — это, видно, старику показалось — сидел маленький мальчик с рогаткой. Чем дольше Эфраим смотрел, тем больше рогатка увеличивалась, достигнув в конце концов таких размеров, как винтовки тех двух дюжих молодцов, которые охраняли Гирша. Но странное дело: мальчик стрелял из рогатки не в Петра Петровича, оказавшегося на самом деле Николаем Николаевичем, не в лучшего из лучших виленских присяжных Михаила Давыдовича Эльяшева, а в него — Эфраима бен Иакова Дудака.
Когда стекло на чердаке треснуло и рассыпалось на мелкие осколки, Эфраим закрыл глаза.
Совершенно секретно.Господину прокурору Виленского военного окружного суда.Копия: начальнику Виленского жандармского управления Р. М. Князеву.
Вследствие отношения от вчерашнего числа за № 9 уведомляю Ваше превосходительство, что смертный приговор над осужденным Виленским окружным судом Гиршем Дудаком, сыном Эфраима Дудака, приведен в исполнение в месте, указанном административным начальством, близ г. Вильно, на военном поле, окруженном со всех сторон войсками, в одном из рвов, недоступных для взоров посторонних, в два часа тридцать минут пополуночи. Присутствовавший при казни доктор Хайлов констатировал смерть оного Гирша Дудака через удушение, и труп последнего зарыт на месте казни в приготовленной для него могиле.
Прокурор суда (подпись неразборчива)
— Все-таки 108-й применили, — клокотал Ратмир Павлович. — Другого параграфа в своде законов не нашли! Каторжные работы показались им слишком мягкой мерой.
Листок с неразборчивой подписью дрожал в руке Семена Ефремовича, и скупые частые слезы капали у него из глаз на дубовый жандармский стол.
— Что за гнусная привычка — славить Россию мертвецами! — продолжал возмущаться Князев.
— Ваше благородие, — Семен Ефремович вытер слезу и вернул Князеву секретное донесение. — Мне хочется, чтобы мы остались друзьями. Вы знаете: я не одобряю многих ваших действий… я никогда не стану жандармом… не стану ни доносителем, ни… Я считаю, что высшее и самое строгое управление на земле — это совесть.
— Ближе к делу, ласковый ты мой. К делу!
— Мой отец собирается совершить противоправное деяние.
— Да? И что это за противоправное деяние, которое собирается совершить восьмидесятилетний старец?






