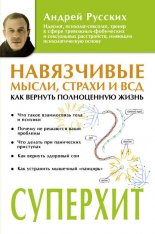Леонардо да Винчи. Загадки гения Николл Чарльз
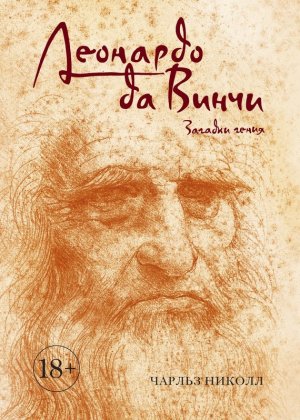
То, что картина находится в плохом состоянии, несомненно. Поверхность краски покрыта грязным слоем более поздней лакировки – густой смесью клея, масла и смол. На темных участках доски образовалась плотная коричневая патина. Имеются также и побелевшие участки, что связано с окислением. Однако противники реставрации отвергают идею «удобочитаемости», считая ее желанием «прояснить» то, что (по крайней мере, в случае «Поклонения») художник предпочел оставить неясным. В современной реставрации возникла не всеми принимаемая мода на яркость и четкость – на фотографическую или электронную ясность. Сегодня реставрация – это коммерческое решение музея: вопрос не только сохранения сокровищ искусства, но еще и маркетинга. «Это философский вопрос, – говорит профессор Бек. – Хотим ли мы, чтобы старинные картины были модернизированы? Очистка картин – это косметическая подтяжка лица семидесятилетнего человека».
Технические службы Уффици находятся через дорогу от самой галереи. В маленькой комнатке на втором этаже на трех козлах лежит Леонардово «Поклонение». Комната невелика. Ее стены выложены белой плиткой, окна закрыты кремовой бумагой, чтобы прямой свет не повредил картине. На крюке висит метелка из перьев и сумка из супермаркета. Острый химический запах заставляет думать, что вы попали в медицинскую лабораторию или в операционную ветеринара. Картина превращается в пожилого пациента, над которым колдуют врачи-реставраторы. В комнате реставраторов царит интимная атмосфера: картина лишилась своего музейного величия, она лежит на столе, ожидая операции.
Над картиной трудится знаменитый реставратор Альфио дель Серра. На ранних этапах реставрации очень трудно прийти к согласию. Дель Серра из Пистои. Это худощавый, стройный мужчина, которому слегка за шестьдесят. Белоснежные седые волосы гармонируют с белой рубашкой с короткими рукавами. Он напоминает ремесленника и сам любит себя так называть. Дель Серра трудился над картинами Мартини, Дуччо, Чимабуэ, Джотто, Мантеньи, Перуджино, Рафаэля и Тициана. Не так давно он реставрировал «Рождение Венеры» Боттичелли и «Благовещение» Леонардо. Споры сторонников и противников реставрации его не трогают. Пока они идут, у него есть время как следует познакомиться с картиной. «Каждая реставрация, – говорит он, – связана с вопросом интерпретации. Не существует универсальных правил, которые подходили бы к любой ситуации. Реставратору необходимы чуткость, уважение, знания. Вы постоянно должны задаваться вопросами. Вот что необходимо для этой работы».[300]
Мы обошли вокруг картины и осмотрели ее обратную сторону. Доска состоит из десяти вертикальных планок или дощечек, склеенных в единое целое. Поперечные доски были добавлены позднее, скорее всего в XVII веке. Планки имеют одинаковую ширину (примерно 22 см), но левая крайняя чуть уже остальных. Возможно, она была добавлена, чтобы увеличить картину до требуемого размера. Дель Серра указывает на то, что средние планки слегка изогнулись, что может привести к растрескиванию поверхности красочного слоя. Изгиб связан с влиянием времени и влажности, но немалую роль сыграл и выбор дерева, сделанный Леонардо 500 лет назад. Дель Серра на диаграммах объясняет роль исходного материала. При изготовлении досок ствол дерева – в данном случае серебристого тополя, gattice, – распиливается вертикально. Лучший материал – тот, что ближе к центру, radiale, поскольку на нем древесные кольца симметрично сбалансированы. Внешние доски, peripherale, не столь хороши. Дель Серра недавно реставрировал «Благовещение». Знаком он также и с «Крещением Христа». В обоих случаях доски находились в идеальном состоянии. Эти картины делались в мастерской Верроккьо, где использовался качественный материал. Для «Поклонения», первой независимой работы, написанной в те годы, когда художник вынужден был покупать зерно и вино за счет своих работодателей, Леонардо приобрел более дешевые доски. Кроме того, добавляет дель Серра, Леонардо находился под сильным влиянием Чимабуэ, учителя Джотто. Чимабуэ использовал «очень тонкие доски, какие плотник просто выбросил бы» – короче говоря, обрезки.
Дель Серра относится к картинам спокойно и без лишних церемоний: во время разговора он не опирался на картину локтем, но чувствовалось, что вполне может это сделать. Он смачивает ватный тампон и быстро проводит им по маленькому участку картины: по эскизно набросанным головам быка и осла в правой стороне. И они мгновенно выступают из мрака.
После этого разговора дебаты по поводу реставрации все еще велись. В конце 2001 года галерея Уффици решила провести технический анализ картины, для чего был приглашен видный специалист в этой области Маурицио Серачини. После нескольких месяцев работы Серачини пришел к невероятному выводу: красновато-коричневая поверхностная роспись, которую можно видеть в разных частях «Поклонения», не принадлежит Леонардо. К этому выводу ученый пришел после микроскопического анализа частиц краски с поверхности картины. Практически при каждом анализе Серачини обнаруживал, что верхний слой коричневой краски проник в нижний, более ранний, монохромный. К тому времени, когда наносилась эта краска, поверхность растрескалась, и трещины были достаточно глубокими, чтобы влажная коричневая краска проникла в них. Серачини утверждает – и это самое главное, – что трещины появились только через длительный период времени, скорее всего, через пятьдесят или сто лет. Верхний слой краски был нанесен после смерти Леонардо. Над картиной работал неизвестный художник, имевший собственное представление о том, как следует ее улучшить.[301]
Выводы Серачини противоречивы, но, столкнувшись с новыми трудностями, администрация галереи решила не рисковать и не проводить реставрацию. Сегодня «Поклонение волхвов» можно увидеть в зале Леонардо в прежнем виде. А споры все еще продолжаются.
Незаконченный шедевр Леонардо позволяет нам глубоко заглянуть в его мир, понять его манеру работы, его отношение к различным христианским символам и флорентийскому художественному наследию, его выдающееся чувство динамики и вихревого движения. Но картина говорит нам не только это. Обратите внимание на правую ее часть, где стоит высокий молодой человек в длинном плаще. Почти с полной уверенностью можно утверждать, что это автопортрет Леонардо в возрасте примерно двадцати девяти лет (см. иллюстрацию 1).
Искусство автопортрета в эпоху Ренессанса переживало сложные времена. Мы знаем, что итальянские художники эпохи Кватроченто часто изображали себя на групповых портретах и многофигурных картинах. Традиция изображения художника на собственной картине существовала давно. Он становился посредником между вымышленной, изображенной им сценой и реальным миром, к которому принадлежит зритель. В некоторых случаях автопортреты очевидны, как, например, на картине Гоццоли «Шествие волхвов», где художник помогает зрителю узнать себя, попросту написав собственное имя на своей шляпе. Гораздо чаще приходится строить предположения или опираться на свидетельства современников. Гравированные портреты художников, появившиеся во втором издании «Жизнеописаний» Вазари (созданные немецким гравером Кристофером Кориоланом по инструкциям автора), оказывают нам огромную помощь. Например, по портрету Мазаччо из книги Вазари можно сделать вывод о том, что смуглое, угрюмое лицо на фреске «Апостол Петр, распределяющий имущество общины между бедными» в часовне Бранкаччи – это настоящий автопортрет художника. Это общепринятая точка зрения, хотя целиком полагаться на Вазари нельзя. Портрет Чимабуэ был сделан по фигуре с фрески Андреа да Фиренце «Триумф Церкви» из церкви Санта-Мария-Новелла. Однако на этой фигуре явственно видны знаки ордена Подвязки, что говорит о том, что художник изобразил заезжего англичанина.[302]
Первым настоящим мастером автопортрета был Фра Филиппо Липпи, который смотрит на нас из толпы с алтаря Барбадори (ранее эта картина находилась в Сан-Спирито, а теперь в Лувре). Картина была заказана в 1437 году. На ней Липпи изображен довольно молодым – ему слегка за тридцать. На «Короновании Марии» (Уффици), работа над которой завершилась в 1447 году, художник уже значительно старше. Еще старше он на «Мученичестве святого Стефана», написанном в 50-х годах XV века для собора Прато. На всех картинах мы видим смуглого, круглолицего монаха с забавными торчащими ушами. Эти уши и стали основной характерной чертой, по которой мы узнаем Липпи. Те же уши мы видим на скульптурном надгробии художника в соборе в Сполето. Они были добавлены примерно в 1490 году, двадцать лет спустя после смерти Липпи. Художника давно не было, но современники запомнили его большие уши.
Часто встречаются автопортреты и на картинах Андреа Мантеньи. Его пухлое, печальное лицо мы видим на расписных пилястрах Камера дельи Спози (Свадебной спальни) в мантуанском замке Гонзага. Художник изобразил себя погруженным в мир собственного воображения. Молодой человек, глядящий на зрителя из мрака на «Принесении во храм» (Берлин), – это тоже автопортрет Мантеньи. Картина явно связана с бракосочетанием художника с Николозией Беллини, сестрой венецианского художника Джованни Беллини. (Собственное «Принесение во храм» Беллини почти идентично с Мантеньевым по композиции, за исключением того, что в правой части изображены два человека, один из которых явно Мантенья, а второй сам Беллини. Для Мадонны на обеих картинах, скорее всего, позировала Николозия.) Эти портреты сходны между собой опущенными уголками губ. Те же черты мы видим на гравированном портрете Мантеньи в «Жизнеописаниях» Вазари.[303]
К началу 80-х годов XV века, когда Леонардо работал над «Поклонением», традиция автопортрета на многофигурных композициях окончательно устоялась. Некрасивое лицо Перуджино мы видим на «Передаче ключей святому Петру» в Сикстинской капелле. Художника легко узнать, если сравнить эту фреску с автопортретом, написанным около 1500 года в Колледжио ди Камбио в Перудже. На многих фресках Доменико Гирландайо мы видим его красивое, темноглазое лицо.
Помещение автопортрета на собственной картине – это средство самоутверждения и подчеркивание своего статуса. Художник пишет себя так же, как и заказчика картины. Художник смотрит прямо на зрителей, он исполняет роль commentatore, комментатора, как назвал его Леон Баттиста Альберти. Альберти считал этот компонент обязательным для картин, которые он называл storia, то есть картин-историй, на которых изображалась сцена или многофигурная композиция. «В storia должен быть человек, который настораживает нас и рассказывает нам о происходящем или указывает рукой, куда мы должны смотреть».[304] Многофигурная композиция «Поклонения» является типичным примером картины-истории. Молодой человек на краю толпы – типичный commentatore, по определению Альберти. Он занимает то же самое положение, что и отвернувшийся юноша на «Поклонении» Боттичелли, которого также считают автопортретом художника. Леонардо почти наверняка видел эту работу, завершенную двумя годами раньше для церкви Санта-Мария-Новелла.
Визуальные сравнения позволяют почти с полной уверенностью утверждать, что на краю собственной картины Леонардо изобразил себя. Лицо юноши во многом напоминает лицо Верроккьева Давида и лицо юноши на листе Фиораванти. Определенное сходство заметно и с лицом молодого художника, сидящего перед перспектографом. Кроме того, среди набросков для «Поклонения», хранящихся в Лувре, есть изображение высокого, длинноволосого молодого человека, который не походит ни на одну фигуру картины, но поворот головы которого говорит о том, что это мог быть ранний эскиз commentatore. Исходя из этого, данный эскиз также можно считать автопортретом.
Мазок влажного тампона в реставрационной Уффици – и красивый, широколицый юноша на мгновение взглянул на нас. О чем он думает? Он отвернулся от матери с ребенком, хотя его правая рука направлена назад, словно приглашая зрителей смотреть на них. Он комментатор – отстраненный, холодный, критичный, загадочный, возможно, даже скептически настроенный. Он показал нам эту сцену, но сам не стал ее частью.
Изображения молодого Леонардо? Вверху слева: фрагмент Верроккьевого Давида, 1466. Вверху справа: эскиз с «листа Фиораванти», 1478. Внизу слева: набросок для «Поклонения волхвов», 1481. Внизу справа: художник, сидящий перед перспектографом, 1478–1480.
Отъезд
Юноша смотрит вдаль, за рамки, которые стесняют и ограничивают его. В сентябре 1481 года о Леонардо в последний раз упоминается в платежных документах монастыря Сан-Донато. Вскоре после этого Леонардо покинул Флоренцию и отправился в Милан. Он провел там (насколько нам известно) более полутора лет. Мы не знаем истинной причины его отъезда. Действительно ли ему хотелось покинуть родной город, отца, родных и друзей, забыть о начинающейся карьере? А может быть, он решил совершить небольшую прогулку, отправиться на север, увидеть что-то новое?
Как я уже говорил, самым удивительным в этой поездке в Милан является то, что Леонардо поехал на север в качестве музыканта. До сих пор мы не знаем, действительно ли он был «послан» Лоренцо Медичи или «приглашен» Лодовико Сфорца. За этой стилистической тонкостью кроется очень многое. В каком настроении Леонардо покидал Флоренцию? Был ли он культурным послом, представителем флорентийского искусства, талантливым и достойным восхищения художником? Или он уезжал, ощущая груз неудачи, – картины остались незаконченными, образ жизни не встречает одобрения, репутация неоднозначна? Нельзя сказать, что один настрой точно исключает другой. В душе Леонардо могли жить противоречивые чувства. Леонардо был готов уехать, а Лоренцо был готов его отпустить. Беспокойство и рациональность – вот два основных мотива, которые воплотились в странной фантазии художника: в скрипке с серебряным резонатором в форме лошадиного черепа.
Точная дата отъезда Леонардо неизвестна. Последняя запись, связанная с его пребыванием во Флоренции (доставка бочки красного вина с монастырских виноградников Сан-Донато), относится к 28 сентября 1481 года. Первая запись о пребывании художника в Милане (контракт на «Мадонну в скалах») была сделана 25 апреля 1483 года. Аноним утверждает, что Леонардо покинул Флоренцию в возрасте тридцати лет. Если воспринять его слова буквально, то можно сказать, что Леонардо отправился в Милан после 15 апреля 1482 года.
Леонардо мог входить в свиту Бернардо Ручеллаи и Пьетро Франческо да Сан-Миниато, которые в начале 1482 года были отправлены в Милан как дипломатические представители Флоренции.[305] Леонардо вполне мог быть спутником популярного, просвещенного Бернардо Ручеллаи, последователя Платона, покровителя Томмазо Мазини и предполагаемого заказчика «Святого Иеронима». В это время Бернардо было около сорока лет. Он был одним из богатейших людей города и шурином Лоренцо Медичи. Бернардо Ручеллаи провел в Милане четыре года. С 1484 по 1486 год он являлся официальным флорентийским послом. Сонет великого сплетника Бернардо Беллинчьони обращает наше внимание на связь Леонардо с Ручеллаи и его спутником по путешествию в Милан, Пьетро Франческо да Сан-Миниато. Сонет озаглавлен «S’a Madonna Lucretia essendo l’auctore a Fiesole». Другими словами, сонет был написан во Фьезоле и адресован Лукреции Торнабуони, матери Лоренцо Медичи. В сонете упоминаются «мессер Бернардо» и «Пьеро», в которых угадываются Ручеллаи и Сан-Миниато. В сонете есть такие строчки:
- A Fiesole con Piero Leonardo
- Е fanno insieme una conclusione.
(Во Фьезоле с Пьеро был Леонардо, и вместе они пришли к согласию).[306]
Бернардо и Пьер Франческо были утверждены oratori, то есть посланниками, 10 декабря 1481 года. В Милан они отправились 7 февраля 1482 года. Вполне возможно, что вместе с ними отбыл и Леонардо.
Незадолго до отъезда Леонардо исписал тот лист, который я так часто цитирую. На нем перечислены картины, рисунки и модели, которые он взял с собой в Милан. Это своеобразное портфолио художника. В список включены «две Мадонны», одна из которых, скорее всего, «Мадонна Бенуа»; и «несколько фигур святого Иеронима»; и портрет Аталанте Мильиоротти, «поднявшего голову»; и «несколько машин для кораблей», и «несколько машин для воды»; и «множество цветов, нарисованных с натуры»; и «множество разнообразных узлов», или vinci. Этот список вполне согласуется с известными работами Леонардо, относящимися к 70-м годам XV века. Однако он вселяет в нас огромную печаль – так много работ нам неизвестно. По-видимому, они безнадежно утрачены. Куда делись «8 святых Себастьянов», «голова цыгана» и «голова герцога» (скорее всего, речь идет о портрете последнего миланского герцога, Франческо Сфорца)? В некоторых случаях описание просто непонятно. Идет ли речь во фразе «4 disegni della tavola da santo angiolo» об эскизе для картины, изображающей святого ангела, или о картине для церкви Сант-Анджело? И что такое «componimenti d’agnoli»? Это композиция ангелов или углов? Этот лист лишний раз подтверждает увлеченность Леонардо волосами – пять эскизов связаны с волосами («голова в профиль с красивыми волосами», «пухлое лицо с вьющимися волосами», «голова девушки, с локонами, собранными в узел» и т. п.). Среди художественных работ мы находим calcedonio, то есть халцедон – драгоценный камень, разновидность кварца, относящийся к той же группе, что и сердолик и агат.
Лист черновиков Леонардо, 1482. Это самый плотно исписанный лист из Атлантического кодекса
Лист, на котором написан этот список, таит в себе и другие сюрпризы. Первый пункт списка (по крайней мере, первый в современном прочтении) – «голова, пухлое лицо юноши с красивой копной волос» – написан чужим почерком и, скорее всего, в другое время. По отношению ко всему остальному эта строка написана сверху вниз и слева направо. Почерк чревычайно схож с тем, каким написаны латинские стихи о пушке Гибеллине и сонет, начинающийся со строк «Lionardo mio». Другими словами, можно утверждать, что эта строка была написана поэтом из Пистои Антонио Каммелли. В нижнем левом углу листа мы видим весьма неумело нарисованную карикатуру в профиль, изображающую угрюмого молодого человека с длинными волосами в берете. Мне кажется, что это последний флорентийский портрет Леонардо – «Lionardo mio… perche tanto penato?» – «Мой Леонардо, почему ты так печален?». Может быть, этот рисунок был сделан самим Иль Пистоезе, а может быть, это набросок Зороастро, у которого на стенах его римской лаборатории висело множество рисунков со странными лицами.
Если считать список работ ретроспективным документом, знаменитое «верительное письмо» к Лодовико Сфорца должно было определить будущее Леонардо в Милане. Скорее всего, оно было написано во Флоренции. Леонардо собирался передать его Лодовико при первой же возможности. Копия, которая дошла до наших дней, написана красивым, разборчивым почерком профессионального писца, хотя, судя по незначительным помаркам и вставкам, этот лист не мог быть составлен для представления высоким особам.[307] Леонардо перечисляет свои таланты, причем очень уверенно. Удивляет то, что основной упор он делает на военную инженерию, хотя нет никаких сведений о том, что к тому времени он достиг в этой области каких-то заметных успехов. Готовясь покинуть Флоренцию, Леонардо рассчитывает на новое занятие. Он хочет стать инженером герцога Миланского.
Письмо начинается весьма цветисто:
«Пресветлейший государь мой!
Увидев и рассмотрев в достаточной мере попытки всех тех, кто почитает себя мастерами и изобретателями военных орудий, и найдя, что устройство и действие названных орудий ничем не отличается от общепринятого, попытаюсь я, без желания повредить кому другому, светлости вашей представиться, открыв ей свои секреты в любое время, какое будет для вас удобно…»
Затем Леонардо перечисляет «инструменты», секреты которых он может открыть Лодовико. Это настоящая энциклопедия военных орудий:
«1. ладею способами постройки легчайших и крепких мостов, которые можно без всякого труда переносить и при помощи которых можно преследовать неприятеля, а иногда бежать от него, и другие еще, стойкие и не повреждаемые огнем и сражением, легко и удобно разводимые и устанавливаемые. И средства также жечь и рушить мосты неприятеля.
2. В случае осады какой-нибудь местности умею я отводить воду из рвов и устраивать бесчисленные мосты, кошки и лестницы и другие применяемые в этом случае приспособления.
3. Также, когда из-за высоты вала или укрепленности местоположения нельзя при осаде местности применить бомбард, есть у меня способы разрушать всякое укрепление или иную крепость, не расположенную вверху на скале.
4. Есть у меня виды бомбард, крайне удобные и легкие для переноски, которые кидают мелкие камни, словно буря, и наводящие дымом своим великий страх на неприятеля с тяжелым для него уроном и смятением.
5. Также есть у меня средства по подземельям и по тайным извилистым ходам пройти в назначенное место без малейшего шума, даже если нужно пройти под рвами или рекой какой-нибудь.
6. Также устрою я крытые повозки, безопасные и неприступные, для которых, когда врежутся с своей артиллерией в ряды неприятеля, нет такого множества войска, коего они не сломили бы. А за ними невредимо и беспрепятственно сможет следовать пехота.
7. Также, в случае надобности, буду делать я бомбарды, мортиры и метательные снаряды прекраснейшей и удобнейшей формы, совсем отличные от обычных.
8. Где бомбардами пользоваться невозможно, буду проектировать машины для метания стрел, баллисты, катапульты и другие снаряды изумительного действия, непохожие на обычные; словом, применительно к разным обстоятельствам буду проектировать различные и бесчисленные средства нападения.
9. И случись сражение на море, есть у меня множество приспособлений, весьма пригодных к нападению и защите; и корабли, способные выдержать огонь огромнейшей бомбарды, и порох, и дымы».[308]
Естественно, что у Лодовико Сфорца сразу же должен был возникнуть вопрос: а правда ли все это? Вполне возможно, что Леонардо владел основами инженерных навыков, он умел учиться быстро, с ним работал выдающий металлург Томмазо Мазини. Однако у нас нет никаких доказательств того, что перечисленные в письме машины когда-то существовали иначе, чем на бумаге.[309] Это настоящая научная фантастика, воображение художника опередило жизнь. Это письмо одаренного мечтателя, который подумает о деталях позже.
В конце письма Леонардо вспоминает, что он еще и художник: «Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Сходно и в живописи – все, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто б он ни был». А потом он добавляет то, что, по его мнению, может наилучшим образом привлечь внимание Лодовико: «Смогу приступить к работе над бронзовой конной статуей, которая будет бессмертной славой и вечной честью блаженной памяти отца вашего и славного дома Сфорца».
Это первое упоминание об огромной конной статуе Франческо Сфорца, о которой Леонардо бесплодно мечтал много лет. В 1480 году его учитель Верроккьо отправился в Венецию, чтобы проделать ту же работу – создать конную статую кондотьера Бартоломео Коллеони. Вся Флоренция гудела, узнав, что Сфорца задумали аналогичный проект. Студия Поллайоло даже разработала несколько вариантов.[310] Монументы были грандиозными, дорогими и укрепляли репутацию художника. Леонардо на мелочи не разменивался.
Он тщательно упаковал эти документы, подведя итоги прошлому и построив планы на будущее. Они заняли свое место в его дорожном сундуке или седельной сумке вместе с рисунками и незаконченными картинами, глиняными статуэтками и драгоценным халцедоном. И с серебряной лирой.
Часть четвертая
Новые горизонты
1482–1490
- …Seggendo is piuma
- In fama non si vien, ne sotto coltre,
- Sanza la qual chi sua vita consuma
- Cotal vestigio in terra di se lascia
- Qual fummo in aere ed in acqua la schiuma.
Строчки из «Ада» Данте, записанные Леонардо. Виндзорская коллекция 12349v
- […Лежа под периной
- Да сидя в мягком, славы не найти.
- Кто без нее готов быть взят кончиной,
- Такой же в мире оставляет след,
- Как в ветре дым и пена над пучиной. ]
Милан
Леонардо оценивал расстояние от Флоренции до Милана в 180 миль. Определяя расстояния, он всегда пользовался дометрической милей, miglia.[311] Современные атласы дают нам значение 188 миль. Учитывая то, что во времена Леонардо конный всадник за день мог проехать 20–30 миль (два или три переезда, если использовались почтовые лошади), путешествие из Флоренции в Милан должно было занять около недели. Маршрут пролегал по северной стороне Аппенинских гор в Болонью (дорога пролегала параллельно современной автостраде А1), а затем по долине реки По в небольшой городок Модена, принадлежавший семейству Эсте.
Для того, кто тщательно изучает рукописи Леонардо, Модена приобретает особое значение: она явилась объектом грубой шутки художника. В записных книжках Леонардо часто встречаются непристойности, но эта выделяется из их числа. Это шутка или скорее саркастическое замечание о высоких въездных пошлинах, взимаемых по распоряжению моденских властей:
«Человек, въезжающий в Модену, должен был заплатить пошлину в 5 сольди за право войти в город. Он поднял такой шум, что привлек внимание окружающих, и те спросили, что его так удивляет. И Масо ответил: «Ну, конечно, я удивлен, обнаружив, что целый человек может войти сюда всего за 5 сольди, тогда как во Флоренции мне пришлось заплатить 10 золотых дукатов только за право ввести свой член. А здесь я могу ввести и член, и яйца, и все свое тело за такую мизерную сумму. Господи, спаси и сохрани этот прекрасный город и всех, кто им управляет!»[312]
Мой перевод лишь приблизительно передает грубость оригинала. Речь, разумеется, идет о плате за секс с флорентийской проституткой. Использованное имя Масо (Том) говорит о том, что эта история была либо анекдотом, либо о ней рассказал Леонардо кто-то из знакомых. Вполне возможно, что автором являлся Томмазо Мазини, то есть Зороастро, придумавший ее во время путешествия в Милан вместе с Леонардо.
Кортеж должен был проехать по долине реки По – через Реджо-Эмилию, Парму, Пьяченцу. И вот впереди Милан. Готические шпили его собора ясно прорисовываются в зимнем небе Ломбардии. Римляне называли этот город Медиоланумом (in medio piano, то есть в центре равнины). Завоевавшие его ломбардцы переиначили название в Майланд, а затем в Милан. Милан был крупным торговым городом, лежащим на пересечении основных путей. Расположение трудно было назвать стратегически удачным или здоровым. Милан оказался вдали от всех рек, протекающих по равнине, – По, Адды и Тичино. Зимой в Милане сыро и туманно. Судя по всему, Леонардо появился в городе в один из таких дней. Милан был окутан туманом, приглушавшим все краски, в точности как на будущих картинах художника.
В 1482 году Милан еще только формировался. В городе жило около 80 тысяч человек. Милан был немного больше Флоренции, но ему недоставало развитых политических и коммерческих структур. Милан оставался старомодным феодальным городом-государством, которым управляла правящая династия. Власть эта была чисто военной, а никак не юридической. Семейство Сфорца пришло к власти совсем недавно. В 1450 году отец Лодовико, Франческо Сфорца, сверг прежних властителей, Висконти, и провозгласил себя герцогом Миланским. История семейной фамилии была очень короткой. Дед Лодовико, Муццо Аттендоло, был крестьянином, а потом стал наемником. Фамилию Сфорца он избрал в качестве боевого прозвища (от sforzare, то есть напрягаться, взламывать). Историки-романтики, такие как Жюль Мишле, считают Сфорца «героями терпения и хитрости, сумевшими создать себя из ничего». Но современники считали миланских герцогов «грубыми солдатами».[313] Это было на руку странствующему художнику Леонардо да Винчи, поскольку его будущий покровитель еще не успел пресытиться. Хвастовство и показуха – вот что определяло династию Сфорца. Всеми силами они старались заставить людей забыть о том, что поднялись из грязи. Северный город всегда был очень передовым. Здесь носили бургундские наряды, здесь пользовались достижениями немецких инженеров. Леонардо оценил миланскую атмосферу десятью годами раньше, когда кавалькада Сфорца поразила и шокировала граждан Флоренции.
Средневековый Милан – Милан, каким его видел в 80-х годах XV века Леонардо, – и сегодня можно увидеть на современной карте. Эллипс давно исчезнувших крепостных стен прослеживается на широких улицах, формирующих внутреннее кольцо Милана. Крепостные стены были построены в конце XII века после того, как армии императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы разрушили город. Эти стены располагались внутри внешнего кольца укреплений, которое частично сохранилось (например, ворота Порта Венеция в общественных садах). Внешние стены были построены испанцами в середине XVI века. Во времена Леонардо их не существовало. Протяженность средневековых стен составляла чуть больше трех миль – примерно такую же протяженность имели стены Лукки. Учитывая, что население внутренней части Лукки сегодня составляет менее десяти тысяч жителей, становится ясно, какая теснота и скученность царили в восьмидесятитысячном Милане эпохи Кватроченто. В стенах имелись десять ворот. Восемь из них показаны на схематичной карте города из Атлантического кодекса. Под схемой набросан вид Милана с высоты птичьего полета. На рисунке можно различить замок, собор и высокую, заостренную башню Сан-Готтардо.[314]
Прибыв с юга, флорентийская делегация Ручеллаи и Сан-Миниато, скорее всего, вошла в город через ворота Порта Романа. Предположительно, Леонардо, Томмазо Мазини и Аталанте Мильиоротти входили в свиту флорентийских дипломатов. На облицованном мрамором фасаде ворот находился барельеф, изображающий изгнание ариев из Милана святым Амброзием, а также еще один – «Человек с драконом» (считается, что это портрет Барбароссы). Имена каменщиков XII века, вырезавших барельефы, сохранились в камне. Их звали Джирардо и Ансельмо.[315]
Проехав через город, миновав огромный готический собор, делегация прибыла к замку Сфорца, расположенному в северной части города. Ранее Кастелло Сфорцеско назывался Кастелло Сан-Джиовио. Брат Лодовико, Галеаццо Мария, расширил и укрепил замок еще в 60-х годах XV века. Главная резиденция правителей города переместилась сюда из старого замка Висконти, расположенного возле собора. Неизвестный флорентиец, увидевший замок Сфорца в 1480 году, двумя годами раньше Леонардо, так описывал его: «Прекрасный и очень мощный замок, окруженный рвами и занимающий половину квадратной мили или даже больше, с садом за стенами, имеющими около трех миль в периметре».[316]
Снаружи стены замка, сложенные из потемневшего красного кирпича, производят довольно мрачное впечатление. Через высокую въездную башню, построенную флорентийским архитектором Филаретом, вы попадаете в огромный внутренний двор – своими размерами этот двор должен был очень нравиться Сфорца. А дальше вы увидите окруженный рвом внутренний двор. Справа располагается Корте Дукале, используемый для придворных функций, а слева небольшой дворик Кортиле делла Роккетта, где находились личные апартаменты герцога, охраняемые стражей. Элегантные колоннады, построенные при Лодовико, не избавляют вас от ощущения того, что вы находитесь в укрепленной крепости, построенной в эпоху вполне понятной паранойи.
Леонардо не мог знать, сколько времени он проведет в этой крепости и как сложатся его отношения со щедрым, но непредсказуемым Лодовико. Предположительно он оставил свой след на расписанных стенах и потолках Зала делле Ассе в северо-восточной части замка. Предположительно – поскольку реставрация, проведенная сто лет назад, включала и глобальную перерисовку. Вы сможете заметить это внутри зала. Но, к счастью, я впервые увидел зал снаружи, с крепостной стены, увитой плющом, в вентиляционных отверстиях которой гнездятся крикливые вороны. Через верхнее окно можно увидеть переплетенные ветви, написанные Леонардо в 1498 году. Сегодня они вместе с воронами напоминают нам о тщете политической власти перед лицом природы, «любовницы всех мастеров».
Прибыв в Милан в конце февраля 1482 года, флорентийцы попали прямо на Амвросианский карнавал. Миланцы совместили карнавал, предшествующий посту, с праздником святого Амвросия, покровителя города, который отмечается 23 февраля. Данный факт делает неудивительным то, что Леонардо был приглашен в Милан в качестве музыканта, о чем пишут и Аноним, и Вазари. В «Жизнеописаниях» мы читаем: «Леонардо был с большим почетом отправлен к герцогу для игры на лире, звук которой очень нравился этому герцогу… он победил всех музыкантов, съехавшихся туда для игры на лире». Можно предположить, что на празднике был устроен своеобразный музыкальный конкурс. Скорее всего, подобное мероприятие проводилось в официальных апартаментах в Корте Дукале. Более поздняя запись Леонардо, по-видимому, была сделана в сходных условиях: «Тадео, сыну Николайо дель Турко, исполнилось девять лет в канун Михайлова дня 1497 года; в тот день он прибыл в Милан и играл на лютне и был сочтен одним из лучших музыкантов Италии».[317]
Схематическая карта Милана, составленная Леонардо, 1508
Лодовико Сфорца, портрет работы неизвестного ломбардского художника. С алтаря, начало 90-х гг. XV в.
Вот так, в качестве музыканта, Леонардо да Винчи вошел в мир Лодовико Сфорца, Иль Моро, сильного человека (пока еще не герцога Миланского, несмотря на то что Вазари его так называет). По-видимому, это была их первая встреча, хотя Леонардо мог видеть его десятью годами раньше во Флоренции, когда Лодовико сопровождал своего брата Галеаццо Марию во время государственного визита. Леонардо и Лодовико были ровесниками. Лодовико, четвертый законный сын Франческо Сфорца, родился в Виджевано в начале 1452 года. Прозвище Иль Моро, «Мавр», ему дали и из-за одного из его имен, Мауро, и за смуглое лицо. На гербе Лодовико была изображена голова мавра. На расписном свадебном сундуке его изобразили верхом на коне в сопровождении стражника-мавра. Еще одной эмблемой Лодовико было дерево шелковицы (на итальянском это дерево называется moro), поскольку он с энтузиазмом способствовал развитию шелкопрядения в Италии. В 1476 году Галеаццо Мария был убит. Лодовико сумел быстро изолировать овдовевшую герцогиню, Бону Савойскую, и ее десятилетнего сына Джан Галеаццо, законного герцога. Будучи регентом, он правил герцогством как полноправный правитель. Он был безжалостен, честолюбив и алчен, но в то же время прагматичен и интеллигентен (по крайней мере, до тех пор, пока интерес к астрологии и предсказательству в нем не возобладал). Лодовико искренне хотел создать миланский Ренессанс. На множестве стереотипных портретов, где он изображен в профиль, мы видим дородного, плотного мужчину с большим подбородком. Портрет Лодовико с Пала Сфорцеска, то есть с алтаря Сфорца, многое говорит о самооценке этого человека (сейчас этот портрет хранится в галерее Брера). Судя по всему, пропагандистская песня, бытовавшая в те годы в Милане, должна была ему льстить:
- Один Бог на небесах,
- Один Мавр на земле.[318]
6 марта Бернардо Ручеллаи отправил депешу ко двору Лоренцо Медичи. Он обсудил с Лодовико «проект и устройство крепости в Казальмаджоре». Лодовико остался им полностью удовлетворен. Возможно, присутствие Леонардо в свите Ручеллаи было связано и с этим укреплением в долине реки По. Леонардо вполне мог обеспечивать то, что сегодня назвали бы «техническим сотрудничеством» между Флоренцией и Миланом, а не только быть изготовителем модных музыкальных инструментов и искусным музыкантом.
На какой-то момент Леонардо стал весьма популярен. Его музыка очаровала Мавра, да и инженерные способности пригодились. Леонардо получил возможность передать Лодовико знаменитое «верительное письмо», предусмотрительно составленное перед отъездом. Список военных машин – бомбард, крытых повозок, осадных орудий, средств для прокладки туннелей и легких мостов – не мог не произвести впечатления на герцога. Рисунки, сделанные в Милане, изображают некоторые из этих устройств, так что Лодовико, несомненно, был заинтересован. Портативная пушка или мортира, «которая кидает мелкие камни, словно буря», изображена на рисунке 1484 года, хранящемся в Виндзоре. На обороте листа мы видим наброски укрепленного города, подвергающегося бомбардировке. Крытая повозка изображена на рисунке 1487–1488 годов, хранящемся в Британском музее, и упоминается на листе того же периода, находящемся в Париже. На парижском листе утверждается, что подобные повозки «вытеснят слонов», – довольно архаичное замечание. По словам Мартина Кемпа, в этих военных проектах «абсолютно неразделимо соединяются практическая изобретательность, опыт античных предшественников и полная неправдоподобность воображения».[319]
Карта Милана, составленная Иосифом Хофнагелем, гравюра, 1572
Укрепленная повозка Леонардо, 1478–1488
Механизмы, изображенные на этих и более поздних рисунках, весьма привлекательны, как с психологической, так и с практической точек зрения. Подобные проекты должны были понравиться честолюбивому и страдающему манией преследования деспоту эпохи Кватроченто. Они вызывали в нем ощущение всевластия. Великолепный рисунок артиллерийского арсенала или литейного цеха – с обнаженными рабочими, орудующими гигантскими рычагами и повозками (на ум сразу же приходит «Метрополис» Фрица Ланга), передает ощущение технического драматизма и величия, кроющегося в обещаниях Леонардо. Станет ли Мавр, терзался сомнениями Леонардо, его покровителем? Сумеет ли оценить масштаб и величие его замыслов? Впрочем, в Милане Леонардо быстро лишился иллюзий, о чем говорит оборванная на полуслове фраза над рисунком автоматической пушки: «Если бы миланцы могли сделать что-нибудь столь необычное…»[320]
Но Леонардо предвидел подобное развитие событий и снабдил свое резюме таким замечанием:
«Во времена мира считаю себя способным никому не уступить, как архитектор, в проектировании зданий и общественных, и частных, и в проведении воды из одного места в другое. Также буду я исполнять скульптуры из мрамора, бронзы и глины. Сходно и в живописи – всё, что только можно, чтобы поравняться со всяким другим, кто б он ни был».
Нам странно, что таланты Леонардо как художника, скульптора и архитектора занимают в его резюме место за инженерными способностями и конкретно способностями военного инженера, умеющего строить танки, мортиры и бомбарды. Но Леонардо очень точно оценивал обстановку и чувствовал приоритеты миланского двора. Впрочем, Вазари пишет о том, что Леонардо очень часто совершенно неверно оценивал собственные таланты.
Театр военных действий. Драматический рисунок миланской оружейной литейной
Изгнанники и художники
Ломбардия была для флорентийцев заграницей. Иной климат, иной ландшафт, другой образ жизни… Даже язык другой – диалект, испытывающий сильное влияние немецкого языка. Джованни в Ломбардии превращался в Зоане, а Джорджо – в Зорзо. Все было новым и непривычным. Музыкальных талантов и военных обещаний было недостаточно, чтобы Леонардо, как это часто утверждают, мгновенно включился в придворную жизнь миланского двора. Он был больше чем чужаком, ему снова приходилось начинать все сначала – опыт печальный, но и весьма полезный. Имя Леонардо почти не встречается в миланских документах без прозвища «флорентиец». Он стал флорентийцем, хотя не был и никогда им не стал во Флоренции.
В Милане существовала сильная флорентийская диаспора. По-видимому, первые месяцы в Милане эти люди и были кругом общения Леонардо. Коммерчески Флоренция присутствовала в Милане в виде отделения банка Медичи. Штаб-квартира банка располагалась в огромном дворце на современной улице Босси. Этот дворец Козимо Медичи получил в подарок от отца Лодовико. Во дворец попадаешь через богато украшенную резьбой каменную коринфскую арку. В резьбе искусно переплелись тосканские и ломбардские мотивы – весьма дипломатично. Здесь проводились деловые встречи, здесь же хранилась казна банка. Дворец Медичи служил своеобразным консульством для странствующих флорентийцев. Главным представителем Медичи в Милане было семейство Портинари, с которым Леонардо был знаком. В меморандуме, составленном в начале 90-х годов XV века, он напоминает себе о том, что нужно «справиться у Бенедетто Портинари, как катаются на коньках во Фландрии».[321]
В 1482 году в Милане жил знаменитый флорентиец, известный путешественник, писатель и дипломат Бенедетто Деи, которому к тому моменту было уже за шестьдесят. Впервые он посетил Милан в конце 40-х годов XV века. Деи находился в городе, когда «Франческо Сфорца взял город с мечом в руках». Он был знаком и с Портинари. В 1476 году он отправился во Францию и Нидерланды как агент этого семейства. (Судя по всему, именно из этого источника Бенедетто Портинари и узнал, как катаются на коньках во Фландрии.) Леонардо мог встречаться с Деи во Флоренции, поскольку тот был в хороших отношениях с ученым Тосканелли и поэтом Луиджи Пульчи. Пульчи даже посвятил Деи сонет «In principio era buio, е buio fia» («В начале был мрак, и всегда будет мрак» – провокационная пародия на книгу Бытия), ставший причиной скандала. Из этого можно сделать вывод, что Деи относился к вопросам религии довольно скептически:
Hai tu veduto, Benedetto Dei,
Come sel beccon questi gabbadei
Che dicon ginocchion l’ave Maria!
Tu riderai in capo della via
Che tu vedrai le squadre de’ Romei…
(Видел ли ты, Бенедетто Деи, насколько глупы те ханжи, что преклоняют колени и бормочут свои «Аве, Мария»! Ты бы посмеялся в начале улицы, если бы увидел те толпы паломников, которые спешат в Рим…)
Философ Фичино сурово осудил Пульчи за богохульные стихи, «направленные против Господа». Все это происходило в начале 1476 года, примерно в то же время, когда Леонардо работал над портретом Джиневры, в котором явно чувствуется влияние Фичино. Пульчи и Деи – как и Антонио Каммелли – придерживались более скептических, трезвых взглядов, которые не могли не импонировать Леонардо. С 1480 по 1487 год Деи почти постоянно живет в Милане, служа Лодовико Сфорца. Он достиг апогея своей карьеры дипломата и репортера. Деи знал всех и все, «la tromba della verit» (труба истины). Он собирал и распространял новости через сеть своих корреспондентов, среди которых были его друзья и родственники во Флоренции, каждую неделю получавшие его письма, влиятельная династия Гонзага из Мантуи, Эсте, Бентивольо.[322]
Почти с уверенностью можно сказать, что Леонардо был знаком с этим общительным, интересным флорентийцем, ставшим политическим советником Мавра. Должность была почетной, хотя и не всегда хорошо оплачиваемой. (Деи с горечью говорил о том, что ему приходится прилагать титанические усилия, чтобы получить от Лодовико свое жалоанье.) Леонардо с интересом слушал рассказы Деи о путешествиях в Турцию, Грецию, на Балканы и в Северную Африку: немногие могли, как Деи, из первых рук рассказать о жизни в Тимбукту. Об этом интересе мы узнаем из записки Леонардо, которая начинается со слов «Дорогой Бенедетто Деи». Этот лист датируется примерно 1487 годом, то есть годом отъезда Деи из Милана. В записке явственно чувствуется элемент пародии – Деи славился своими небылицами. История о гигантах более всего напоминает знаменитую поэму Morgante maggiori старинного друга Деи Луиджи Пульчи. С этой книгой Леонардо был знаком и даже имел ее в личной библиотеке.[323]
Служил Мавру и еще один флорентиец, Пьеро ди Веспуччи. После заговора Пацци он был схвачен и допрошен с пристрастием, якобы за подстрекательство к бунту, хотя скорее всего из-за того, что он был старым врагом Джулиано Медичи. Вражда возникла из-за ухаживания Джулиано за Симонеттой Каттанеи, которая была замужем за сыном Пьеро, Маттео. В 1480 году Веспуччи был «восстановлен во всех своих правах», но предпочел почетную ссылку.[324] Лодовико принял его очень тепло и сделал своим советником. Но в 1485 году Пьеро Веспуччи был убит в мелком столкновении в соседнем городке Алессандриа.
Банкиры, дипломаты и изгнанники: эти люди составляли внутренний круг флорентийского влияния при дворе Мавра. Все они могли быть полезны Леонардо. Еще одним членом этого круга был Бартоломео Калько, известный ученый-эллинист из Флоренции. Лодовико назначил его своим секретарем. Одной из задач Калько было «исправление грубой речи миланцев». В этой фразе ощутим налет интеллектуального снобизма. Неудивительно, что местные придворные относились к флорентийцам с предубеждением. Последним флорентийцем в Милане стал скандальный поэт Бернардо Беллинчьони, знакомый с Леонардо еще по Флоренции. Однако он появился в Милане только в 1485 году.
В художественном отношении Милан представлял собой весьма эклектичную смесь. В силу своего географического положения он ощущал на себе влияние с севера – из Германии, Франции, Бургундии и Фландрии. Но и ближайшие соседи – Венеция и Падуя – не могли не оказывать своего влияния. В Милане жило множество франко-германских каменщиков и скульпторов, которые и создали чудо готической архитектуры – Миланский собор. Главным инженером строительства в начале 80-х годов XV века был немец Йохан Нексемпергер из Граца. Смешанные влияния затрудняли создание уникального местного стиля, но в эпоху Сфорца искусству стали придавать большое значение. В 1481 году товарищество миланских художников, Школа Святого апостола и евангелиста Луки, насчитывало около шестидесяти членов.
Величайшим художником, работавшим в Милане в 1482 году, был еще один иммигрант. Он приехал из сурового края Марке к востоку от Аппенин. Речь идет о художнике и архитекторе Донато Браманте. Он подружился с Леонардо, который стал называть его Доннино. Похоже, что подружились два художника гораздо раньше. Браманте родился в окрестностях Урбино в 1444 году. Он был на восемь лет старше Леонардо. В молодости при дворе урбинского герцога Федерико да Монтефельтро он познакомился с великим Альберти. До того как осесть в Милане, Браманте вел кочевую жизнь странствующего художника. В 1482 году он работает над своим первым крупным архитектурным заказом – молельней Санта-Мария. Миланские придворные поэты по достоинству оценили его сатирические стихи. Вазари называет Браманте добрым и гениальным, а кроме того, упоминает о том, что он хорошо играл на лютне. Рафаэль изобразил Браманте на фреске «Афинская школа» и на небольшом рисунке, ныне хранящемся в Лувре. На всех портретах мы видим сильного, круглолицего мужчину с жидкими, взъерошенными волосами.[325]
Среди местного художественного сообщества в то время выделялся уроженец Брешии Винченцо Фоппа, находившийся под явным влиянием Мантеньи и Джованни Беллини. Ему особенно удавались световые эффекты, придававшие его картинам неповторимое сияние. Большие надежды подавали и более молодые художники – Амброджио да Фоссано (известный под именем Иль Бергоньоне – Бургундец), Бернардино Бутиноне и Бернардо Зенале. Но теснее всего из местных художников с Леонардо в первые годы его пребывания в Милане сошлись члены семейства Предис. Двое из них были коллегами или партнерами Леонардо в начале 1483 года.
Студия де Предис представляла собой уникальное семейное предприятие: четыре брата стали художниками. Старший, Кристофоро (которого в документах называют mutus, то есть молчальником), работал преимущественно иллюстратором. Ему удавались великолепные миниатюры в стиле фламандских мастеров. Самые тесные и продолжительные отношения у Леонардо сложились с младшим сводным братом Кристофоро, Амброджио, родившимся в 1455 году. Он начал свою карьеру в студии Кристофоро. Первые работы, выполненные им в 1472–1474 годах, относятся к стилю миниатюрных книжных иллюстраций. Заказчиком выступало семейство Борромео. Позднее Амброджио работал на миланском монетном дворе вместе с другим братом, Бернардино. К 1482 году он начал работать как портретист. В этом году герцогиня Феррарская выделила 10 браччий атласа «Zoane Ambrosio di Predi da Milano dipintore de lo Ill. Sig. Ludovico Sforza». К моменту прибытия в Милан Леонардо Амброджио Предис уже был «художником Лодовико». Скорее всего, он специализировался на портретах, в чем достиг вершин мастерства.[326]
Леонардо близко сошелся с этой влиятельной в мире искусства семьей. В контракте на «Мадонну в скалах», подписанном в апреле 1483 года, в качестве его партнеров выступают Амброджио и Еванджелиста де Предис. Это было взаимовыгодное партнерство – Леонардо старше и по годам, и в художественном отношении, а у Предисов были связи и клиентура. В контракте Леонардо именуют «мастером», тогда как у Еванджелисты и Амброджио нет никаких титулов. Судя по всему, Леонардо поселился у них или где-то поблизости, поскольку у всех троих указан один адрес: приходская церковь Святого Винсента в Прато intus. Старинная романская церковь Святого Винсента в Прато находится прямо за юго-западным углом крепостных стен, возле ворот Порта Тичинезе. Часть прихода находилась intus, то есть внутри стен. Судя по всему, это то место, где сегодня находится площадь Резистенца. Здесь Леонардо провел первые месяцы 1483 года вместе с Зороастро и Аталанте Мильиоротти, а братья Предис были его помощниками.
«Мадонна в скалах»
Главным результатом сотрудничества Леонардо с братьями Предис стала прекрасная, загадочная картина, которую называют «Мадонна в скалах» (см. иллюстрацию 11). Частично ее загадочность очевидна – ускользающее настроение, приглушенные краски, герметичность композиции. Но в картине кроется и историческая загадка. Процесс ее создания тщательно задокументирован, и эти документы рассказывают нам сложную и противоречивую историю. Картина существует в двух вариантах, похожих, но неидентичных. Происхождение этих вариантов обсуждается учеными до сих пор. На данный момент считается, что картина, хранящаяся в Лувре, является более ранней, относящейся к 1483–1485 годам. Она была написана самим Леонардо. Тот же вариант, что находится в лондонской Национальной галерее, был написан позднее в сотрудничестве с Амброджио де Предисом. Впрочем, подобная точка зрения во многом зависит от истолкования имеющихся документов.
Начало истории совершенно однозначно. Картина была заказной. Контракт был подписан 25 апреля 1483 года и заверен нотариусом Антонио де Капитани.[327] Этот документ был обнаружен в архивах примерно сто лет назад. Он является самым ранним упоминанием о пребывании Леонардо в Милане. Контракт заключен между Леонардо – «magister Leonardus de Vinciis florentinus», Амброджио и Еванджелистой де Предисами с одной стороны и религиозной группой Братства Непорочного зачатия – с другой стороны. Предметом контракта являлась ancona (алтарный образ с закругленной верхней частью) для часовни братства в церкви Сан-Франческо Гранде. Контракт был очень престижным. Церковь Сан-Франческо Гранде, построенная Висконти в начале XIV века, была самой большой в Милане после собора. (В 1576 году церковь была разрушена. Сегодня на ее месте находятся казармы Гарибальди.) Членами братства являлись самые богатые семьи Милана: Корио, Казати, Поццобонелли и другие.
Художники должны были написать три картины – центральную панель высотой 180 см и шириной 120 см и две боковые панели поменьше. Размеры задавались очень строго, так как картина должна была быть помещена в готовую резную деревянную раму работы выдающегося инкрустатора и резчика Джакомо дель Маино. Художники обязались также покрасить и вызолотить раму, а также произвести ремонт в случае необходимости. Можно предположить, что труд был разделен следующим образом: Еванджелиста, раньше занимавшийся только миниатюрой, декорировал раму; придворный художник Амброджио писал боковые панели, а центральную часть поручили флорентийскому маэстро.
Работа должна была быть закончена к 4 декабря, к празднику Введения во храм. Сроки были очень сжатыми, на всю работу отводилось менее восьми месяцев. Вознаграждение определялось в 800 лир, хотя график платежей разрабатывался не в интересах художников. К 1 мая 1483 года художники должны были получить сто лир, а затем получать по 40 лир в месяц начиная с июля 1483 года. В декабре 1483 года после сдачи готовой картины выплачивалась оставшаяся часть вознаграждения. Этот контракт по своим кабальным условиям во многом напоминает контракт Леонардо с братьями монастыря Сан-Донато на «Поклонение волхвов». Это начало истории. Оно совершенно однозначно – датированный документ, достигнутое соглашение. А вот дальше начинается столь обычная для Леонардо неопределенность.
«Мадонна в скалах», несомненно, была написана по этому контракту, но картина совершенно не удовлетворяет требованиям, выдвинутым клиентами. Согласно контракту, на центральной панели должна была быть изображена Мадонна с младенцем, окруженная ангелами, а также два пророка. На каждой из боковых панелей художникам следует написать четырех ангелов, поющих и играющих на музыкальных инструментах. Из всех условий на «Мадонне в скалах» выполнено лишь одно – здесь есть Мадонна с младенцем. Ни ангелов, ни пророков, а вместо них младенец святой Иоанн Креститель. Боковые панели тоже весьма своеобразны. На каждой из них изображено только по одному ангелу.
Одной из причин подобного своеволия могло быть то, что Леонардо уже работал над картиной или каким-либо ее вариантом и решил продолжить работу, несмотря на условия контракта. Кеннет Кларк считает, что луврская «Мадонна в скалах» была начата еще во Флоренции, когда Леонардо работал над «Мадонной Литта».[328] И действительно, в картине чувствуется флорентийская атмосфера: красота лица Мадонны, поворот ее головы, длинные вьющиеся волосы. Мадонна и ангел написаны в типично Веррокьевой манере. Но этого-то и ожидали от Леонардо миланские заказчики. Они обратились к нему именно потому, что хотели получить картину в изысканной флорентийской манере. Более поздний, лондонский, вариант весьма отличается от луврского по настроению. Эта картина строга и сдержанна. Лица стали бледными, почти восковыми. Это более строгая, печальная, ускользающая красота. Если на парижском варианте преобладают приглушенные, теплые тона, то лондонская словно залита лунным светом. Написанные нимбы, полностью отсутствующие на первом варианте и на всех флорентийских Мадоннах Леонардо, судя но всему, были добавлены по требованию братства.
Отношения между этими двумя картинами весьма загадочны, и загадку не проясняют более поздние документы. Интересно, что последний документ, относящийся к «Мадонне в скалах», датируется 1508 годом, то есть он был составлен через двадцать пять лет после первоначального контракта. Это говорит о том, что художники все же завершили работу примерно в 1485 году, но между ними и заказчиками возникли разногласия относительно оплаты. Эти разногласия остались неразрешенными, и в 1492 году Леонардо и Амброджио де Предис обратились к Лодовико Сфорца, чтобы тот помог им взыскать причитающееся вознаграждение с братства.[329] Картина в документе описана с типично юридической бесстрастностью: «la Nostra Donna facta da dicto fiorentino» – «Мадонна, выполненная вышеупомянутым флорентийцем». Мы знаем, что художники просили conguaglio, то есть согласованного вознаграждения в 1200 лир, утверждая, что 800 лир, полученные ими, могут считаться платой только за работу над рамой. Братство предложило художникам 100 лир, но те стали требовать более справедливого вознаграждения. В случае недостижения согласия они хотели забрать картину, за которую могли получить большую сумму от кого угодно. Упоминание о возможном покупателе картины скрывает в себе ключ к разгадке. Судя по всему, этой заинтересованной стороной выступал сам Лодовико. «Мадонна в скалах» могла быть той самой неназванной pala, то есть алтарным образом, который он в 1493 году отправил императору Максимилиану в качестве свадебного подарка (Максимилиан женился на племяннице Лодовико, Бьянке Марии). Упоминания ранних биографов Леонардо, и в частности Антонио Билли, подтверждают такую возможность. «Он написал алтарный образ для герцога Лодовико Миланского, и это была самая прекрасная картина, какую только видел глаз человека: она была отправлена герцогом в Германию, императору». «Мадонна в скалах» – единственный алтарный образ, написанный Леонардо в Милане. Эта картина не была написана для Сфорца, как утверждает Билли, но вполне могла быть приобретена им у братства в 1492 или 1493 году и отправлена в подарок Максимилиану. То, что Амброджио де Предис в то время находился при императорском дворе в Инсбруке, делает такое предположение вполне правдоподобным.[330]
То, что картина была отправлена в Германию, объясняет и ее появление в Лувре. Некоторые картины Леонардо, хранящиеся в Лувре, прибыли во Францию в 1516 году вместе с самим художником. Но нет никаких упоминаний о том, что среди этих картин была «Мадонна в скалах». Вполне возможно, что она попала во Францию из коллекции Габсбургов или в 1528 году, когда внучка Максимилиана, Элеонора, вышла замуж за Франциска I. Можно с уверенностью утверждать, что к 1625 году «Мадонна в скалах» уже была во Франции. Кассиано даль Поццо видел ее во дворце Фонтенбло.
Подтверждает эту теорию и создание второго варианта картины – лондонского. Это замена, копия, написанная для братства вместо картины, отправленной императору. В таком случае работа над лондонским вариантом должна была начаться где-то между 1493 и 1499 годами, когда Леонардо покинул Милан. Судя по всему, в юридических документах 1503–1508 годов речь идет именно о лондонском, а не о парижском варианте картины. Такую датировку подтверждает и великолепный рисунок детского профиля из Виндзорской коллекции, который в точности повторяет расположение младенца Христа на лондонском варианте «Мадонны в скалах». Такой стиль рисунка был характерен для Леонардо в середине 90-х годов XV века.[331]
Младенец Христос и ангел с лондонского варианта «Мадонны в скалах» (сверху) и эскиз головы и плеч младенца из Виндзорской коллекции
«Мадонна в скалах» – одна из самых загадочных картин Леонардо. Вы сразу же обращаете внимание на необычный танец рук на переднем плане – рука матери, поддерживающая младенца, указующая рука ангела, благословляющая рука младенца.
Скалистый пейзаж на заднем плане, который и дал название всей картине, мог быть написан под влиянием картины Филиппо Липпи «Рождество», ныне хранящейся в Берлине, или «Поклонения волхвов» Мантеньи, написанного в начале 60-х годов XV века для мантуанских герцогов Гонзага. Оба художника изобразили сцену Рождества в маленькой пещере в скалах. На картине же Леонардо изображена встреча младенцев Христа и святого Иоанна Крестителя, хотя традиционно эту встречу относят к периоду возвращения Святого семейства из Египта. (В Евангелии не упоминается о подобной встрече. О ней мы узнаем из апокрифа Евангелия от святого Иакова.) Скалы – это символ пустыни (в искусстве Ренессанса под пустыней понимали любое ненаселенное, пустынное место), дикой природы.[332] В этой спокойнейшей из картин присутствует элемент повествования: семья путешествует, они остановились отдохнуть, спускаются сумерки, они будут ночевать в этом диком, но безопасном месте. Я уже упоминал о теме пещеры, возникающей на листе 1480 года, хранящемся в Кодексе Арундела. «Мадонна в скалах» изображает то чудесное, что кроется во мраке пещеры. Глядя на эту картину, мы испытываем чудо Откровения. Мы превращаемся в рассказчика, который, «среди темных блуждая скал», ненадолго остановился: «Подошел я к входу в большую пещеру, пред которой на мгновение остановясь пораженный, не зная, что там…»
Такое взаимодействие природной обстановки и людей, находящихся в ней, подчеркивается великолепно прописанными дикими цветами, каждый из которых имеет скрытый религиозный смысл. Справа от головы Мадонны мы видим водосбор (Aquilegia vulgaris), который чаще всего называют «голубкой (colomba) Святого Духа». Над правой рукой Мадонны – подмаренник. В английском языке это растение называют «постельной соломкой Богоматери» и традиционно ассоциируют с яслями. У ног младенца Христа мы видим цикламен, сердцевидные листья которого символизируют любовь и преданность, а под его коленом – розетку примулы, символ добродетели (недаром Верроккьо изобразил примулу в своей «Женщине с букетом цветов»). Еще одно знакомое растение мы видим за преклонившим колени святым Иоанном Крестителем. Это акант (Acanthus mollis), который традиционно сажают на могилах. Акант – символ воскресения, поскольку ранней весной у него очень быстро отрастают блестящие зеленые листья. На скальных карнизах Леонардо изобразил зверобой. Мелкие красные пятнышки на желтых лепестках этого растения символизируют кровь святого Иоанна Крестителя.[333] Такие символические ассоциации являлись частью визуального словаря, понятного и художникам, и наиболее просвещенным зрителям. Но красота и прелесть картины Леонардо в том, что все это реальные растения, что мы видим живую природу – скалы, камни, растительность. И эта реальность в присутствии Мадонны и Христа переживает духовное превращение. Центральной фигурой картины является Мадонна, которой и приносили свои обеты члены братства Непорочного зачатия. Но Мадонну можно рассматривать и как женское начало Природы, которой поклонялся сам Леонардо.
Пути бегства
В 1485 году Милан захватила эпидемия бубонной чумы, уже три года свирепствовавшая в Европе. Леонардо уже сталкивался с чумой во Флоренции, где вспышка этой болезни произошла в 1479 году. Но, к счастью, тогда через несколько недель болезнь удалось победить. В Милане все было гораздо страшнее. Согласно некоторым оценкам, пусть даже и преувеличенным, чума выкосила примерно треть населения города. И это неудивительно, если принять во внимание ужасную скученность, туманы и массовые погребения. Люди постоянно осматривали себя, страшась обнаружить первые признаки болезни. 16 марта 1485 года произошло полное солнечное затмение. Естественно, что это явление было воспринято как зловещее предзнаменование. Леонардо наблюдал затмение через большой лист перфорированной бумаги, о чем писал в небольшой заметке, озаглавленной «Как наблюдать солнечное затмение без ущерба для глаз?».[334]
Во время эпидемии Леонардо продолжал работать над «Мадонной в скалах». Нет причин предполагать, что он уезжал из Милана. Судя по всему, работа продолжалась в студии братьев Предисов у ворот Порта Тичинезе. Мы знаем привередливость Леонардо. Этот мужчина постоянно мыл руки розовой водой, чтобы его пальцы благоухали. Зловоние оскорбляло его. Его раздражали толпы, переносящие инфекцию: «Это скопление людей, которые сбивались в стада, как козлы, один за другим, заполняя каждый угол зловонием и распространяя заразу и смерть».[335] Работа над картиной позволяла отключиться от ужасов повседневной жизни, удалиться в прохладную пещеру в скалах за тысячи миль от людей, ощутить благословение самой Природы.
Примерно в то же время Леонардо составил рецепт лекарства, по-видимому, от чумы:
«Возьми семян лекарственного плевела…
Смочи вату в винном спирте.
Немного белой белены,
Немного ворсянки,
Семена и корень аконита.
Высуши все. Смешай этот порошок с камфарой, и лекарство готово».[336]
В разгар чумы Леонардо впервые задумывается об «идеальном городе». В эпоху Ренессанса подобная тема была в большой моде. Об этом рассуждали Альберти и Филарете, а до них великий римский архитектор Витрувий. Можно представить, как Леонардо рассуждает об идеальном городе со своим образованным другом Донато Браманте. На рисунках и в записях, относящихся к 1487 году, перед нами предстает воздушный, геометрический, футуристический город с площадями, улицами, туннелями и каналами (забавно, что город будущего мы с вами ищем в глубоком прошлом!). Идеальный город должен был располагаться на двух уровнях. Верхний уровень отводился пешеходам для общения, любования красотами, общения. Та же идея сегодня реализована в пешеходных зонах современных городов. Нижний уровень был целиком занят каналами, по которым происходило перемещение товаров и животных, где размещались склады торговцев и где обитали те, кого Леонардо называл «обычными» людьми. Улицы были широкими, высота фасадов строго регулировалась, высокие печные трубы направляли дым в небо, чтобы он не мешал живущим в городе людям. Леонардо рекомендовал делать лестницы в общественных зданиях спиральными, поскольку на квадратных лестничных площадках имеются темные углы, которые люди могут использовать в качестве туалетов. Более всего его занимало улучшение санитарной обстановки в городе, что неудивительно в разгар эпидемии чумы. Леонардо размышлял над устройством идеального туалета. Это, конечно, не водосливной туалет, изобретенный сэром Джоном Харрингтоном столетие спустя, но тоже нечто замечательно устроенное: «Сиденью нужника дай поворачиваться, как окошечку монахов, и возвращаться в свое первое положение противовесом. Крышка над ним должна быть полна отверстий, чтобы воздух мог выходить».[337]
В это время Леонардо вновь задумывается о столь любезной его сердцу идее человеческого полета:
«Посмотри на крылья, которые, ударяясь об воздух, поддерживают тяжелого орла в тончайшей воздушной выси, вблизи стихии огня, и посмотри на движущийся над морем воздух, который, ударяя в надутые паруса, заставляет бежать нагруженный тяжелый корабль; на этих достаточно веских и надежных основаниях сможешь ты постигнуть, как человек, преодолевая своими искусственными большими крыльями сопротивление окружающего его воздуха, способен подняться в нем ввысь».[338]
А чуть ниже Леонардо описывает парашют и делает его набросок: «Когда у человека есть шатер из прокрахмаленного льняного полотна, шириною в 12 локтей и вышиною в 12, он сможет бросаться с любой большой высоты без опасности для себя». Это говорит о том, насколько серьезно художник относился к идее управляемого полета: а в противном случае к чему бы тогда изобретать парашют?
Заметки и рисунки по поводу идеального города
Парашют пирамидальной формы, предложенный Леонардо, оставался только проектом до 26 июня 2000 года, когда английский парашютист, Эдриан Николас, испытал его, спрыгнув с высоты 3000 метров в Национальном парке Крюгера в Южной Африке. Парашют был изготовлен в точности по указаниям Леонардо. Единственное отличие заключалось в том, что вместо льна парашютист использовал хлопок. Шатер, прикрепленный к сосновым планкам, весил около 100 кг – он был примерно в сорок раз тяжелее современных парашютов. Однако, несмотря на вес, свою задачу он выполнил идеально. Николас пролетел 2100 метров за пять минут: довольно медленное снижение. Финальную часть полета Николас осуществил с помощью обычного парашюта. Устройство Леонардо не складывалось, поэтому существовала опасность травмирования парашютиста упавшим на него парашютом. «Я испытывал чувство непередаваемого восторга и радости, – сказал Николас журналистам. – Я не мог удержаться, чтобы не сказать: «Мистер да Винчи, вы сдержали обещание. Я сердечно вам благодарен».[339]
Парашют Леонардо: набросок и инструкции, Атлантический кодекс, 1485
Аллегория Наслаждения и Боли
Убежать из пораженного чумой города ментально было легко – всегда можно было укрыться в благословенной прохладе «Мадонны в скалах», на воздушных бульварах идеального города, в прозрачной высоте неба. Но человек не от всего может убежать. От самого себя не скроешься. Примерно в то же время Леонардо создает целый цикл любопытных и весьма откровенных аллегорических рисунков, ныне хранящихся в колледже Крайстчерч в Оксфорде.[340] Художника интересовали две темы – неизбежность боли, следующей за наслаждением, и зависть к добродетели. Эти темы переплетались одна с другой, становились почти неотделимы. Можно сказать, что все рисунки Леонардо того периода посвящены одной теме: двойственности любого жизненного опыта, о том негативе, который кроется в любом позитиве, о неизбежности «другого», которое скрывается и уничтожает. Эти рисунки можно назвать набросками. Судя по всему, они делались в крайней спешке.
Наслаждение и Боль изображены в виде мужской фигуры с двумя головами и двумя парами рук. Надпись гласит: «Это – Наслаждение вместе с Болью, и изображаются они близнецами, так как никогда одно не отделимо от другого, словно они срослись вместе (appiccati)». Боль изображена в виде старика с бородой; Наслаждение – в виде юноши с длинными волосами. Этот рисунок можно рассматривать как комментарий к множеству набросков и рисунков, сделанных Леонардо в разное время и в разном стиле. Старик, которого часто называют «щелкунчиком» за его выступающий подбородок и обвисшие из-за отсутствия зубов губы, отворачивается от молодого, красивого юноши с вьющимися волосами. Две надписи под фигурой говорят нам о том, что одной ногой этот гибрид стоит на золоте, а другой – в грязи.
Другая часть этого текста гласит: «Если ты получил удовольствие, знай, что за ним стоит тот, кто принесет тебе несчастье и раскаяние». Леонардо не может удержаться от игры слов, и несчастье (tribolatione) изображено в виде таинственных маленьких острых предметов, которые сыплются из правой руки старика. Это оружие, которое в Италии называют tribolo. Мы бы назвали его «ежами», поражающими противника в ступню. Такие «ежи» изображены на рисунке 1480 года с надписью «tribolo di ferro». Ниже Леонардо объясняет, как следует разбрасывать эти «ежи» по земле, чтобы лишить противника возможности продвижения. Комментируя эту заметку Леонардо, граф Джулио Перро вспоминал: «Несколько лет назад (он писал в 1881 году), когда в Миланском замке устраивали новую школу верховой езды, были найдены два таких устройства, и они были в точности такими же, как описывал Леонардо».[341] Игра слов привела нас от живописи и рисунка к военной инженерии.
Боль одной рукой рассыпает мелкие колючки несчастья, а другой машет ветвью, которая, скорее всего, символизирует бичевание раскаяния. Действия Наслаждения физически аналогичны. Одной рукой Наслаждение сыплет монеты, поскольку наслаждение дорого (вспомните моденскую шутку: «Мне пришлось заплатить 10 золотых дукатов только за право ввести свой член»), а в другой руке держит стебель тростника. Интересно то, какой смысл Леонардо вкладывает в этот стебель, поскольку его объяснение – это довольно редкий пример двусмысленного текста, напоминающего фантазию о коршуне. Очевидный, материальный смысл внезапно раскрывает перед нами другой, сугубо личный. Леонардо объясняет, что Наслаждение изображено с тростинкой, потому что «она пуста и бессильна, а уколы, сделанные ею, ядовиты». В этом замечании есть символическое значение, но оно отступает на второй план за последующим воспоминанием или фантазией:
«В Тоскане делаются из тростника подпорки кроватей, дабы обозначить, что здесь снятся пустые сны и что здесь теряется большая часть жизни, что здесь выбрасывается много полезного времени, а именно утреннего времени, когда душа трезва и отдохнула, и также тело способно снова воспринять новые труды; также воспринимаются там многие пустые удовольствия и душою, воображая невозможные сами по себе вещи, и телом, доставляя себе те удовольствия, которые часто становятся причиной лишения жизни; вот поэтому-то и берут тростник для таких подпорок».
Можно сказать, что тростник для изготовления кроватей в Тоскане использовался по чисто практическим, а никак не символическим соображениям. Мораль данной истории носит гораздо более личный характер. Это своеобразная исповедь: у Леонардо были «пустые сны», то есть эротические фантазии, когда он по утрам лежал в постели. И эти сны ему не нравятся, потому что ему следовало в это время уже подняться и заняться делами или потому что эти фантазии были гомосексуальными. Фаллический стебель в руке Наслаждения – это всего лишь слабая и «бесполезная» тростинка, символ прекращения эрекции, происходящего в контексте данной заметки после мастурбации, а не после полового акта. Тема инфекции – «уколы, сделанные ею, ядовиты» – лишний раз подчеркивает чувство отвращения к себе, связанное с данным образом. Кроме того, в этом замечании можно услышать отголоски чумы, свирепствовавшей в это время на миланских улицах.
Рисунок «Добродетель и Зависть» несет в себе тот же заряд. Леонардо вновь подчеркивает их неразделимость, неотрывность друг от друга. И снова в его рисунке чувствуется скрытый эротизм. «Добродетель» подразумевает под собой не просто моральную чистоту, а силу (буквально «мужественность», поскольку слово «добродетель», «virtue» происходит от латинского слова «vir») духа и интеллекта, которые и ведут человека к совершенству. Добродетель, в широком смысле слова, – это высшее или лучшее «я» человека во всех его воплощениях. Зависть – это то, что нападает, и уничтожает, и компрометирует это высшее «я». Подобно Боли и Наслаждению, Добродетель и Зависть изображены в виде единого тела, в виде сиамских близнецов. Текст, написанный под рисунком, гласит: «Как только родится Добродетель, она порождает против себя Зависть, и скорее будет тело без тени, чем Добродетель без Зависти». На рисунке Зависть изображена с воткнутой в глазницу оливковой ветвью и с воткнутой в ухо веткой лавра или мирта. Леонардо объясняет: «Делается она раненной в глаза пальмой и маслиной, делается раненной в ухо лавром и миртом, чтобы обозначить, что победа и истина ее сражают». Несмотря на то что в тексте Добродетель имеет женский род («она порождает против себя Зависть»), на рисунке определить пол фигуры затруднительно – женской груди у нее явно нет. Фигуры расположены так, что в рисунке можно увидеть и слияние, и роды. Рисунок во многом напоминает знаменитый анатомический рисунок из Виндзорской коллекции, изображающий половой акт в разрезе.[342]
Аллегория Зависти, скачущей верхом на Смерти
На другом рисунке две женские фигуры скачут на гигантской жабе: подпись гласит, что перед нами Зависть и Неблагодарность. За ними мчится скелет, изображающий Смерть с косой, – вы чувствуете дыхание чумы? Зависть выпускает стрелу в человеческий язык: четко распознаваемый образ «ложного доноса». Есть и еще один рисунок, на котором Зависть скачет на скелете. На обоих рисунках Зависть изображена в виде старухи с обвисшими грудями («делается она худой и высохшей, так как она всегда находится в непрерывном сокрушении»), но в то же время «с маской красивого вида на лице». Образ скачущей женщины несет в себе явный эротический подтекст. Этот рисунок перекликается с любопытным ранним наброском Леонардо, на котором молодая женщина с накрашенными щеками скачет верхом на старике. Этот рисунок обычно называют «Аристотель и Филлида».[343] Известно, что философ Аристотель женился на женщине намного моложе себя. Хотя ко времени женитьбы Аристотелю было где-то около сорока, на рисунке перед нами старик, соблазнившийся прелестями юной красавицы. «Филлида, скачущая на спине Аристотеля, – пишет А. Е. Попхэм, – образ, чрезвычайно близкий средневековым циникам, утверждающим, что интеллект всегда покоряется любви. Этот сюжет относится к тому же циклу, что и история Вергилия в корзине или Самсона и Далилы».[344] На обороте наброска Леонардо написал простой набор слов: «любовницы наслаждение боль любовь ревность счастье зависть удача наказание».
Рисунок Аристотеля и Филлиды, похоже, сделан несколькими годами раньше оксфордских аллегорий, но его можно отнести к тому же аллегорическому циклу. Изображаемый сюжет весьма эротичен, аллегории еще более эротичны. В этих рисунках ощущается ловушка – сила момента сведена к нулю из-за взаимодействия противоположностей. Все, что соединено, разъединится. Золото превратится в грязь. Человек стремится ввысь, но противодействующая сила тянет его на землю. Этой силой могут быть зависть и злоба окружающих, но, скорее всего, источником противодействия является сам человек, его фатальная, изматывающая слабость, «инфекция» его сексуальности.
Первые записные книжки
Самые ранние известные нам записные книжки Леонардо относятся к середине 80-х годов XV века. Большинство документов и набросков, о которых мы с вами уже говорили, представляют собой разрозненные листы, переплетенные в то или иное большое собрание или сохраняющиеся в коллекциях, как, например, в коллекции колледжа Крайстчерч в Оксфорде. Некоторые из этих листов ранее были частями записных книжек или альбомов. Сохранилось свидетельство о том, что Леонардо начал вести записные книжки примерно в середине 80-х годов XV века. К этому времени художник уже не испытывал страха перед письменным словом, трудности и обиды, связанные с недостатком образования, остались в прошлом. Он более не считает себя «неграмотным», «omo sanza lettere». Его почерк становится более стремительным, а фразы – более емкими. Почерк Леонардо лишился того, что Аугусто Маринони называл «избыточностью и цветистостью».[345]
Самая старинная из всех сохранившихся записная книжка хранится во Французском институте, это Paris MS В. Ее датируют 1487–1490 годами, хотя одна-две страницы из нее могли быть написаны немного раньше.[346] Формат книжки абсолютно стандартен – это quaderno, книжка для упражнений: размер страниц 22,9 15,2 см. Эта записная книжка сохранилась в оригинальном пергаментном переплете с застежкой в виде петли и продолговатой деревянной пуговицы. Текстуально книжка почти едина, но физически она разделяется на две части. Изначально записная книжка состояла из ста листов, но в 40-х годах XIX века граф Либри извлек последнюю часть (листы 91–100) и продал их вместе с другими украденными документами английскому библиофилу, лорду Эшбернхэму. Страницы были возвращены в Париж, но по-прежнему хранятся отдельно от первой части.
Темы книжки MS В чрезвычайно разнообразны. Переплетенная записная книжка позволяла в любое время делать записи и наброски на любую интересующую художника тему – а тем таких у Леонардо было бесконечное множество. Мы находим здесь заметки по архитектуре, в том числе и наброски проекта утопического города будущего и соборов. Здесь же множество заметок по военной инженерии – как практических, так и «футуристических». В записной книжке есть проекты подводных лодок и набросок зловещего вида плота «для поджога мостов ночью – но сделай парус черным».[347] А рядом чертеж Архитронито, паровой пушки, изготовленной из меди. Леонардо утверждал, что позаимствовал эту идею у Архимеда. Когда в раскаленном жерле закипала вода, давление пара становилось достаточным для выстрела: «Казалось, произошло чудо; для глаз это ярость и гнев, для ушей – ожесточенный рев».[348] Все военные машины Леонардо невероятно драматичны – это настоящий «театр войны». На всех набросках мы видим мускулистых, полуобнаженных рабочих и солдат, атакующих крепостные стены. Судя по всему, Леонардо серьезно подумывал о должности архитектора и инженера при дворе Сфорца.
Продолжают занимать ум художника и полеты. В Парижской записной книжке MS В мы находим первые тщательно проработанные чертежи классического Леонардова летательного аппарата, являющегося по сути своей орнитоптером – машиной, использующей принцип полета птицы. Это и отличает орнитоптер от геликоптера, где используется принцип спирали или винта. (Вторым элементом обоих слов является греческое pteron – то есть «крыло».) На листах с 73-го по 79-й размещена целая серия чертежей, являющаяся самым последовательным циклом чертежей летательных аппаратов.[349] Здесь и два варианта «горизонтального орнитоптера», где пилот лежит на спине и управляет аппаратом с помощью педалей и рукояток, которые поднимают и опускают крылья, а направление полета задается тросами и рычагами. На листе 75 Леонардо изображает новинку – «руль, размещенный на шее». Это длинный, оперенный хвост с тросом или соединительной планкой, который соединялся со скобой, закрепленной на шее пилота. На листе 79 Леонардо изобразил другой горизонтальный орнитоптер, более сложный и менее реальный, чем первый. А перевернув страницу, мы видим еще более фантастический «вертикальный орнитоптер», в котором пилот стоит в кабине вертикально и оперирует четырьмя гигантскими крыльями, делающими аппарат похожим на гигантскую стрекозу. Две пары крыльев движутся «крест-накрест на манер конской рыси». Для управления скользящими механизмами крыльев пилот использует не только руки и ноги, но и голову. Силу головы Леонардо оценивает примерно в 200 фунтов. Длина кабины должна была составлять примерно 12 метров. На следующем листе мы находим набросок стартовой площадки: платформа, установленная на переносных лестницах по 6 метров высотой. (Это число и его производные не раз встречаются в записях Леонардо, связанных с идеей полета.) Аналогия с птицей возникает и здесь: «…посмотри на стрижа, который сел на землю и не может взлететь из-за своих коротких ног… эти лестницы служат ногами…».[350]
Орнитоптер. Наброски летательной машины из Парижской записной книжки MS B (горизонтальный и вертикальный варианты)
Чертежи Леонардо – настоящая научная фантастика. Были ли они когда-нибудь построены или так и остались мечтами? Ни один из этих рисунков, отмечает Мартин Кемп, «нельзя считать полностью проработанным, завершенным и недвусмысленным». Они «представляют собой «незаконченные мысли о способах и средствах».[351] Но чертежи Леонардо нельзя считать чистым теоретизированием. На листе 88 мы видим огромное искусственное крыло, которым с помощью деревянного рычага управляет человек. Инструкция гласит:
«Если ты хочешь получить истинное испытание крыльев, то возьми несколько ивовых прутьев, соединенных жилами, и натяни их на полотно, образуя крыло шириной и длиной по меньшей мере в 20 локтей, и укрепи его на доске весом в 200 фунтов. Это крыло, как показано на рисунке, будт производить движущую силу. И если доска в 200 фунтов будет поднята, прежде чем крыло упадет, испытание удалось, но обрати также внимание на то, чтобы сила была быстрой».
И все это описание заключается лаконичным советом: «Если вышеописанный результат не будет получен, не теряй больше времени на это».[352]
На другом листе Леонардо размышляет над идеей геликоптера. Если «прибор этот, сделанный винтом» вращается быстро, то «названный винт ввинчивается в воздух и поднимается вверх». Подобно парашютам, лопасти этого примитивного геликоптера должны были быть покрыты «полотном, поры которого прокрахмалены».[353]
Летательные аппараты и оружие, города и соборы, шестерни и колеса, геометрические фигуры – все это и многое другое мы находим на страницах Парижской записной книжки. Есть здесь рисунок струнного инструмента с головой монстра на грифе. Этот рисунок может быть связан с лирой да брачча, которую Леонардо привез в Милан несколькими годами раньше. Рисунок находится на первом из украденных Либри листов, на листе 91. На 92-м листе изображены ножи и сабли с искусно изрезанными рукоятками.
Последний лист, оборотная сторона листа 100, является одновременно и обложкой (когда книжка оказалась извлеченной из пергаментного переплета). Лист весь покрыт набросками, заметками и каракулями. В верхнем левом углу проведены какие-то вычисления, по-видимому денежные. Справа – список слов, одно из которых (sorbire) послужило ключом к латинскому списку из другой записной книжки, Кодекса Тривульцио. Затем идет памятный список, заканчивающийся словами: «Спросить у мастера Лодовико водяные трубы, небольшую печь, трутницу, вечное движение [машину], небольшие мехи, кузнечные мехи».[354] Ниже находятся три строчки иероглифов, напоминающих символы древнееврейского языка, а еще ниже четыре наброска, изображающие мотылька, летучую мышь, стрекозу и бабочку. Под изображением летучей мыши перед началом длинной кляксы в нижнем левом углу мы видим слова «animale che fuge dell’uno elemento nell’altro» – прекрасное и типичное Леонардово определение полета: «животное, которое перелетает из одного элемента в другой». В нижнем правом углу изображена фигура, которую Маринони называет «человеком в мантии, склонившимся в почтительной позе». Впрочем, лицо этой фигуры настолько комично, что о выражении почтения догадаться довольно сложно. Рука фигуры протянута, чтобы ухватиться за крыло летучей мыши. Само крыло покрыто каракулями, которые придают ему фактурность. Хватка человека придает всему рисунку некий эротический подтекст. Человек мешает крылатому созданию «перелететь» из одного элемента в другой. Этот рисунок чем-то напоминает аллегории Добродетели—Зависти, Наслаждения—Боли, хранящиеся в Оксфорде. Человеческое тянет человека к земле. Вот такие рисунки и записи мы находим на последнем листе старинной записной книжки.
К этому же периоду относятся еще две записные книжки, датируемые 1487–1490 годами. Одна из них очень невелика. Она является частью Кодексов Форстера, хранящихся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.[355] В ней мы находим чертежи архимедовых винтов, или coclea, используемых для подъема воды, а также других гидравлических механизмов. Здесь же приводятся разнообразные химические рецепты, что, по-видимому, говорит о присутствии в жизни Леонардо Зороастро, или «маэстро Томмазо», как называл его сам художник. Занимает Леонардо и загадка вечного движения, хотя позднее он окончательно отвергнет эту идею, назовет ее иллюзией, плодом заблуждений и сравнит с химерической мечтой о выплавке золота из любого материала, владеющей умами алхимиков.
Еще одной ранней записной книжкой Леонардо является Кодекс Тривульцио. Свое название она получила в честь миланского семейства, которое владело ею в XVIII веке. Книжка никоим образом не связана с известным Леонардо кондотьером эпохи Ренессанса Джанджакомо Тривульцио. Подобно Парижской книжке MS В, в ней есть архитектурные чертежи. Здесь же мы находим ряд остроумных карикатур – это один из самых ранних образцов гротеска, который позднее станет характерной чертой многих рисунков Леонардо. Однако большинство страниц этой записной книжки занимают списки латинских слов. Леонардо записывал сотни слов, а в случае необходимости переводил их на итальянский. Это ускоренный курс изучения международного языка просвещения и философии.
На первой странице Кодекса Тривульцио[356] в столбик написаны пять слов:
donato
lapidario
plinio
dabacho
morgante.
На первый взгляд этот список кажется еще одним словарным упражнением, но это не так. Слова представляют собой сокращения названий книг. Список не имеет заголовка, и мы не можем с уверенностью утверждать, что эти книги принадлежали Леонардо. Но все они встречаются в более поздних списках книг, представляющих собой перепись библиотеки художника. Может быть, в то время у Леонардо были только эти книги? Это вполне вероятно: печатные книги стоили дорого, поскольку все еще являлись недавним изобретением. Библиофилы той эпохи относились к ним с предубеждением. Флорентийский книготорговец Веспасиано да Бистиччи писал о библиотеке рукописей, принадлежавших герцогу Урбинскому, «великолепно иллюминированных и переплетенных в серебро и пурпур». Затем Бистиччи добавляет: «Если бы здесь была хоть одна отпечатанная книга, ей было бы стыдно в таком обществе!»[357] Более поздние списки, составленные Леонардо, говорят о том, что он начинает активно приобретать книги. В списке, входящем в Атлантический кодекс и относящемся к началу 90-х годов XV века, перечислено сорок книг, а в знаменитом Мадридском каталоге 1504 года содержится уже 116 томов.
Пять книг из Кодекса Тривульцио очень точно отражают сферу интересов Леонардо конца 80-х годов XV века. Donato – это популярная книга по латинской грамматике и синтаксису De octo patribus orationis Элия Доната. В XV веке она выдержала несколько изданий. Термином donato в те времена обозначали любую книгу по латинской грамматике (а начальный курс называли donatello, то есть малым Донато). Присутствие этой книги объясняет большое количество латинских словарных списков в записной книжке Леонардо.
Термин lapidario определить однозначно затруднительно. Скорее всего, речь идет о некоем справочнике по драгоценным камням и минералам. Библиофил XIX века, граф Джироламо д’Адда, который первым начал систематическое изучение записных книжек Леонардо, полагает, что это слово может быть итальянским переводом Liber lapidum («Книги камней»), написанной французским епископом XII века Марбодом. В этой книге, которую также называют De gemnis («О камнях»), рассказывалось также о медицинских свойствах драгоценных камней.[358]
Под plinio, несомненно, подразумевается Historia naturalis («Естественная история») Плиния Старшего, римского писателя, ученого и государственного деятеля, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Его «Естественная история» в эпоху Ренессанса пользовалась большой популярностью. Плиний был уроженцем Комо. Неудивительно, что ломбардцы считали его своим национальным героем. Издание, принадлежавшее Леонардо, скорее всего, было итальянским переводом Кристофоро Ландино, опубликованным в Венеции в 1476 году. Леонардо почти наверняка был знаком с Ландино еще по Флоренции.
Термин dabacho (то есть d’abaco) также неоднозначен. Слово abacus в данном контексте может означать любую книгу по арифметике. В те времена существовала знаменитая книга Trattato d’abaco Паоло Дагомари, но к концу XV века она уже устарела. В 1484 году была опубликована книга Пьеро Борги да Венеция Nobel opera de anthmetica. Леонардо часто ссылается на «маэстро Пьеро даль Борго».
Слово morgante вновь возвращает нас во Флоренцию, к популярной романтической поэме Луиджи Пульчи, непочтительного друга Лоренцо Медичи и Бенедетто Деи. Эта бурлескная, сленговая поэма, написанная в стиле, напоминающем Антонио Каммелли, но более утонченная и изысканная, появлялась в двух вариантах. Вариант, состоящий из 28 стихов, который называли Morgante maggiore, был опубликован во Флоренции в 1482 году. Леонардо в своих книжках не раз его цитирует. Судя по всему, именно отсюда он и взял прозвище Салаи, то есть «маленький дьявол», для своего юного миланского ученика Джакомо Капротти.
Грамматика, естественная история, математика, поэзия – небольшой ряд книг на полке ученого-самоучки. Но это только начало великой любви к книгам, присущей Леонардо. Список книг, написанный красным мелком на листе из Атлантического кодекса, относится уже к 1492 году. На обороте листа мы находим примечания художника, которые почти дословно перенесены в Парижскую книжку MS А, относящуюся к тому же периоду.[359] Примерно через пять лет после составления скромного списка из Кодекса Тривульцио библиотека Леонардо увеличилась на тридцать семь томов. (В списке перечислены сорок книг, но три тома «Истории Рима от основания города» Тита Ливия значатся в нем как отдельные книги, а «Послания» Филельфо упомянуты дважды.)
Из тридцати семи книг шесть посвящены философии и религии, пятнадцать являются научными и техническими, а шестнадцать – литературными работами. К первой категории относятся Библия, Псалтырь, «Жизнеописания философов» и книга, названная De immortalita d’anima. Судя по всему, последняя книга – это «Платоновская теология» Фичино в переводе на итальянский язык. В 1481 году она была опубликована на латыни с подзаголовком De animarum immortalitate. Разнообразие научных работ в библиотеке Леонардо совершенно понятно. Здесь есть книги по математике, военной инженерии, сельскому хозяйству, хирургии, юриспруденции, музыке, хиромантии и драгоценным камням, а также три отдельные книги о медицине. А вот разнообразие литературной части библиотеки Леонардо удивительно. Впрочем, я отнес к этой категории три книги по грамматике и риторике, а также одну книгу о путешествиях (издание «Джован ди Мандивилла», то есть Джона де Мандевилля), которая содержит гораздо больше вымысла, чем фактов. Кроме этих книг у Леонардо собралась впечатляющая коллекция прозы и поэзии – классические работы Эзопа, Ливия и Овидия, издание Петрарки, Quadrireggio («Четырехцарствие») доминиканского монаха Федериго Фрецци, сборник прозы, озаглавленный Fiore du virt («Цветы добродетели»), скабрезные стихи Il Manganello, бурлескные поэмы Иль Буркьелло, Facetiae («Фацетии») Поджо Браччолини, Epistles («Послания») Филельфо, Driadeo («Дриадея») Луки Пульчи и Morgante («Морганте») его брата Луиджи Пульчи. Последняя книга, по-видимому, является той самой копией, что была упомянута в записной книжке из кодекса Тривульцио. Эти книги читались для удовольствия. Художнику тоже нужно было расслабляться.
Высокие истории, малые загадки
Судя по всему, в 1487 году Леонардо получил немного чистой бумаги из разодранной церковной книги. На двух чистых листах он набросал весьма живописную историю об африканском гиганте.[360] Эту историю он адресовал путешественнику и автору посланий Бенедетто Деи, флорентийцу при миланском дворе. Деи покинул Милан в 1487 году, о чем говорят некоторые фрагменты письма. Скорее всего, Леонардо написал свою историю в подарок Деи. Возможно, этот подарок был прощальным. На роль гиганта вполне подходил Зороастро. А впрочем, этот набросок мог быть одним из множества ghiribizzi, капризов Леонардо. Начинается история так:
«Дорогой Бенедетто Деи, сообщая тебе новости с Востока, скажу: знай, что в июне месяце появился гигант, который пришел из пустыни Ливии. Этот гигант родился на горе Атласе, и был черный, и выдержал борьбу против Артаксеркса, египтян и арабов, мидян и персов, питался в море китами, касатками и кораблями».
Дальше Леонардо описывает ужасную битву между гигантом и людьми, населявшими ту местность. Крохотные размеры людей в сравнении с гигантом напоминают нам путешествия Гулливера: «Наподобие муравьев, которые вне себя мечутся туда и сюда по дубу, срубленному секирой упорного поселянина, бегали они по огромным его членам, нанося ему множественные раны. А гигант, пришедший в чувство, заметив, что его почти целиком покрывает их множество, и сразу же почувствовав жжение уколов, замычал так, что казалось, будто это страшный раскат грома; опершись руками о землю, подняв свое грозное лицо, а затем, одной рукой взявшись за голову, он обнаружил, что она полна людей, держащихся на волосах, словно мелкие животные, которые там обычно водятся. И когда он тряхнул головой, люди посыпались в воздухе, словно град, когда его гонит ярость ветров».
Рихтер считает эту историю простой шуткой, мы же могли бы назвать ее пародией – подобные фантастические отчеты частенько встречались в книгах о путешествиях. Большинство подобных книг в то время создавалось в форме писем. Леонардо добродушно подшучивает над сомнительной достоверностью писем путешественников, а возможно, и над самим Бенедетто Деи, которому принадлежало немало подобных историй. Бенедетто путешествовал по Африке и свои рассказы приправлял немалой долей фантазии.
Леонардо мог иметь в виду легенду об Антее, гиганте, убитом Геркулесом. Антей также пришел из Ливии. А может быть, гигант – это внушающая ужас карикатура на африканского негра: «Черное лицо сразу же вселяет ужас и страх, в особенности же – глубоко сидящие красные глаза, под грозными темными бровями, способные сделать погоду хмурой и сотрясти землю… Косматый нос с широкими ноздрями, из которых выходила густая и крупная щетина, под ними – косматый рот с толстыми губами, по краям их – шерсть словно кошачья, а зубы желтые». Несомненно, Леонардо был знаком с расовыми характеристиками людей, населявших Африку. Он пародирует гиперболизированную фантазию путешественников, а может быть, высказывает какие-то свои сокровенные чувства. Для итальянцев черные африканцы были экзотикой, но не редкостью. Их изображали многие художники Ренессанса. В сценах поклонения волхвов у некоторых из них черные лица (хотя Леонардо не стал их изображать). Африканцы символизировали высокую сексуальность. В скабрезных стихах Il Manganello, упомянутой в списке Леонардо, есть история о жене богатого торговца, которая прельстилась своим слугой-«эфиопом», отличавшимся gran manganello, то есть «огромным орудием».[361] Прозвище Мавр, полученное Лодовико Сфорца, несло в себе и сексуальный подтекст. В те времена слово «мавр» обозначало черных африканцев, а не африканцев арабского происхождения из стран Магриба. Шекспировского Отелло, несомненно черного, называли «венецианским мавром».
В конце концов негроидный монстр пожирает всех вокруг, разрушает жилища людей, и веселая пародия Леонардо превращается в описание катаклизма, мировой катастрофы. Эта идея очень занимала художника – достаточно вспомнить его рисунки Великого потопа. История заканчивается весьма мрачным предложением: «Не знаю, что сказать или что сделать, поскольку я сам полетел головой вниз в эту огромную глотку и остался похороненным в гигантской утробе в состоянии, близком к смерти». Рассказчик в конце концов оказывается включенным в описываемые им события – в данном случае оказывается поглощенным гигантом. Леонардо не просто рассказывает, он вскрывает нечто личное, рассказывает о кошмаре, в котором его проглатывают и поглощают. Эта история напоминает «пророчества» Леонардо, которые вполне могут быть записью его снов. Здесь те же полет и падение, общение с животными, желания инцеста.
В более поздней записной книжке мы находи изображение еще одного чернокожего гиганта. Это описание менее интересно, поскольку фраза была взята из другой книги, «Королева Востока» Антонио Пуччи. Однако интересно само желание Леонардо скопировать эту цитату. Приводит он ее неточно. Особый интерес, по моему мнению, представляет собой ошибка в первой строке. Там, где Пуччи пишет, что гигант «был чернее, чем уголь (carbone)», Леонардо пишет «чернее, чем calabrone».[362] Calabrone – это большой черный летучий жук, встречающийся в Тоскане. В царстве насекомых этот жук действительно считается гигантом. Леонардо добавил всего один слог, и тривиальное сравнение превратилось в точное, конкретное и поэтичное, достойное старого друга художника, поэта Иль Пистоезе.
Судя по всему, Леонардо начинает более свободно обращаться с языком, превращается в настоящего рассказчика, которому доступны любые приемы. История о гиганте тому доказательство. Она была написана в конце 80-х годов XV века, когда Леонардо начинает собирать библиотеку прозы и поэзии. В то же время он приступает к ведению дневников и записных книжек. Записные книжки – это не литературное произведение. Это рабочий инструмент. В них мы находим описания, наблюдения, проблемы, решения, списки. И тем не менее ясность и выразительность языка показывает нам настоящего мастера слова. Книги по грамматике и риторике, скорее всего, связаны с научными исследованиями Леонардо, со стремлением доступно изложить свои достижения, а отнюдь не с литературными надеждами.
Для Леонардо писательство в литературном смысле слова всегда оставалось вторичным. (Парадоксально, но любимым литературным упражнением Леонардо было paragone, то есть сравнение живописи и поэзии, в котором живопись всегда оставалась победительницей. Это сравнение является одной из вступительных частей «Суждений о живописи».) Литературу Леонардо считает общественным, придворным искусством. Во Флоренции он дружил с поэтами Каммелли и Беллинчьони, но его собственные достижения в этой области ограничивались – насколько нам известно – искусством импровизатора, певца и декламатора, аккомпанирующего себе на лире да браччо. Письмо к Деи относится к той же сфере – развлечение, острота, возможно, созданная по конкретному поводу. Великолепное заключительное предложение – это неожиданный бриллиант, небольшой сценический эффект, завершающий представление на мрачной, беспокойной ноте. Такое настроение характерно для Леонардо-писателя: совершенно тривиальный формат, разговорный стиль – и моменты неожиданной поэзии.
Леонардо обожал каламбуры и игру слов. К концу 80-х годов XV века относится любопытный лист, связанный с этим занятным литературным жанром и в то же время дающий нам возможность заглянуть в душу художника. Этот большой лист хранится в Виндзорской коллекции. Кеннет Кларк назвал его «загадочным письмом». Сегодня мы называем подобные наброски ребусами или криптограммами.[363]
Ребус – это загадка, в которой слово или предложение изображено с помощью рисунков. Это визуальный код. Хотя игра заключается в том, чтобы обходиться без слов, по сути своей она является вербальной, так как решение целиком зависит от лингвистических познаний играющих и зачастую от многозначности используемых слов. Слово «ребус» могло прийти к нам из латыни. Карнавальные новости озаглавливались «De rebus quae geruntur» («Касательно происходящего», то есть известия о текущих событиях). Чтобы избежать обвинений в клевете, все имена в подобных листках заменялись рисунками и иероглифическими символами. Возможно, загадка получила свое название и от другого латинского выражения «non verbis sed rebus» («не словами, но вещами»). Традиция подобных криптограмм существовала в Италии издревле. Геральдические ребусы, представляющие семейную фамилию, пользовались особой популярностью. Описания правил составления гербов в те времена еще не существовало.
Часть большого листа ребусов, хранящегося в Виндзорской коллекции
На двух сторонах виндзорского листа Леонардо разместил 154 ребуса. (Вместе с другими фрагментами подобных загадок, относящихся к тому же периоду, общее их число приближается к 200).[364] Рисунки, использованные в них, весьма схематичны. Вся прелесть этих загадок – в их изысканной точности. Иногда используется только один рисунок, но чаще всего – сочетание рисунков и слов или букв (так что загадки Леонардо нельзя назвать чистыми ребусами). Судя по всему, этот лист являлся рабочим черновиком, где художник проверял свои идеи. Некоторые рисунки неразборчивы – скорее всего, художник сам их стер. Под каждым ребусом написан ключ, решение визуальной загадки. Ответом на ребус с изображением початка кукурузы и камня является выражение gran calamita, то есть «большое несчастье». Это выражение состоит из двух слов: grano, то есть «зерно», и calamita, то есть «магнитный камень». Буква «о» и груша (pera) – это opera, то есть работа. Лицо (faccia) и осел (asino) – это fa casino, жаргонное выражение, означающее, что кто-то устраивает скандал. Решение некоторых загадок представляет собой целые предложения. В таких предложениях выражение «если + артикль» (se la), например, всегда изображается седлом (sella), а «счастье» (felice) – папоротником (felce). Такие символы стали частью визуального словаря Леонардо.
Возникает впечатление того, что Леонардо был своеобразным интеллектуальным шутом при миланском дворе, развлекающим герцога и придворных забавными загадками. А может быть, все это было просто игрой ума, поиском символов для дальнейшего использования в архитектуре. Подобные пиктограммы весьма распространены в архитектуре Ренессанса. Миланский архитектор Чезаре Чезариано писал, что замок Сфорца украшен такими аллегорическими иероглифами, хотя сегодня увидеть их невозможно. Друг Леонардо, Браманте, работая над ватиканским Бельведером, вплел в украшения пиктографическое изображение фразы «Julio II Pont Maximo». Так что ребусы Леонардо могли иметь вполне практическое применение. Для архитектора 80-х годов XV века умение составлять подобные загадки было весьма полезно.
Впрочем, в любом случае ребусы Леонардо представляют для нас интерес как поток свободных ассоциаций. Разум художника постоянно ищет новые значения, чередует слова и образы, наслаждается странными сочетаниями и слияниями. Некоторые фразы, с которыми он экспериментирует, не лишены психологической пикантности: «siamo scarico di vergogna» – «мы избавились от всяческого стыда»; «ora sono fritto» – «теперь я совершенно погиб [буквально «поджарен»]». Психиатра может заинтересовать маленький схематичный автопортрет, о котором я говорил ранее. Кстати, лев в «Святом Иерониме» тоже может быть ребусом: лев в пламени = leone + ardere = Леонардо. Этот символ в качестве средства самоидентификации выглядит довольно бледно: лев, символ достоинства и власти, унижен и подавлен. Впрочем, все аллегорические рисунки Леонардо открывают нам путь к его загадочной душе.
Свои «предсказания» Леонардо тоже писал для развлечения придворных. Некоторые из них я уже цитировал. Одно напоминает театральную ремарку: «Произнеси это, словно безумный, как будто лишившийся рассудка».[365] Другими словами, фраза должна произноситься почти что в прорицательском экстазе. Самым подходящим кандидатом на подобную роль мог быть Зороастро, которого звали также Индовино, то есть Пророк или Прорицатель. В этом слове чувствуется оттенок мистической загадки (indovinello – загадка), что вполне соответствует общему духу этих шутливых предсказаний.
Юмор предсказаний кроется в их приземленных, очень бытовых разгадках. Большинство из них строится на многозначности слов. «Так велики будут лужи, что люди будут ходить по деревьям своей страны» – это люди на деревянных ходулях. «И видно будет, как в большей части страны будут ходить по шкурам больших зверей» – это люди в обуви на кожаной подошве. «Видно будет, как благодаря звездам люди приобретают величайшую скорость наравне с каким-либо быстрым животным» – это люди, использующие шпоры в виде звездочек. «Тела», которые «вырастают, когда с них снимают голову, и уменьшаются, когда голову на них возвращают», – это подушки. Животное, которое «держит язык в заду у другого» – это просто колбаса, приготовленная из языков свиней и телят.[366] Все эти отгадки должны были дать слушатели.
Но в каждом предсказании есть элемент двойной игры. Некоторые из пророчеств представляют собой выразительный небольшой текст, остающийся в памяти и после того, как разгадка найдена. Подобно пародийному письму к Деи, предсказания зачастую оказываются связанными с образами катаклизмов и жестокости. В них часто встречается образ природы – несчастной, эксплуатируемой жертвы человеческой ненасытности:
Много будет таких, кто будет свежевать свою мать, переворачивая на ней ее кожу. (Землепашцы.)
Люди будут жестоко бить то, что дает им жизнь. (О тех, кто молотит зерно.)
Вернется время Ирода, ибо невинные младенцы будут отняты у своих кормилиц и умрут от великих ранений от руки жестоких людей. (Козлята.)
Многие дети будут безжалостными побоями исторгнуты из собственных объятий их матерей, брошены на землю и потом растерзаны. (Орехи, маслины и т. п.)[367]
Такое же сочувственное отношение к природе мы находим и в баснях Леонардо, которые, скорее всего, были написаны для декламации при дворе. Можно сказать, что около тридцати дошедших до нас басен написаны на оригинальные сюжеты.[368] Леонардо имитирует Эзопа, но не заимствует у него. По-видимому, Леонардо был знаком с коллекцией Альберти Apologhi (этот сборник не публиковался до 1568 года, но несомненно существовал в виде рукописи). Басни полны анимистических изображений природы как живого существа. В баснях Леонардо слово получают не только животные, но растения, деревья и камни. Все они становятся одушевленными существами, способными испытывать боль, а боль эту им постоянно причиняет человек. Каштановое дерево предстает перед нами заботливой матерью, у которой отнимают ее «милых детей», каштаны. «Злосчастную иву» постоянно «калечат, лишают ветвей и портят». Уборка урожая – это терзание. Есть у Леонардо очень короткая басня об ореховом дереве. Это почти что стихотворение в прозе: «Il noce mostrando sopra una strada ai viandante la richezza de sua frutta, ogni omo lapidava». (В орешник, выставивший поверх улицы перед прохожим богатство своих плодов, каждый человек бросал камни.)[369]
Леонардо любил шутки и сам создал их огромное множество, причем по собственному желанию, без практической цели. Записные книжки того времени полны шуток. Записанная шутка является лишь бледным отражением шутки рассказанной. Можно представить себе, как артистично рассказывал анекдоты Леонардо. Вазари неоднократно подчеркивает то, что Леонардо был великолепным рассказчиком, умеющим развлечь своих собеседников. Я думаю, что порой он производил и обратное впечатление, был молчаливым и замкнутым, но Леонардо умел смеяться и смешить людей. Неудивительно, что самую знаменитую его картину в Италии называют La Gioconda – Веселая женщина.
Шутки Леонардо чрезвычайно разнообразны. Некоторые из них построены на игре слов, а из некоторых выпали фразы, делающие их смешными. Отдельные шутки носят чисто сатирический – зачастую антиклерикальный – характер. Есть среди них и грубые, напоминающие рассказы Чосера. И сатирические, и грубые шутки почерпнуты из историй Боккаччо и его подражателей. Эти сюжеты часто встречаются в сборниках рассказов эпохи Ренессанса – в фацетиях. Наиболее известным из таких сборников является книга Поджо Браччолини.
Шутки часто встречаются в записных книжках и рукописях Леонардо. Вот несколько примеров.
Некто пожелал доказать ссылками на Пифагора, что он уже жил однажды на свете; другой же не давал ему кончить эти рассуждения. Тогда тот сказал этому: «А в доказательство того, что я уже однажды жил на земле, припоминаю, что ты тогда был мельником». Тогда тот, почувствовав себя уязвленным его словами, признал, что это – правда и что он сам в свой черед припоминает, что этот самый имярек был тогда ослом, который носил ему муку.
Одного художника спросили, почему на своих картинах он рисует таких красивых людей, а детей произвел на свет некрасивых. «Потому, – отвечал художник, – что картины я делаю днем, а детей ночью».
Одна женщина мыла сукно, и от холода у нее ноги очень покраснели; проходивший неподалеку некий священник спросил в изумлении, отчего происходит такая краснота; женщина ему мигом ответила, что такое явление происходит потому, что внизу у нее огонь. Тогда священник положил руку на тот член, который делал его больше священником, чем монахом, и, прижавшись к ней, стал сладким и смиренным голосом ее просить, чтобы милости ради зажгла она немножко его свечу.
Ежели Петрарка так сильно любил лавр, это, вероятно, потому, что лавровый лист хорошая приправа к сосискам и жареным дроздам.[370]
В последней шутке присутствует игра слов «лавр» и Лаура, которой и были адресованы любовные стихи Петрарки.
Архитектурные проекты
В 1487 году fabbriceria, то есть строительный департамент Миланского собора, решил увенчать центральную часть башней с куполом, tiburio. Среди других архитекторов предложил свой проект и Леонардо. С помощью плотника Бернардо он построил деревянную модель и получил от собора возмещение расходов. Сохранились платежные документы: семь сумм было выплачено с июля 1487 по январь 1488-го.[371] (Вот почему Леонардо для письма Бенедетто Деи использовал чистые листы из церковных книг!) Соперников у Леонардо было немало, и в том числе его друг, Донато Браманте.
В Парижской записной книжке MS В сохранился рисунок, на котором показана система контрфорсов, которые должны были обеспечить надежную опору барабану tiburio. Ниже Леонардо описал эксперимент, демонстрирующий распределение веса арки:
«Помести человека на взвешивающее устройство в середине колодца, а затем пусть он упрется ладонями и ступнями в стенки колодца. Ты обнаружишь, что человек весит на весах гораздо меньше. Если же ты поместишь груз на его плечи, то увидишь, что чем больше веса ты на него помещаешь, тем больше будет сила, с какой он упирается руками и ногами в стенки, и тем меньше будет его вес на весах».[372]
Этот элегантный, но довольно опасный эксперимент иллюстрирует свойство арок распределять вес поперечно, так, что он не приходился исключительно на поддерживающие колонны. Распростертая фигура в колодце напоминает мне знаменитого «Витрувианского человека» Леонардо – и Зороастро, который единственный мог бы провести подобную «демонстрацию». Думаю, что он вполне мог бы стать пилотом-испытателем орнитоптера.
Среди бумаг Леонардо сохранился черновик речи, связанной с проектом tiburio. Начинается речь весьма цветисто: «Signori padri diputati» – «Синьоры, отцы, депутаты». Тема речи – аналогия между визуальной и структурной гармонией в архитектуре и гармонический баланс человеческого тела. В строениях, как и в телах, «здоровье поддерживается балансом или согласием элементов, а разрушается и губится раздором между ними». Таким образом, архитектор уподобляется врачу:
«Вы знаете, что лекарства, будучи правильно употребленными, возвращают здоровье больным, и тот, кто хорошо их знает, может правильно их использовать, если будет понимать природу человека, жизни, и телосложение, и здоровье. Тот, кто хорошо знает эти вещи, узнает также и то, что им противоположно, и будет лучшим целителем, чем любой другой. Вот что необходимо больному собору – ему нужен врач-архитектор, который понимает природу строения и законы, на которых основывается правильное строительство…»