Проклятие королей Грегори Филиппа
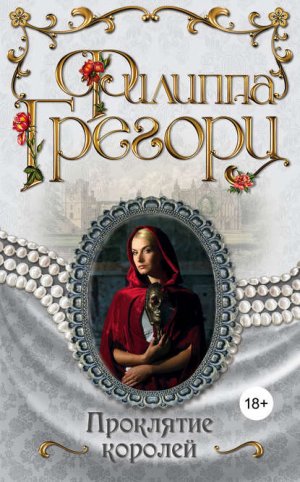
– Будь уверена вот в чем: я делаю, что должно, для тебя, для королевства и для твоей матери, – перебивает он. – И я исполняю волю Господа. Бог говорит с королями напрямую, ты же знаешь. Поэтому любой, кто скажет слово против меня, противится воле самого Господа. Так все говорят, все владеющие новой ученостью. Они об этом пишут. С этим нельзя спорить. Я повинуюсь воле Господа, а твоя мать в заблуждении своем слушает лишь свое тщеславие. Но я хотя бы знаю, что могу рассчитывать на твою любовь и послушание. Моя доченька. Моя принцесса. Единственная моя любимая.
Ее глаза наполняются слезами, губы дрожат; она разрывается между верностью матери и мощным притяжением отца. Она не может спорить с его властью, она делает реверанс перед отцом, которого любит.
– Конечно, – говорит она.
Бывший кардинал, Уолси, умер по дороге в Лондон, прежде чем предстал перед судом, как и предсказала Блаженная Дева из Кента. Хвала Господу, мы избавлены от зрелища кардинала на суде. Кузену Генри Куртене сказали, что ему пришлось бы зачитать кардиналу обвинение в мздоимстве и колдовстве; но Бог милостив, и на руках нашей семьи не будет крови кардинала. Мы не смогли бы отправить кардинала на плаху, хотя Том Дарси говорит, что мог бы.
Болейны, брат и сестра, праздновали, танцуя перед двором маску проклятых. Вид у них был, словно они явились из ада – с лицами в саже и руками, как когтистые лапы. Бог знает к чему мы идем. Уолси был плох, но теперь советники короля – семья ничтожеств, которая наряжается дьяволами, чтобы отпраздновать смерть невинного человека.
Сожги письмо.
Мы, как всегда, проводим Рождество в Гринвиче, король – само царственное очарование, любящий муж с королевой, обожающий отец с Марией, с гордым теплом относится к сыну, дважды герцогу, молодому Фитцрою, герцогу Ричмонду. Теперь ему одиннадцать, он держится очень важно, никто, кто его видит, не усомнится в том, что он – сын своего отца; он высок, как Йорки, рыжеволос, как Тюдоры, как Плантагенет любит спорт, музыку и ученость.
Я не могу представить, что с ним собирается делать король, разве что держать его про запас как наследника, если не будет другого. Состояние, которое тратится на его дом и имущество, даже на его подарки к Новому году, показывает, что к нему надо относиться как к особе королевской крови, столь же высокопоставленной, как принцесса Мария. Хуже того, оно показывает, что король хочет, чтобы все это видели – и что это означает для моей принцессы и ее будущего, я понять не могу. Все послы при дворе, все иностранные гости знают, что принцесса – единственный законный ребенок, дочь королевы, у нее на голове маленькая корона, она – признанная дочь и наследница. Но в то же время рядом с ней идет, как равный, бастард короля, одетый в золотую парчу, ему служат как принцу, его сажают рядом с отцом. Что об этом думать, кроме того, что король готовит своего бастарда к трону? И что станется с его дочерью, если она не будет принцессой Уэльской? И если Генри Фитцрой – следующий король, то кто она?
Королева внешне безмятежна, она скрывает терзания из-за того, что ее дочь потеснил бастард без имени. Она занимает свое место на троне рядом с улыбающимся мужем и кивает своим многочисленным друзьям. Придворные дамы, от вдовствующей королевы Франции до Бесси Блаунт, оказывают ей все возможное уважение, большинство относятся к ней с особой нежностью. Каждая женщина знает, что, если муж оставит свою жену и скажет, что такова воля Господа, ни одна из них не будет в безопасности, даже если на пальце у нее обручальное кольцо.
Дворяне щепетильны в выражении почтения. Они не смеют открыто пойти против ее мужа, но то, как они кланяются, когда она проходит мимо, то, как тянутся послушать, когда она говорит, показывает всем, что они знают: она – испанская принцесса и английская королева и ничто этого вовеки не изменит. Ее избегает только семья Болейн и их родственник Томас Говард, новый герцог Норфолк – он не унаследовал отцовскую верность королеве, он думает только о растущей власти его собственной семьи. Все знают, что интересы Говардов связаны с успехом молодой женщины, которую они уложили в постель короля, их мнение о королеве ничего не стоит.
Они не заходят в покои королевы, но они при дворе повсюду, словно это их собственный дом, словно блистательный Гринвичский дворец – это маленький убогий замок Хивер. Я слышала от одной из дам, что эта Болейн, Анна, обмолвилась, что ей бы хотелось, чтобы все испанцы оказались на дне морском и ей бы больше не пришлось служить королеве. Думаю, если бы отказ от службы был худшим из того, чем могла бы угрожать Анна Болейн, нам бы нечего было бояться.
Но потеря кардинала и главенство при дворе партии Говардов означает, что у короля есть лишь один добрый советчик – Томас Мор. Он целый день подле короля, но пытается вернуться в город, к семье.
– Скажите своему сыну, что я пишу длинный труд в ответ на его работу, – сообщает он мне однажды, проходя к конюшням и подзывая свою лошадь. – Скажите, что мне жаль, что я так задержался с ответом. Я пишу слишком много писем для короля, чтобы успевать писать свои.
– Вы пишете все, как он велит, или сообщаете ему свое мнение? – с любопытством спрашиваю я.
Он осторожно улыбается.
– Я тщательно выбираю слова, леди Маргарет, и когда пишу, что он приказывает, и когда говорю ему, что думаю.
– Вы с Реджинальдом все еще придерживаетесь одних взглядов? – спрашиваю я, думая о Реджинальде, который ездит по Франции, совещаясь с церковниками, прося у них совета, который Томас Мор не стремится давать в Англии.
Мор улыбается.
– Мы с Реджинальдом любим расходиться в частностях, – говорит он. – Но в главном мы согласны, миледи. А пока он соглашается со мной, я склонен считать вашего сына очень умным человеком.
Под мое начало в доме принцессы поступает новая молодая женщина. Леди Маргарет Дуглас, дочь-простолюдинка королевской сестры, вдовствующей королевы Шотландии. Она была воспитанницей кардинала Уолси, и теперь ей нужно где-то жить. Король решает определить ее к нам, чтобы она жила у принцессы.
Я принимаю ее с радостью. Она хорошенькая, ей шестнадцать, ей не терпится попасть ко двору, не терпится повзрослеть. Думаю, она будет чудесной подругой для нашей принцессы, которая от природы серьезна и иной раз, в эти тревожные дни, удручена. Но я надеюсь, что опека над ней – не знак мне, что важность принцессы пошла на убыль. Я иду со своими заботами в часовню королевы, опускаюсь на колени перед ее алтарем и смотрю на золотое распятие, мерцающее рубинами, пока без слов молюсь, чтобы король послал девушку, которая наполовину Тюдор и наполовину простолюдинка, в дом принцессы не потому, что однажды скажет, что та такая же: наполовину Тюдор, наполовину испанка и вовсе не наследница трона.
Джеффри приезжает ко мне в сумерки, словно не хочет, чтобы его заметили. Я вижу его из окна, выходящего на лондонскую дорогу, и спускаюсь, чтобы встретить сына. Он отдает лошадь конюху и опускается на колени на брусчатку, чтобы я его благословила, а потом ведет меня в холодный серый сад, точно не решится говорить со мной в доме.
– Что такое? Что случилось? – в тревоге спрашиваю я.
В сумраке я вижу, как он бледен.
– Я должен сообщить тебе нечто страшное.
– Королева?
– Слава богу, с ней все хорошо. Но кто-то пытался отравить епископа Фишера.
Я потрясенно пошатываюсь и хватаюсь за руку Джеффри.
– Кто мог такое сотворить? У него же нет ни единого врага.
– Леди, – мрачно произносит Джеффри. – Он защищает от нее королеву, он защищает от нее веру, и он единственный, кто смеет возражать королю. За этим точно стоит она или ее семья.
– Не может быть! Как ты узнал?
– Двое умерли, поев каши из миски епископа. Сам Господь спас Джона Фишера. Он в тот день постился и не притронулся к каше.
– Поверить не могу. Не верю! Мы что, итальянцы?
– Никто не верит. Но кто-то готов убить епископа, чтобы расчистить путь этой Болейн.
– Он не пострадал, храни его Господь?
– Пока нет. Но леди матушка, если она может убить епископа, она и на королеву посягнуть может? И на принцессу?
Я чувствую, как холодею, стоя в холодном саду; у меня трясутся руки.
– Не посмеет. Она не посягнет на жизнь королевы или принцессы.
– Кто-то отравил кашу епископа. Кто-то был готов это сделать.
– Ты должен предупредить королеву.
– Я предупредил и сказал испанскому послу, и лорд Дарси пришел ко мне, подумав то же самое.
– Нам нельзя сговариваться с испанцами. Сейчас особенно.
– Хочешь сказать, что так опасно противостоять Анне Болейн? Теперь, когда мы знаем, что король прибегает к топору, а она к яду?
Я, онемев, киваю.
Реджинальд возвращается из Парижа в отороченной мехом мантии ученого, в сопровождении писарей и ученых советников, и привозит с собой суждения французских церковников и университетов, вынесенные после месяцев споров, изучения и обсуждений. Он присылает мне краткую записку, извещая, что едет к королю, чтобы отчитаться, а потом посетит меня и принцессу.
Монтегю привозит его на нашей барке, с приливом, под звук барабана, который помогает гребцам держать ритм и разносится над холодной водой в сером вечернем свете. Я жду их на причале Ричмондского дворца, со мной принцесса Мария и ее дамы, рука принцессы лежит на сгибе моего локтя, и обе мы гостеприимно улыбаемся.
Как только барка приближается настолько, что я вижу бледное лицо Монтегю и то, как он сжимает зубы, я понимаю, что случилось что-то дурное.
– Ступайте внутрь, – говорю я принцессе.
Киваю леди Маргарет Дуглас:
– И вы тоже.
– Я хотела встретить лорда Монтегю и…
– Не сегодня. Ступайте.
Она подчиняется, и они вдвоем с леди Маргарет медленно, неохотно идут к дворцу, а я могу сосредоточиться на барке, на неподвижной фигуре Монтегю и на обмякшей груде, моем сыне Реджинальде, на задней скамье. Стражи на причале берут на караул и встают по стойке смирно. Грохочет барабан, гребцы сушат весла, поднимая их в знак приветствия, пока Монтегю ставит Реджинальда на ноги и помогает ему спуститься по сходне.
Мой ученый сын спотыкается, как больной, он едва стоит на ногах. Капитану барки приходится подхватить его под свободную руку, и вдвоем с Монтегю они почти подносят Реджинальда ко мне, стоящей на причале.
Ноги Реджинальда подкашиваются, он падает на колени передо мной, склонив голову.
– Прости меня, – говорит он.
Я в изумлении смотрю на Монтегю.
– Что случилось?
Лицо Реджинальда, обращенное ко мне, бледно, словно он умирает от горячки. Рука, сжавшая мою, влажна и дрожит.
– Ты болен? – спрашиваю я с внезапным страхом и поворачиваюсь к Монтегю: – Как ты мог привезти его сюда больного? Принцесса…
Монтегю мрачно качает головой.
– Он не болен, – говорит он. – Была драка. Его избили.
Я хватаю Реджинальда за трясущиеся руки.
– Кто посмел его тронуть?
– Король его ударил, – коротко отвечает Монтегю. – Король бросился на него с кинжалом.
Я немею. Перевожу взгляд с Монтегю на Реджинальда.
– Что ты сказал? – шепчу я. – Что ты сделал?
Он склоняет голову, опускает плечи и всхлипывает, словно давится.
– Простите меня, леди матушка. Я его оскорбил.
– Как?
– Я сказал ему, что ни в Законе Божьем, ни в Библии, ни в судебном праве нет причин, по которым он мог бы оставить королеву, – говорит он. – Я сказал, что так думают все. И он ударил меня кулаком в лицо и схватил со стола кинжал. Если бы Томас Говард его не перехватил, он бы меня заколол.
– Но ты ведь должен был лишь сообщить, к чему пришли французские богословы!
– К этому они и пришли, – отвечает Реджинальд.
Он садится на пятки, смотрит на меня, подняв голову, и я вижу, как на его бледном красивом лице медленно наливается огромный синяк. Нежная щека моего сына отмечена кулаком Тюдора. Ярость поднимается у меня в животе, словно тошнота.
– У него был кинжал? Он пошел на тебя с оружием?
Только одному человеку разрешено находиться при дворе с оружием – королю. Он знает, что если когда-либо обнажит меч, то нападет на безоружного. Поэтому ни один король никогда не обнажал меч или кинжал при дворе. Это против всех принципов рыцарства, которые Генрих выучил мальчишкой. Не в его природе идти с клинком на безоружного противника, не в его природе бросаться с кулаками. Он сильный, крупный; но он всегда сдерживал свой нрав и укрощал свою силу. Я поверить не могу, что он прибег к насилию; не против того, кто моложе, слабее, не против ученого, не против своего. Я не могу поверить, что он бросился с кинжалом – и на кого, на Реджинальда! Это ведь не один из его пьяных, драчливых дружков-бабников, это Реджинальд, его ученый.
– Ты его раздразнил, – обвиняю я Реджинальда.
Он качает головой, не поднимая ее.
– Ты, должно быть, его разгневал.
– Я ничего не сделал! Он в мгновение вышел из себя, – бормочет Реджинальд.
– Он был пьян? – спрашиваю я Монтегю.
Монтегю так мрачен, словно сам принял удар.
– Нет. Герцог Норфолк почти швырнул мне Реджинальда. Выволок его из личных покоев короля и толкнул ко мне. Я слышал, как король ревет ему вслед, словно зверь. Думаю, король бы его и правда убил.
Я не могу этого вообразить, я поверить не могу.
Реджинальд смотрит на меня, на его щеке темнеет синяк, глаза полны ужаса.
– По-моему, он сошел с ума, – говорит он. – Он был как безумный. По-моему, наш король лишился рассудка.
Мы прячем Реджинальда в картузианском монастыре в Шине, где он сможет в молчании молиться среди братьев и дождаться, пока сойдут синяки. Как только он достаточно оправится для дороги, мы отошлем его обратно в Падую, не сказав двору ни слова. Ходили слухи, что он может стать архиепископом Йоркским; но теперь этому не бывать. Наставником принцессы он никогда не будет. Сомневаюсь, что он когда-либо окажется при дворе или будет жить в Англии.
– Лучше ему уехать из страны, – твердо говорит Монтегю. – Я не смею говорить о нем с королем. Тот все время в ярости. Проклинает Норфолка за то, что тот довел Уолси до смерти, проклинает сестру за ее привязанность к королеве. Он даже не принимает герцогиню Норфолкскую, которая заявила о своей верности королеве, и не спрашивает, что думает Томас Мор, боясь того, что тот может сказать. Говорит, что никому не может верить, ни одному из нас. Лучше для нашей семьи и для самого Реджинальда будет, если он скроется с глаз и о нем на какое-то время забудут.
– Он сказал, король сошел с ума, – тихо говорю я.
Монтегю проверяет, плотно ли закрыта за нами дверь.
– По совести, леди матушка, думаю, король лишился рассудка. Он любит королеву и полагается на ее суждение, как всегда. Она была с ним рядом, ни в чем его не подводя, с тех пор, как он в семнадцать взошел на трон. Он не может представить, как быть королем без нее. Но он безумно влюблен в Леди, а она день и ночь мучает его желанием и спорами. Он ведь не юноша, не мальчик, который то и дело влюбляется. Не в том он возрасте, чтобы чахнуть от любви. Речь не о поэзии и пении под окном, она его мучает и телом, и умом. Он сам не свой от страсти к ней, иногда мне кажется, он причинит себе вред. Реджинальд задел его за живое.
– Тем хуже для нас, – говорю я, думая о Монтегю при дворе, об Урсуле, которая мучается с именем Стаффордов, о Джеффри, который вечно на ножах с соседями, пытаясь обрести вес в парламенте, где все сейчас напуганы и беспокойны куда больше, чем прежде. – Лучше нам на какое-то время уйти в тень.
– Реджинальду нужно было доложиться, – твердо отвечает Монтегю. – И требовалось огромное мужество, чтобы сказать правду. Но лучше ему уехать из страны. По крайней мере, тогда мы будем знать, что он не сможет снова расстроить короля.
Принцесса Мария и я с дамами отправляемся в Виндзор, чтобы навестить королеву, пока король разъезжает с двором верхами. Двор снова разделился, король и его любовница снова носятся по английским поместьям, охотясь целыми днями и танцуя по ночам, уверяя друг друга, что они беспримерно счастливы. Я гадаю, сколько Генрих это вытерпит. Когда пустота его жизни приведет его домой к жене.
Королева встречает нас у ворот замка, стоя у большой двери, под поднятой решеткой, и даже издали, пока мы едем по холму к высоким серым стенам, я вижу нечто в том, как прямо она держится, как поворачивает голову – нечто, что говорит мне, что она собрала всю свою смелость и это единственное, что ее поддерживает.
Мы спешиваемся, и я приседаю в реверансе, пока королева без слов обнимается с дочерью, словно Катерина Арагонская, вдвойне царственная королева, больше не волнуется о церемониях, а просто хочет прижать к себе дочь и не отпускать ее.
Мы не можем поговорить с глазу на глаз до тех пор, пока принцессу Марию не отправляют после обеда молиться и спать, и тогда Катерина зовет меня к себе в спальню под предлогом совместной молитвы, и мы пододвигаем табуреты к огню, закрываем дверь и остаемся одни.
– Он присылал молодого герцога Норфолка образумить меня, – говорит она.
Я вижу насмешливость в ее лице, и, на мгновение забыв, в каком ужасном она положении, мы обе улыбаемся, а потом смеемся в голос.
– Был ли он очень убедителен? – спрашиваю я.
Она берет меня за руки и смеется.
– Господи, как мне не хватает его отца! – с чувством произносит она. – Ученостью он не отличался, но у него было сердце. А у этого герцога, у его сына, ни того ни другого!
Она на мгновение умолкает.
– Все время повторял: «величайшие светила богословия», «величайшие светила богословия», а когда я спросила, что он имеет в виду, ответил: «Левитики».
Я задыхаюсь от смеха.
– А потом я сказала, что, насколько я знаю, принято считать, что во Второзаконии говорится, что мужчина должен жениться на жене покойного брата, и он спросил: «Что? Втором законе? Что, Саффолк? Вы хотите сказать, во Втором законе? Не говорите со мной о Писании, я его, черт побери, не читал. У меня на это есть священник. Священник это за меня делает».
– Герцог Саффолк, Чарльз Брэндон, тоже приезжал? – быстро приходя в себя, спрашиваю я.
– Конечно, Чарльз на все готов для короля, – отвечает она. – Всегда был. У него нет своего мнения. Его жена, вдовствующая королева, по-прежнему мне друг, я знаю.
– Половина страны – ваши друзья, – говорю я. – Все женщины.
– Но это ничего не меняет, – ровным голосом отзывается она. – Считает страна, что я права, или нет, это ничего не изменит. Мне нужно быть той, кем поставил меня Господь. У меня нет выбора. Мать говорила, что я стану королевой Англии, когда мне еще не было четырех, принц Артур сам избрал для меня такую судьбу на смертном одре, Бог поставил меня здесь во время коронации. Только Папа Римский может приказать мне иное, но ему еще предстоит высказаться. Но как вы думаете, как это переживает Мария?
– Плохо, – честно отвечаю я. – У нее обильное кровотечение каждый месяц и боли. Я советовалась со знахарками и даже говорила с врачом, но что бы они ни предлагали, ничего не меняется. А когда она узнает, что между вами и ее отцом неладно, она не может есть. Ее тошнит от тревоги. Если я заставляю ее хоть что-то съесть, ее рвет. Она кое-что знает о том, что происходит, и Богоматери одной ведомо, что она себе надумала. Сам король сказал ей, что вы не исполняете свой долг. Страшно было смотреть. Она любит отца, обожает его, она верна ему как королю Англии. Но она не может жить без вас, она не может быть счастлива, зная, что вы боретесь за свое имя и честь. Это подрывает ее здоровье.
Я умолкаю, глядя на обращенное вниз лицо королевы.
– И так оно продолжается и продолжается, а я не могу сказать ей, что все это когда-нибудь закончится.
– Я могу лишь служить Господу, – упрямо отвечает королева. – Чего бы это ни стоило, я могу лишь следовать Его законам. Это отравляет и мою жизнь, это разрушает счастье короля и его нрав. Все говорят, что он похож на одержимого. Это не любовь, я видела, какой он, когда влюблен. Это похоже на болезнь. Она взывает не к его сердцу, не к верному любящему сердцу. Она взывает к его тщеславию и кормит его, как чудовище. Взывает к учености и морочит его словесами. Я каждый день молюсь, чтобы Папа просто и ясно написал королю, веля оставить эту женщину. Теперь ради самого Генриха, даже не ради меня. Ради него самого, ведь она его разрушает.
– Он уехал с ней?
– Отправился в разъезды, оставив Томаса Мора ловить еретиков в Лондоне и жечь их за то, что усомнились в церкви. Лондонских торговцев преследуют, а ей разрешено читать запрещенные книги.
На мгновение я перестаю видеть усталость на ее лице, морщины у глаз и бледные щеки. Я вижу принцессу, потерявшую свою первую любовь, юношу, которого она любила, вижу девушку, которая сдержала данное ему обещание.
– Ах, Катерина, – нежно произношу я. – Как же мы до такого дошли? Как это вышло?
– Вы знаете, что он уехал, не попрощавшись со мной? – задумчиво говорит она. – Он никогда так раньше не делал. Никогда в жизни. Даже в последние годы. Как бы он ни был разгневан, как бы ни был удручен, он никогда не ложился, не пожелав мне спокойной ночи, и никогда не уезжал, не попрощавшись. Но в этот раз уехал, а когда я послала следом сказать, что желаю ему всего доброго, ответил… – она прерывается, ее голос слабеет. – Сказал, что ему не нужны мои добрые пожелания.
Мы умолкаем. Я думаю, как это непохоже на Генриха: грубить даме. Его мать обучила его безупречной королевской учтивости. Он гордится своим вежеством, своей рыцарственностью. То, что он был нелюбезен, – на людях, открыто нелюбезен со своей женой королевой, – это еще один яркий мазок к портрету нового короля, явление которого мы сейчас наблюдаем: короля, который может обнажить клинок против безоружного молодого человека, который позволяет своему двору затравить своего старого друга до смерти, который смотрит, как его фаворитка с братом и сестрой исполняют пантомиму, изображающую, как кардинала волокут в ад.
Я качаю головой при мысли о мужском неразумии, о жестокости мужчин, о бессмысленной угрожающей всем жестокости глупца.
– Он красуется, – уверенно говорю я. – В чем-то он по-прежнему тот маленький принц, которого я знала. Он просто красуется ей на радость.
– Он был холоден, – отвечает королева.
Она плотнее запахивается в шаль, словно даже сейчас чувствует эту холодность в своей комнате.
– Мой гонец сказал, что, когда король отвернулся, глаза у него были ясные и холодные.
Всего несколько недель спустя, когда мы собираемся на верховую прогулку, приносят письмо от короля. Катерина видит королевскую печать и вскрывает письмо возле конюшен, с озарившимся счастьем лицом. На мгновения я думаю, что король, возможно, приказывает нам присоединиться к нему в разъездах, что он оправился от дурного настроения и хочет видеть жену и дочь.
Королева медленно читает, и ее лицо гаснет.
– Это нехорошие новости, – только и говорит она.
Я вижу, как Мария прижимает руку к животу, словно ее внезапно начинает мутить, и отворачивается от лошади, будто не может вынести мысль о том, чтобы сесть в седло. Королева протягивает мне письмо и уходит от конюшен во дворец, не сказав больше ни слова.
Я читаю. Это краткое распоряжение одного из королевских секретарей: королеве надлежит собрать вещи и немедленно покинуть Гринвичский дворец, отправившись в Мор, один из домов покойного кардинала. Но нам с Марией ехать с ней не велят. Мы должны вернуться в Ричмондский дворец, король посетит нас в разъездах.
– Что я могу сделать? – спрашивает Мария, глядя вслед матери. – Как я должна поступить?
Ей всего пятнадцать, она ничего не может сделать.
– Мы должны повиноваться королю, – отвечаю я. – Как поступит и ваша матушка. Она будет ему послушна.
– Она никогда не согласится на развод! – срывается на меня Мария.
Она говорит на повышенных тонах, лицо ее искажено.
– Она будет ему послушна во всем, что позволит ее совесть, – поправляюсь я.
Мы возвращаемся домой, и едва за нами закрывается дверь в спальню Марии, я чувствую, что скоро разразится буря. Всю дорогу домой, в королевской барке, пока народ приветствовал ее с берега реки, Мария держалась с достоинством и спокойно. Она восседала на золотом троне на корме, кивая направо и налево. Когда ей кричали «ура» лодочники, она поднимала руку; когда жены рыбаков с причала в Ламбете выкрикивали: «Бог благослови вас, принцесса, и вашу матушку королеву», – она слегка склоняла голову, чтобы дать понять, что слышит их, но ничем не обозначить неверности отцу. Она держалась, словно марионетка на тугих проволочках, но когда мы добираемся домой и за нами закрывается дверь, она рушится, словно все нити разом перерезали.
Она оседает на пол в бурных рыданиях, ее не утешить и не унять. У нее течет из глаз и из носа, ее рыдания превращаются в рвотные позывы, и она выблевывает свое горе, а я приношу миску и глажу ее по согнутой спине, но она все равно не успокаивается. Ее снова тошнит, но выходит лишь желчь.
– Хватит, – говорю я. – Прекратите, Мария, довольно.
Она всегда слушалась меня прежде, но сейчас я вижу, что она не может остановиться, словно разрыв родителей раздирает ее на части, она давится, кашляет и всхлипывает еще какое-то время, будто готова выплюнуть легкие и сердце.
– Хватит, Мария, – повторяю я. – Хватит плакать.
Я не верю, что она меня вообще слышит, она выворачивается наизнанку, словно она предатель, которого потрошат, она давится слезами, желчью и мокротой, продолжая рыдать.
Я поднимаю ее с пола и заворачиваю в шаль, так туго, словно пеленаю младенца, я хочу, чтобы она почувствовала, что ее обнимают, хотя мать не может ее обнять, а отец дал ей упасть. Я стягиваю шарфы вокруг ее вздрагивающего живота, она отворачивается от меня и хватает воздух, пока я натягиваю ткань вокруг ее тела и плотно ее заворачиваю. Я кладу ее на кровать, на спину, обняв за худые плечи, но ее рот все равно распахивается от непрекращающихся всхлипов, и горе все равно сотрясает ее. Я укачиваю ее, как спеленутого ребенка, я вытираю слезы, льющиеся из ее красных опухших глаз, вытираю ей нос, промокаю слюну, текущую изо рта.
– Шшш, – ласково говорю я. – Шшш, тише, малышка Мария, тише.
Снаружи темнеет, всхлипы Марии становятся тише, она вдыхает, икает от горя и снова вдыхает. Я кладу руку ей на лоб, она горит, и думаю, что эти двое чуть не убили свое единственное дитя. В эту долгую ночь, когда Мария, наплакавшись, засыпает, а потом просыпается и снова плачет, словно не может поверить, что ее отец оставил ее мать, что они оба ее покинули, я забываю, что правда на стороне Катерины, что она исполняет волю Господа, что она поклялась быть королевой Англии и что Бог призвал ее на это место, как зовет тех, кого любит. Я забываю, что моя ласточка Мария – принцесса и не должна забывать свое имя, что Господь и ее призвал; что грешно будет отказать ей в троне, так же грешно, как отказать в праве жить. Я просто думаю, что это дитя, эта пятнадцатилетняя девочка, платит страшной ценой за войну своих родителей; и что лучше бы для нее, как и для меня, было вовсе отказаться от своего королевского имени и претензий на корону.
Двор раскалывается и разделяется, как страна, готовящаяся к войне. Некоторых приглашают в разъезды короля по охотничьим угодьям Англии, целый день ездить верхом и веселиться всю ночь. Некоторые остаются с королевой в Море, где она держит хороший дом и большой двор. Многие ускользают в собственные дома и земли, молясь о том, чтобы их не заставили выбирать, королю служить или королеве.
Монтегю ездит с королем, его место подле короля, но он навсегда предан королеве. Джеффри возвращается домой в Сассекс, к жене в Лордингтон, она рожает их первенца. Его называют Артуром, в честь брата, которого Джеффри любил сильнее всех. Джеффри тут же пишет мне, прося содержание для сына. У этого молодого человека деньги в карманах не держатся, смеюсь я при мысли о его аристократических излишествах. Он слишком щедр с друзьями, он ведет дом на слишком широкую ногу. Я знаю, что должна бы ему отказать; но не могу. К тому же он подарил семье еще одного мальчика, а это бесценный дар.
Мы с принцессой Марией остаемся в Ричмондском дворце, она по-прежнему надеется, что ей позволят присоединиться к матери, пишет осторожные, исполненные любви и участия письма отцу, лишь изредка получая в ответ краткие каракули.
Увидев из окна ее зала аудиенций полдюжины всадников на дороге, ведущей к дворцу, я решаю, что это вести от короля. Я жду у дверей зала аудиенций, чтобы принесли письмо. Я сама отнесу его принцессе, когда она вернется из домашней часовни. Теперь я уже боюсь того, какие вести она прочтет.
Но не королевский гонец, а старый Том Дарси медленно поднимается по лестнице, держась за поясницу, пока не видит меня; тут он распрямляется и кланяется.
– Ваша Милость! – удивленно говорю я.
– Маргарет Поул, графиня! – отвечает он, протягивая руки, чтобы я могла подойти и поцеловать его в щеку. – Хорошо выглядите.
– У меня все хорошо, – отвечаю я.
Он бросает взгляд на закрытую дверь зала аудиенций и вскидывает косматую бровь.
– Не слишком, – коротко говорю я.
– Как бы то ни было, я приехал вас повидать, – отвечает он.
Я провожаю его в свои личные покои. Мои дамы в часовне с принцессой, мы одни в красивой, залитой солнцем комнате.
– Могу я предложить вам питье? – спрашиваю я. – Или еды?
Он качает головой.
– Я надеюсь, что никто не заметит ни моего прихода, ни ухода, – говорит он. – Если кто-нибудь спросит вас, зачем я приходил, можете сказать, что я заглянул по дороге в Лондон выразить почтение принцессе, но уехал, так и не повидав ее, потому что…
– Ей нехорошо, – говорю я.
– Больна?
– В печали.
Он кивает.
– Неудивительно. Я приехал к вам поговорить о ее матери, королеве, и о ней самой, о бедной девушке.
Я жду.
– На следующем заседании парламента, после Рождества, вопрос о браке короля попытаются решить силами Англии, без участия Папы. Парламент будут просить о поддержке.
Лорд Дарси видит, как я слегка киваю.
– Они собираются аннулировать брак и лишить принцессу наследства, – тихо произносит Дарси. – Я сказал Норфолку, что не могу просто стоять и смотреть, как такое совершается. Он велел мне помалкивать. Мне нужны сторонники, если я выступлю.
Он смотрит на меня.
– Джеффри выступит со мной? А Монтегю?
Я замечаю, что кручу кольца на пальцах, и он крепко берет меня за руку и останавливает.
– Мне нужна ваша поддержка, – говорит он.
– Простите, – наконец отвечаю я. – Вы правы, я знаю, и мои сыновья знают. Но я не осмелюсь позволить им говорить.
– Король узурпирует право церкви, – предупреждает меня Том. – Он присвоит себе право церкви, так что сам сможет дать себе позволение оставить безупречную жену и лишить невинное дитя наследства.
– Я знаю! – выпаливаю я. – Знаю! Но мы не смеем пойти против него. Пока не смеем!
– А когда? – коротко спрашивает он.
– Когда будем вынуждены, – говорю я. – Когда другого выхода не будет. В последний момент. До тех пор – нет. Вдруг король образумится, вдруг что-то изменится, вдруг Папа вынесет ясное решение, вдруг придет император, вдруг мы сможем пережить все это, не выступая против самого могущественного человека в Англии, а возможно, и во всем мире.
Дарси слушал очень внимательно и теперь кивает, обнимает меня за плечи, словно я все еще девочка, а он – красивый лорд с Севера.
– Ах, леди Маргарет, дорогая моя, вы боитесь, – мягко произносит он.
Я киваю.
– Да. Мне так жаль. Я ничего не могу с этим поделать. Я боюсь за своих мальчиков. Я не могу рисковать, чтобы их отправили в Тауэр. Только не их. Только не их тоже.
Я смотрю в его старое лицо, ища понимания.
– Мой брат… – шепотом говорю я. – Мой кузен…
– Он не может всех нас обвинить в измене, – твердо произносит Том. – Если мы поднимемся вместе. Он не может нас всех обвинить.
Мы мгновение стоим молча, потом он отпускает меня и вынимает из внутреннего кармана дублета красиво вышитую кокарду, вроде тех, что прикалывают к воротнику, собираясь на бой. На ней Пять ран Христовых. Две кровоточащие ладони, ступни, проколотые и истекающие кровью, кровоточащее сердце с красным вышитым следом, а над ними, словно нимб, белая роза. Он бережно вкладывает ее в мою руку.
– Какая красота!
Меня поражает искусная работа и образ, связывающий страдания Христа с розой моего дома.
– Я заказал их, когда собирался в поход против мавров, – говорит он. – Помните? Много лет назад. Наш крестовый поход. Из него ничего не вышло, но я сохранил кокарды. На этой я велел вышить вашу розу, для вашего кузена, который был со мной рядом.
Я кладу кокарду в карман платья.
– Я вам благодарна. Положу ее к четкам и буду на ней молиться.
– А я буду молиться, чтобы мне не пришлось раздавать их в военное время, – мрачно отвечает он. – В прошлый раз я раздал их своим людям, когда мы поклялись погибнуть, защищая церковь от неверных. Да не пропустит Господь, чтобы нам пришлось защищать ее от ереси дома.
Лорд Дарси не единственный гость в Ричмондском дворце, когда начинается жара и королевский двор выезжает из столицы. Елизавета, моя родственница, герцогиня Норфолкская, жена Томаса Говарда, приезжает к нам и привозит в подарок дичь и кучу сплетен.
Она выказывает почтение принцессе, а потом приходит в мои личные покои. Ее дамы садятся с моими поодаль, она просит двух из них спеть. Мы скрыты от посторонних взоров, наши тихие голоса заглушает музыка, и герцогиня говорит мне:
– Эта шлюха Болейн распорядилась относительно брака моей дочери.
– Нет! – восклицаю я.
Она кивает, тщательно сохраняя на лице спокойное выражение.
– Она повелевает королем, он повелевает моим мужем, и никто не совещается со мной. В итоге она повелевает мной, мной, урожденной Стаффорд. Подождите, вы еще не знаете, кого она выбрала.
Я послушно жду.
– Моя дочь Мария должна выйти за королевского бастарда.






