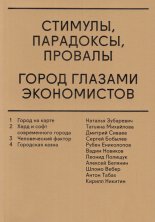Багровый лепесток и белый Фейбер Мишель

— Она сама меня отослала, — оправдывается Клара. — Велела купить ей вот это.
И Клара показывает полицейскому игрушку из проволоки и фанеры и с латунным ключиком в спине.
Двое призванных полицейским на помощь крепких мужчин из владеющей купальными машинами компании только что переложили миссис Рэкхэм на носилки. Доктор уже потрогал ее липкий от пота лоб и измерил, вставив градусник в рот, температуру. Сообщив диагноз: мигрень и, возможно, туберкулез, он заключил, что настоятельная необходимость помещать ее в больницу отсутствует, однако ей следует отдохнуть некоторое время в отеле, не выходя под солнце.
— Ближайший родственник? — осведомляется полицейский у Клары, когда те же двое здоровяков уносят бесчувственную Агнес.
— Уильям Рэкхэм, — в нос отвечает служанка.
— Тот самый Уильям Рэкхэм?
— Я не знаю, — Клара хлюпает носом, тревожно вглядываясь в оставшееся на песке темное пятно рвоты и с ужасом думая о том, как оно может сказаться на дальнейшей ее службе.
— «Парфюмерное дело Рэкхэма»? «Одного флакона хватает на год»?
— Наверное, — об изделиях, производимых ее хозяином, Кларе ничего не известно, — хозяйка относится к ним с совершенным презрением.
— У вас имеется связь с ним, мисс?
Клара сморкается в платок. Что может подразумевать этот вопрос? Уж не думает ли полицейский, что она способна пролететь по воздуху, в мгновение ока достичь Ноттинг-Хилла и, опустившись на закраину кабинетного окошка Уильяма, сообщить ему о случившемся? Тем не менее, она кивает.
— Хорошо, — говорит, закрывая записную книжку, полицейский. — В таком случае, все дальнейшее я предоставляю вам.
Небо заволакивают тучи, того и гляди пойдет дождь. Родители утаскивают завозившихся с песочными замками детей; фланировавшие по берегу денди устремляются к укрытиям; из моря выходят и скрываются в купальных машинах причудливо наряженные нереиды; торговцы, охрипшие от крикливых, обращенных к редеющей толпе уверений, что товары свои они отдают, почитай, задаром, катят, кто куда, тележки, набирая все большую скорость.
Миссис Фокс давно уж возвратилась в отель, посетовав на то, что такой отдых способен уморить ее окончательно. Она и ведать не ведает о пребывании миссис Рэкхэм в Фолкстоне, и уж конечно, не она была той доброй самаритянкой, что обнаружила Агнес лежавшей без чувств у кромки воды, — судьба назначила миссис Фокс вернуться в Лондон, ни разу ее не повстречав.
А Конфетка? Уж не Конфетку ли видела Агнес приближавшейся к ней в перевернутом мире? Нет, Конфетка сидит в своей квартирке на Прайэри-Клоуз, с немалой натугой осиливая «Искусство парфюмерии» Дж. У. Септимуса Пайсса. И самый большой водный простор, какой можно обнаружить в непосредственной близости от нее, это оставшаяся не опорожненной ванна. В сознании Конфетки, забитом сведениями о лаванде и эфирных маслах, даже и места для мыслей о миссис Рэкхэм не остается. Принесет ли ей хоть какую-то пользу знание того удивительного обстоятельства, что ананасовое масло есть не что иное, как бутират этилоксида? Есть ли смысл запоминать рецепт изготовления розового кольдкрема (один фунт миндального масла, один фунт розовой воды, половина драхмы розового масла и по одной унции спермацета и пчелиного воска)? И интересно, существует ли на свете мужчина, способный, выводя слово «спермацет», думать лишь о китах?
— Иисусе Христе, — бормочет она, поймав себя на том, что понемногу впадает в дремоту, а книга, закрывшись, проваливается у нее между ног. — Проснись!
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
— Ну и как там все, на берегу? — осведомляется леди Бриджлоу, опуская чайную чашку на блюдце. — Я в этом году туда не поехала, нынче на любом курорте не протолкнуться от хамов. О, благодарю вас, Роза.
Роза, новая чистая горничная Рэкхэмов, пополняет чаем чашку миссис Бриджлоу. Тяжелый чайник она держит высоко, несколько наотлет, выступающее из манжеты запястье ее красновато и попахивает карболкой, — леди Бриджлоу это нравится.
Стоит яркий прохладный день, уже начался сентябрь, прошло несколько недель, как Уильям привез из Фолкстона жену, еще пуще исхудавшую и ставшую в десятки раз более странной, чем перед ее отправкой туда. Сейчас она лежит наверху, для показа гостье решительно непригодная.
Впрочем, если говорить всю правду, в странностях замечена в последнее время не одна только Агнес Рэкхэм: погода, бывшая в начале года необычайно теплой, пристрастилась с конца августа к холодам, словно бы спохватившись и сообразив, что щедрость ее никем, вообще говоря, не заслужена. Чуть ли не каждый день солнце, поутру сияющее, к полудню бледнеет и сереет, а язвительный ветерок напоминает о том, что, быть может, кроется на уме у стихий. Листья опадают с деревьев целыми возами, ночи растягиваются, и по всей Англии художники-пейзажисты с отвращением покидают затянутые тучами сельские просторы. Тем из деловых знакомых Уильяма, что владеют фруктовыми садами, пришлось начать сбор урожая раньше обычного, поскольку созревшие плоды держатся на ветках деревьев весьма ненадежно, буквально падая в руки сборщиков, и каждый час промедления приводит к тому, что плоды эти валятся на землю, покрываются ранками и подгнивают. Лаванда, благодарение Богу, уже собрана. Конфетка разочарована тем, что не видела, как это происходило, однако, когда мужчине приходится разрываться между Сезоном и непредсказуемой женой, он просто не в состоянии угодить всем сразу. Сожжение пятилетних кустов назначено на конец октября, и Уильям свозит Конфетку посмотреть на большой костер, порукой тому — его слово.
В Ноттинг-Хилле, в доме Рэкхэмов, слуги — и верхние, и нижние, — готовятся к осени, которая может, если на нее нападет такая прихоть, обойтись с Англией весьма сурово; плотные шторы освобождаются от шариков нафталина; кухонная кладовая до отказа набивается консервированными лобстерами, сардинами, лососем, черепаховым мясом и прочим; дымоходы отскабливаются; Джейни подхватила, прочищая печи, очень неприятную болезнь; Чизман проверяет на предмет возможности протечек крышу и дверцы кареты; Летти и Роза убрали из каминов летние украшения, заменив их сухими поленьями. Стрига, который от рассвета до заката копошится, бормоча себе что-то под нос, в парке, сейчас лучше не трогать.
Леди Бриджлоу тоже смирилась с тем, что лето закончилось, и соответственным образом сменила наряд, отчего стала выглядеть несколько старше — не намного, впрочем, — своих двадцати девяти; теперь она носит саржевое платье-пальто, служащее залогом того, что здоровье ее останется (как она это называет) «непрестанным». Уильяму же смена одежды сообщила еще пущее дородство — как, собственно, и добавочный жирок, которым он обзавелся за время Сезона. Борода, ставшая ныне густой и квадратной, ниспадает на галстук; на Уильяме вязаный жилет, плотные твидовые брюки, и твидовый пиджак, который он попытался неприметно расстегнуть, но не сумел, и бороться с ним в присутствии гостьи не стал.
— О прочих приморских курортах ничего сказать не могу, — сообщает он в ответ на вопрос леди Бриджлоу, — но Фолкстон обратился, насколько я мог заметить, в подобие циркового балагана. И виноваты в этом, разумеется, железные дороги.
— Что ж, таковы нынешние времена, — философски отмечает леди Бриджлоу, разламывая пополам обсыпанное сахаром печеньице. — Тем из нас, у кого есть собственные экипажи, приходится теперь отыскивать рай, о котором простонародье пока еще не пронюхало.
И она с немалым проворством, — дабы не прервать беседу, — съедает кусочек печенья.
— Как бы там ни было, я никогда не понимала, чем так уж притягательно побережье — даже для выздоравливающих.
— Да, тут вы правы, — соглашается Уильям, протягивая Розе пустую чашку.
— А как ваша жена? — сочувственно интересуется леди Бриджлоу, поднося к губам свою чашку, полную.
— О, ничего серьезного, — вздыхает он. — Легкая простуда, я полагаю.
— В церкви ее в последнее время почти не видно, — отмечает леди Бриджлоу.
Уильям страдальчески улыбается. Все уже знают, что Агнес едва ли не каждое воскресенье присутствует на католической мессе, а ему не хватает духу запретить ей это. Сколь ни прискорбно ее отступничество, как ни смущает Уильяма недовольство соседей, он желает для Агнес счастья, а получая его разрешение съездить в Криклвуд и побыть немного паписткой, она становится счастливой как никогда.
Как сильно надеялся он, что Агнес вернется с побережья пополневшей и образумившейся! Однако она, пробыв у моря лишь восемь дней из двух оплаченных им недель, прислала ему, вместо того, чтобы по истечении их спокойно вернуться с Кларой в Лондон, почтовую карточку с жалобами на то, что в отель селят американцев, а в питьевой воде его так и кишат «организмы», и потому он должен без промедления приехать и забрать ее оттуда. «Во имя всего, что Свято, умоляю тебя, пожалуйста!» — написала она на открытке, украшенной веселой картинкой — изображением ослика с нахлобученной на голову конической раковиной и с надписью: «Единорог из Фолкстона». Напуганный мыслью, что почтальон может прочитать еще одно такое послание, Уильям помчался в Фолкстон, — и только затем, чтобы обнаружить там совершенно спокойную, всем довольную с виду Агнес, встретившую его как нежданного гостя, прогнать которого только воспитанность ей и не позволяет.
— Как все прошло? — украдкой спросил он у Клары, наблюдая вместе с нею за покряхтывающими, согбенными носильщиками, которые выволакивали из отеля нелепые чемоданы Агнес.
— Я не жалуюсь, сэр, — ответила Клара, однако лицо у нее было при этом, как у человека, который простоял неделю у позорного столба, ежеминутно получая в лицо удары гнилыми помидорами.
По возвращении домой Агнес, не теряя зря времени, дала всем понять, что целительная магия побережья решительно никакого благоприятного воздействия на нее не оказала — во всяком случае, такого, на какое надеялся доктор Керлью. Едва прислуга успела распаковать фолкстонские сувениры, как у Агнес появилась новая причуда — дурацкий ритуал, уже обратившийся, увы, в неукоснительную привычку. Каждое утро, еще перед завтраком, она взбирается на подоконник своей спальни и пытается отправить заводную птицу в полет. То, что пощелкивающая машинка камнем падает на землю, что клюв у нее отломился, а левое крыло расщепилось, Агнес ничуть не обескураживает. И каждое утро, уже после завтрака, Стриг обнаруживает ее игрушку, по шею зарывшуюся в свежеперекопанную землю или завязшую в кустах, и приносит ее в дом, не произнося при этом ни слова. (И правильно делает, что не произносит! — во время Сезона, когда миссис Рэкхэм ободрала все розовые кусты, чтобы соорудить из лепестков «красный ковер» для гостей ее званого обеда, ничего хорошего из его протестов не вышло.)
— Бедная женщина, — сочувственно хмыкнув, говорит леди Бриджлоу. — Мне так жаль ее. Нам, обладателям непрестанного здоровья, следует благодарить Небеса за удачу. Во всяком случае, муж мой, когда был жив, неизменно настаивал, чтобы я приносила им благодарность за это.
Пока леди Бриджлоу произносит эти слова, глаза ее подергиваются поволокой, и она позволяет себе откинуть голову на салфетку, накинутую поверх спинки ее кресла, словно вглядываясь в явившийся ей призрак мужа.
— Ааах… бедный Альберт, — вздыхает она, не препятствуя Розе, которая помещает на ее тарелку ломтик имбирного пирога. — Как одиноко бывает мне иногда без него… особенно при мысли о том, что мне-то еще жить да жить…
А затем, в одно внезапное движение, она выпрямляется — ясные глаза, упрямый подбородок.
— И все же, мне не на что жаловаться, не правда ли? В конце концов, у меня есть сын, в котором продолжает жить Альберт. Они так поразительно схожи! Я иногда гадаю… если бы бедный Альберт был еще с нами… если бы завтра я родила ему второго сына, походил бы он на отца столь же изумительным образом? И знаете, подозреваю, что походил бы!.. Однако я что-то заболталась, простите меня. В оправдание свое могу сказать лишь одно: в будущем, когда у вас появится собственный сын, вы тоже станете ловить себя на поведении столь же глупом. — И она прихлопывает себя по коленям, как если бы те были задремавшими левретками, коих следует разбудить. — Что ж, пожалуй, я слишком долго отвлекала вас от дел. Приношу вам мои извинения.
— Нет-нет, — говорит Уильям, когда она встает, собираясь уйти. — Я был только рад увидеться с вами, только рад.
Он говорит это искренне — ему всегда приятно видеть ее в гостиной своего дома и всегда жаль провожать к выходу. Леди Бриджлоу нисколько не походит на прочих известных ему титулованных людей — при всех ее связях в высшем свете, в ней присутствует некое привлекательное лукавство, приметное, думает Уильям, даже в том, как она, спустившись по парадным ступеням его дома, ухитряется, прежде чем кучер успевает слезть с облучка, самостоятельно запрыгнуть в карету. Леди Бриджлоу еще раз машет Уильяму рукой, подбирает, усаживаясь, юбки и уезжает.
Самое приятное в ней, решает Уильям, глядя, как ее карета катит, удаляясь, по подъездной дорожке, — то, что она, ничуть не обинуясь, общается с ним — даже в присутствии людей ее высокого круга. Леди Бриджлоу никогда не ставит ему в вину того, что деликатно именует «предприимчивостью» — собственно, она нередко повторяет, что будущее принадлежит индустрии. Уильям желал бы лишь, чтобы она не проявляла такой заботы о его супруге, — и желание это лишь усилилось после того, как к немалой его досаде, душевная щедрость леди Бриджлоу никакого отклика в Агнес не встретила.
— Я готова подпустить ее к себе на расстояние, не большее того, на какое могу отбросить, — совсем недавно объявила Агнес при одном из все чаще случающихся у нее приступов вспыльчивости. (Сказано сильно, особенно если учесть, насколько слабы ее руки.) А то, что по прошествии приступа Агнес ни единого из сказанных ею слов припомнить не смогла, ни о чем решительно не говорит.
Впрочем, Агнес вскоре поправится, он в этом уверен — почти уверен. В конце концов, помимо ставшей уже привычной утренней нелепости с «деревянной птичкой», сегодня ничего плачевного не случилось, не так ли? А ведь время уже к полудню…
Уильям стоит в вестибюле, задумавшись, — гостья уехала, в доме опять все стихло. Каждый раз, как леди Бриджлоу появляется у него, ее сопровождает что-то вроде мелодии благодатной нормальности, увы, замирающей, стоит гостье покинуть дом, воздух которого тут же снова пропитывает взрывоопасная неопределенность. Да, в доме тихо, но что означает эта тишина? Что Агнес мирно предается у себя наверху вышиванию или что там вызревает новый взрыв? Спит ли она сном младенца или бьется в исступленном припадке? Уильям подходит к подножию лестницы и, затаив дыхание, тревожно вслушивается.
И через несколько секунд получает ответ неожиданный: совсем недалеко от него рождаются звуки, извлекаемые из фортепиано проворно порхающими по клавишам пальцами. Агнес надумала помузицировать! Дом мгновенно светлеет, обращаясь в достойное человека жилище. Уильям, разжав кулаки, улыбается.
Пусть Керлью повторяет слова «приют для душевнобольных» сколько собственной душе его будет угодно, — так легко Уильям Рэкхэм своего поражения не признает! И потом, как насчет супружеского сострадания? Начиная с октября, на каждом продукте «Рэкхэма» появится портрет Уильяма (превосходная мысль Конфетки), он уже выбрал для этой цели фотографию, на которой выглядит по-отечески добрым. И что же подумают покупающие его туалетные принадлежности дамы, проведав, что человек, благодаря которому они потакают своим пристрастиям к благовонным ароматам, человек, старающийся, чтобы его благодушная физиономия проникла в каждое семейство страны, упек свою жену в сумасшедший дом? О нет, Агнес заслуживает того, чтобы получить еще один шанс — на самом деле, сотню, тысячу новых шансов! Агнес — его жена, которую ему надлежит любить и лелеять в болезни и в здравии.
— Вызовите Чизмана, — успевает сказать он Летти в те бесценные минуты, в которые напев фортепиано еще остается чарующим, еще не сменяется навязчивым, дергающим нервы арпеджио. — Я уезжаю.
Генри Рэкхэм — всего через несколько секунд после того, как минует пароксизм, но еще перед тем, как приток горестных сокрушений успевает привести его в чувство, — удивленно кренится вперед, услышав стук в дверь своего дома. «Какого дьявола?…». Никто не навещает его, никто! Надо полагать, тут чья-то ошибка.
Генри наспех приводит себя в порядок, старается принять достойный вид, однако найти домашние туфли ему так сразу не удается и потому он, подгоняемый упорствующим стуком, шлепает к двери в одних носках.
На ведущей к его порогу дорожке он, открыв дверь, обнаруживает озадачивающее его видение женской красы — двух юных дев со свежими личиками, двойняшек, быть может, едва миновавших отроческую пору, в одинаковых серых с красным шляпках и жакетах. Они стоят за накрытой подобием колпака тележкой, смахивающей на тачку цветочницы или на преувеличенных размеров детскую коляску, однако ни цветов, ни младенцев в ней не замечается.
— Прошу вас, сэр, — произносит одна. — Мы обращаемся к вам во имя страдающих от голода и холода детей и женщин Ская.
Ничего не понявший Генри приоткрывает рот и тут же прохладный ветерок захлестывает в прихожую, напоминая ему, увы, слишком поздно, что лоб у него покрыт обильным, отвратительным потом.
— Острова Скай, сэр, — поясняет вторая девушка певучим, совершенно таким же, как у сестры ее голосом. — Это в Шотландии. Многие семьи согнаны там с земли, сэр, и могут погибнуть этой зимой, она обещает быть очень суровой. Не найдется ли у вас ненужной вам одежды?
Генри, моргая, как идиот, краснеет от предчувствия, сообщающего ему: какой бы ответ он ни дал, говорить ему предстоит, заикаясь.
— Я от…отдал всю мою не…ненужную одежду… э-э… одной ле…леди, которая работает во многих благотворительных об…обществах. — Девушки смотрят на него без большого доверия, как если б они уже привыкли к тому, что от них пытаются отделаться подобными выдумками, но слишком хорошо воспитаны, чтобы оспаривать их.
— Миссис Эммелин Фокс, — жалко добавляет Генри в надежде, что это имя сможет все разъяснить.
— Прошлой зимой, — говорит одна из девушек, — населению острова пришлось питаться дилсеей.
— Водорослями, сэр, — подсказывает вторая, заметив недоумение Генри. Первая же тяжко вздыхает, отчего приподнимается ее прелестная грудь, и открывает рот, собираясь что-то добавить, однако разговаривать с ними и дальше Генри уже не по силам.
— Вы примете деньги? — хрипло спрашивает он, и тут к беседующим присоединяется кошка Генри и начинает тереться мордочкой о лодыжки хозяина, словно желая привлечь внимание к его необутым ступням.
Двойняшки обмениваются взглядами, означающими, по-видимому, что прежде им такого предложения ни разу не делали и они совершенно не понимают, как к нему отнестись.
— Мы вовсе не думали принуждать вас к этому, сэр… — произносит одна, опуская взгляд на дорожку, однако Генри, ухватившись за ее слова, как за знак согласия, уже роется в карманах брюк.
— Вот, — говорит он, извлекая на свет горсть мелочи, а с нею истертые едва ли не в пыль газетные вырезки и забытые в кармане почтовые марки. — Как вы полагаете, двух шиллингов будет довольно?
И тут же кривится, вспомнив, что еще мог бы он получить за эти деньги.
— Нет, возьмите три, — и Генри выуживает из кучки фартингов, пенсов и сора три блестящих монеты
— Спасибо, сэр, — в унисон произносят девушки, а та, что стоит ближе к нему, протягивает ладошку в перчатке. — Больше мы вас не побеспокоим, сэр.
— Что вы, какое же тут беспокойство, — отзывается Генри, и девушки, к великому его облегчению, уходят, катя перед собой тележку и покачивая в такт друг дружке турнюрами.
Захлопнув дверь, он возвращается в теплую гостиную — единственную в доме уютную комнату. У самого камина лежит на полу скомканный в шарик носовой платок. Генри, и не разворачивая его, знает — ибо сам бросил туда платок лишь несколько минут назад, — что тот слипся от его осклизлого семени.
Он снова тяжело опускается в кресло, руки и ноги замерзли, голова пылает, в паху зудит; собственно, все его тело есть громоздкое соединение разномастных кусков плоти, негостеприимно объемлющее заляпанную липким семенем душу. В довершенье его стыда, в гостиную входит Киса и, направившись прямиком к испачканному платку, начинает любознательно обнюхивать этот комочек.
— Кыш, — буркает Генри и взмахивает ногой в шерстяном носке. — Это грязь.
Он выхватывает платок из-под носа кошки и снова сжимает его в кулаке. Стирать платок — задача для Генри непосильная; он готов еще идти на подобного рода хлопоты, когда измарывает ночную рубашку (что, собственно, и не позволяет ему нанять прачку), однако этот дешевый квадратик ткани вряд ли стоит унижения, которое он будет испытывать, наполняя свою металлическую ванну и отдирая покрытыми мылом ногтями комки цепкого семени. А как поступают прочие онанисты? Просто отдают свои склизкие тряпки служанкам, внушая им навечное презрение к хозяевам? Или такая несдержанность — явление в жизни наделенных сильной волей мужчин нечастое? Терзаемый жалким стыдом — уничтожать хорошую хлопковую тряпицу, когда столь многие бедняки (даже в Лондоне, что уж там говорить об острове Скай!) дрожат от холода, потому что им нечем залатать одежду, — Генри швыряет платок в камин. Платок, попав в самую середку докрасна раскаленных углей, шипит, чернеет, а после разворачивается, охваченный ярким пламенем.
Миссис Фокс умирает, и помочь ей он не может. Эта мысль преследует Генри неотступно — в часы наимрачнейшего отчаяния, в мгновения бездумной веселости, во сне и наяву. Миссис Фокс умирает, а он не может исцелить ее, не может развеселить, не может облегчить ее страдания. Она весь день лежит в шезлонге посреди отцовского сада или, если погода портится, — в том же шезлонге, но уже у окна унылой гостиной, глядя на едва различимый оттиск, оставленный ею на траве лужайки. Болей, о которых стоило бы говорить, миссис Фокс не испытывает, ей всего лишь до беспамятства скучно, уверяет она Генри между приступами мучительного кашля. Не хочется ли ей выпить крепкого бульона? — спрашивает он. Нет, крепкого бульона ей не хочется — и ему не захотелось бы, попробуй он хоть раз эту гадость. Чего ей хочется, так это гулять, гулять под солнцем; однако солнце уклончиво и, даже пробившись сквозь тучи, сияет лишь недолгое время, — миссис Фокс просит Генри потерпеть, пока она совладает с дыханием, но возможность прогулки быстро утрачивается. Говоря по правде, прогуливаться она уже не может, а он не может носить ее на руках. Один раз, только один, он робко предложил ей воспользоваться креслом-каталкой, и она отказалась — с резкостью, какой Генри за нею прежде не знал. Если бы мысль о том, что он обидит ее, не была ему столь ненавистна, Генри, пожалуй, обвинил бы Эммелин в грехе гордыни.
И все же, она смотрит на него с такой мольбой, глаза ее расширяются, лицо белеет, точно слоновая кость, губы сухи и припухлы. По временам она умолкает, не докончив фразу, и молчит минуту кряду, он слышит только ее дыхание и видит, как пульсируют жилка на ее шее и синеватые вены на висках. «Тебе по силам одолеть Смерть, — словно говорит она, — так почему же ты позволяешь Ей овладевать мною?».
— В…вы хорошо себя чувствуете, миссис Фокс? — спрашивает он, наконец, — или задает еще какой-либо вопрос, не менее глупый.
— Нет, Генри, разумеется, нет, — вздыхает она и избавляет его от своего страшного, доверчивого взгляда, прикрывая глаза тонкими, как бумага, веками.
В те редкие дни, когда она испытывает прилив сил, миссис Фокс использует их, чтобы гнать от себя Генри. Такой именно день случился и вчера, — она разрумянилась, разнервничалась, глаза ее были красны, настроение переменчиво. На целый час она провалилась в сон, губы ее шевелились, беззвучно выговаривая какие-то слова, грудь вздымалась едва-едва. Потом она вдруг проснулась, приподнялась, опираясь на локоть, и с вызовом спросила:
— Ах, Генри, дорогой мой, вы все еще не ушли? Что толку — просидеть здесь полдня… глядя на штакетник моего отца… Вы уж, верно, все планки его пересчитали, и не один раз.
Странный тон ее смутил Генри, не сумевшего понять, что он означает, — голос миссис Фокс словно балансировал на тонкой, как лезвие ножа, грани, отделявшей приветливое поддразнивание от неуемной муки.
— Я… я могу задержаться еще ненадолго, — глядя перед собой, ответил он.
— Вам следует заниматься собственной жизнью, Генри, — с силой сказала она, — а не растрачивать ее на сидение у постели дремлющей женщины. Я же знаю, какой ужас внушает вам праздность! И ведь я рано или поздно поправлюсь — пусть не завтра и не на следующей неделе! Я поправлюсь — вы верите в это, не правда ли, Генри?
— На все воля Божья… — промямлил он.
— Но скажите, Генри, — с жаром продолжала она. — Ваше призвание… Что вы еще предприняли, чтобы исполнить его?
Вот тут он и пожалел, что не ушел хоть не намного раньше.
— Я… у меня возникли сомнения, — ответил он, суеверно страшась, что и она услышит — так же ясно, как он, — эхо слов «Да проклянет Господь Господа», ревущих в его голове. — И, в конечном счете, я все же не думаю, что годен в священники.
— Глупости, Генри, — вскричала она и схватила его за руку, заставив взглянуть ей в лицо. — Из вас получился бы наилучший… наидобрейший, искреннейший, правдивейший, са…самый красивый…
И она вдруг глуповато хихикнула, и из носа ее выстрелила яркая струйка окрашенной кровью слизи.
Генри, шокированный этой неблагопристойной вспышкой, снова вперился взглядом в забор сада и через силу заставил себя сделать признание:
— Я… я был… Моя вера была…
— Нет, Генри, — она уже плакала, что-то горестно посвистывало в ее груди. — Нет! Я не хочу этого слышать! Бог больше, чем… чем болезнь одной-единственной слабой женщины. Обещайте мне, Генри… обещайте… обещайте, что вы не отступитесь… от вашей миссии.
И на это он — трус, бесхребетный подлец, Богом проклятый богохульник, дал единственный ответ, какой только мог дать — тот, какой она хотела услышать.
— Ах, сладкая моя… Как мне хотелось бы жить в одном доме с тобой.
Сердце Конфетки словно подпрыгивает, слова эти отдаются дрожью в ее груди, к которой прижаты щека и бакенбарда Уильяма. Вот уж не думала она, что мужские сантименты подобного рода способны обрадовать ее до головокружения, тем более, что и выражает-то их пузанчик с пренеприятно щекотными баками, — и тем не менее, сердце Конфетки колотится до неловкости сильно, да еще и прямо под ухом Уильяма.
— По мне и эта квартира очень мила и удобна, — говорит она, изнывая от желания услышать его возражения. — К тому же нам здесь никто не мешает.
Уильям со вздохом проводит пальцем по исчерченной тигровыми полосками коже ее бедра.
— Я понимаю, понимаю… — ладонь его нежно укладывается на пышный треугольник межножья Конфетки. (В последнее время он пристрастился ласкать и поглаживать ее тело — даже после того, как удовлетворит свои аппетиты. Скоро настанет день, когда Конфетка, набравшись храбрости, возьмет эту ладонь и поведет ее чуть дальше.)
— И все-таки, — жалобно произносит Уильям, — я так часто испытываю потребность обсудить с тобой то или это дело, понять, как мне лучше исполнить мой долг, а выбраться из дому не могу.
Конфетка гладит его по голове, напитывая маслом для волос растрескавшуюся кожу своей ладони.
— Мы же и так обсуждаем с тобой все на свете, разве нет? — говорит она. — Форму буквы «Р» на новых сортах мыла; костер из пятилетней лаванды — кстати, я собираюсь снова взять с собой Полковника; как тебе поступить с сиреневыми садами Лемерсье; как избавиться от засевших в вашей лондонской конторе одряхлевших приятелей твоего отца…
И, произнося все это, она думает: «Скажи, как сильно ты любишь меня, скажи».
— Да, — говорит он, — да. И все же, сколь многое удерживает меня вдали от тебя.
И он, с сердитым стоном отрывает голову от ее груди, растирает лицо ладонями.
— Знаешь, что странно, — оказывается, управлять деловой империей мне, при всей ее замысловатости, черт знает насколько проще, чем справляться с моей собственной семьей.
Конфетка натягивает на себя простыню, укрываясь ею до пупа.
— Что, Агнес опять стало хуже?
— Да нет, об Агнес я и думать забыл, — уныло бормочет Уильям — как будто семейство его состоит из многого множества людей, каждый из которых требует всегдашнего и неослабного внимания.
— Значит… ребенок?
«Ну же, давай, — думает Конфетка, — назови мне имя твоей дочери, почему ты никак не решишься на это?»
— Да, теперь у меня возникли сложности с ребенком, — признается Уильям. — И сложности дьявольски неприятные. Нянька девочки, Беатриса, довела до всеобщего сведения, что, по ее скромному мнению, дочь моя выросла настолько, что няня ей больше не требуется.
Он сооружает на лице гримасу, пародирующую женское раболепие, и, изображая няньку, пищит:
— «У меня нет необходимых знаний, мистер Рэкхэм. Софи нужна гувернантка, мистер Рэкхэм». И разумеется, то обстоятельство, что миссис Барретт только-только разродилась, что она нуждается в няньке для своего младенца и твердит всем и каждому, что за деньгами не постоит, никакого касательства к стараниям Беатрисы клещами вытянуть из меня разрешение на отставку, не имеет.
— Так… сколько же лет Софи? — спрашивает Конфетка, раскидывая руки и приподнимая грудь, дабы отвлечь мысли Уильяма от чрезмерной ее пытливости.
— А, всего-навсего пять! — фыркает Уильям. — Хотя нет, постой-ка: шесть. Да, шесть — исполнилось, пока Агнес была на побережье. Ну вот скажи мне: как по-твоему, нужна шестилетней девочке настоящая, дипломированная учительница?
В сознании Конфетки всплывает воспоминание, относящееся к ее шести годам: она сидит на скамеечке у маминой юбки; левая нога, прокушенная крысой, перебинтована; на коленях покоится растрепанная книжка — до ужаса страшный готический роман под названием «Монах», который она читает, почти ничего в нем не понимая.
— Не знаю, Уильям. Меня с колыбели школили очень строго, но ведь и детство мое было… (Конфетка морщится, вспоминая, как она читала миссис Кастауэй вслух и сносила насмешки за то, что неверно произносит слова, которых по малости своей и знать-то не могла)… далеко не обычным.
— Хмм, — Уильям, ожидавший совсем другого ответа, решает сменить тему.
— А тут еще братец Генри, — тяжко вздыхает он, — с ним тоже хлопот не оберешься.
— Вот как?
— Друг его угасает, а он принимает это слишком близко к сердцу.
— Друг?
— Очень… (Уильям пытается — из уважения к состоянию миссис Фокс, — подыскать прилагательное, которое не было бы чрезмерно нелестным) …достойная женщина, Эммелин Фокс. Прежде чем заболеть чахоткой, она играла видную роль в «Обществе спасения».
Стоит ли ей, прикидывает Конфетка, изображать неведение относительно «Общества спасения», представительницы которого время от времени появлялись на Силвер-стрит, где миссис Кастауэй принимала их с неизменным радушием и даже предлагала послушать игравшую на виолончели Кэти Лестер, — а затем осыпала сарказмами и насмешками, отчего они всегда покидали ее, обливаясь слезами.
— «Общество спасения»? — повторяет она.
— Ну, такая благотворительная организация. Пытается наставлять проституток на путь истинный.
— Правда? — Конфетка украдкой поднимает с пола свою сорочку, надевает ее. — И как, получается?
— Понятия не имею, — пожимает плечами Уильям. — Они обучают уличных девок профессиям… не знаю… белошвейки и прочим. Насколько мне известно, леди Бриджлоу получила от них подручную для своей кухарки. Девушка страшно ей благодарна, лезет из кожи вон, лишь бы угодить, леди Бриджлоу говорит, что по виду ее никто такого и заподозрить не мог.
Одеваться и дальше Конфетка не может — Уильям сидит на ее панталончиках.
— Я, когда приискивал новую горничную, — продолжает он, — подумывал, не обратиться ли мне за ней к «Обществу спасения», но теперь рад, что не сделал этого. Роза оказалась чистым золотом.
Конфетка нерешительно подталкивает Уильяма, пытаясь сдвинуть его с панталончиков, и он сдвигается — без каких-либо протестов. Осмелев от такой удачи, она решает пойти на риск много больший.
— А твой брат, — спрашивает она, — он тоже состоит в этом обществе?
— Нет-нет, — отвечает Уильям. — Туда принимают только женщин.
— Ну, может быть, в каком-то другом, похожем?
— Да нет… а почему ты спрашиваешь?
Конфетка набирает побольше воздуха в грудь — она опасается не столько подвести доверившуюся ей Каролину, сколько оскорбить предрассудки Уильяма.
— У меня есть знакомая, — осторожно начинает она, — которую я встречаю время от времени, когда… покупаю фрукты. Она проститутка… — (Уильям хмурится? Решает, что она не оправдала его доверия? Но теперь ей остается только одно — идти вперед.) — При нашей последней встрече она рассказала мне редкостную, удивительную историю…
И Конфетка передает Уильяму рассказ Каролины о старающемся, якобы, склонить проституток к добродетельной жизни святоше, который платит им по два шиллинга за разговор. Уильям терпеливо слушает ее, пока она не доходит до сделанного этим господином предложения подыскать для проститутки честное занятие — работу на предприятиях компании «Рэкхэм», — и вот тут-то он ахает, сообразив, о ком, по всей видимости, идет речь. А когда Конфетка заканчивает, Уильям изумленно покачивает головой.
— Боже всесильный!.. — бормочет он. — Неужели? Неужели это Генри? Да кто же еще?… Я же помню, как он спрашивал, не возьму ли я на работу бедную женщину, у которой нет рекомендательных писем… Боже мой… — И он вдруг разражается смехом. — Ну и прохвост! Выходит, он все-таки настоящий мужик!
Конфетку пробирают угрызения совести, хоть ей и не очень понятно, кого именно — Каролину или Генри — она предала.
— Да, но он и пальцем к ней не притронулся, — спешит заявить она. Уильям всхрапывает, голова его клонится набок — бедные женщины, до чего же они легковерны.
— К этой, глупышка моя, может быть, и не притронулся, — говорит он, — в этом случае. Но сколько еще шлюх он навестил?
Конфетка молчит. Теперь она, помимо раскаяния, ощущает и дрожь удовольствия от того, что Уильям так любовно, так покровительственно назвал ее «глупышкой».
— И кто бы мог подумать! — снова бормочет, похмыкивая, Уильям. — Генри, мой благочестивый братец! Праведник из праведников! Хе-хе! Знаешь, должен признаться, он никогда не нравился мне так, как нравится сейчас. Да благословит его Бог!
И Уильям, потянувшись к Конфетке, благодарно целует ее в щеку — вот, правда, она не понимает, за что.
— Ты… ты ведь не станешь смеяться над ним, верно? — просит она и нерешительно гладит его по плечу.
— Над родным-то братом? — укоризненно вопрошает, загадочно улыбаясь, Уильям. — Да еще в нынешнем его состоянии? Упаси Бог. Нет, я буду воплощением сдержанности.
— А когда ты снова увидишься с ним? — спрашивает Конфетка, надеясь, что это случится спустя недели, а то и месяцы, и за это время подробности сделанного ею разоблачения из головы Уильяма выветрятся.
— Сегодня, — отвечает Уильям. — За обедом.
Этим вечером Уильям, дабы развеять сумрак, сопровождавший каждый приход Генри в его дом, распорядился поставить на обеденный стол вдвое больше против обычного свечей и украсить его пестрыми цветами. В результате стол, если смотреть на него с порога ведущей в столовую двери, приобрел (по мнению самого Уильяма) вид на редкость отрадный. И даже при том, что устройство кухни, ради того и упрятанной в подобие подземной темницы, не позволяет никаким запахам покидать ее, нос Уильяма — обретший за последние месяцы такую чувствительность, что ему не составляет труда отличить Lavandula delphinensis от Lavandula latifolia,[68] — улавливает ароматы приготовляемого на ней превосходного мяса. Видит Бог, он готов пойти на все, лишь бы в доме его и не пахло страданием.
Агнес, вопреки ее обыкновению, заявила, что присоединится к братьям за обедом. Перспектива неутешительная? Нисколько, говорит себе Уильям: Агнес всегда питала слабость к Генри, а настроение у нее нынче вечером превосходное, — присматривая за развеской зимних штор, она даже посмеивалась и напевала.
— Я понимаю, что прошу слишком многого, но давай не будем сегодня упоминать о миссис Фокс, хорошо? — предлагает Уильям, когда до ожидаемого появления Генри остается лишь несколько минут.
— Я сделаю вид, что Сезон еще в самом разгаре, дорогой, — Агнес подмигивает ему, почти кокетливо, — и ничего ни о чем говорить не буду.
Спустя совсем недолгое время появляется чем-то взбудораженный Генри и, как только его избавляют от забрызганных дождем шляпы и пальто, Уильям отечески обнимает брата за плечи и проводит в столовую. Там перед Генри предстает картина элизийского изобилия — тепло, яркий свет, повсюду розы, салфетки, сложенные наподобие раскрытых павлиньих хвостов, и хорошенькая новая горничная, опускающая на стол супницу с золотистым супом. А за столом уже сидит облаченная в платье персиковых и кремовых тонов миссис Рэкхэм, улыбаясь Генри сквозь живописное обрамление из цветов и серебра..
— Мои извинения, — говорит Генри. — Я был… э-э…
— Садись, Генри, садись, — великодушно поводит рукой Уильям. — Мы вовсе не ждали, что ты появишься минута в минуту.
— Я уж было и раздумал ехать к вам, — сообщает, щурясь от блеска свечей, Генри.
— Тем большую радость доставил нам ваш приезд, — лучезарно улыбается Агнес.
Лишь после того, как Генри усаживается перед наполненным вином бокалом, поблескивающими тарелками, белоснежными салфетками и подсвечником, — перед всем, что отбрасывает на лицо его яркие отсветы, — Уильям замечает, как худо выглядит брат. Волосы Генри, отчаянно нуждающиеся в стрижке, заправлены за уши, только один их клок покачивается из стороны в сторону на потном лбу. Ни с мылом, ни с маслом они, похоже, давно уже не знались. Следом Уильям окидывает взглядом одежду брата, измятую и обвислую, — не то Генри ползал в ней, уподобясь Навуходоносору, на карачках, не то он сильно похудел, а может быть, с ним произошло и то, и другое. Одна из булавок, которой приколот к рубашке его воротник, выпросталась из-под криво повязанного галстука и неприятно посверкивает, отражая пламя свечи, отчего Уильямом овладевает желание этот галстук поправить. Впрочем, обед уже начался.
Генри отправляет в рот ложку за ложкой утиного consomm, почти не видя его, предпочитая вглядываться покрасневшими глазами в незримое зерцало своих мучений, висящее где-то за левым плечом Уильяма.
— Не следовало бы мне так объедаться, — замечает он, ни к кому в частности не обращаясь и продолжая орудовать ложкой на манер автомата. — В Шотландии людям приходится довольствоваться водорослями.
— О, но этот суп вовсе не жирен, — говорит Агнес. — Его процедили и очень старательно.
Повисает неловкое молчание, нарушаемое лишь хлюпаньем Генри. «Может быть, — думает Агнес, — из-за этого его и не приглашали никуда во время Сезона?».
— Ну, а что до водорослей, — продолжает она во внезапном приступе вдохновения, — нам ведь тоже их подавали, не правда ли, Уильям, у миссис Олдертон, в подливе? С гребешками и меч-рыбой. Я попробовала совсем чуть-чуть, очень странный был вкус. Хорошо еще, что это блюдо подавалось а la Russe,[69] иначе мне пришлось бы отправить все, что было на тарелке, под стол.
Уильям хмурится, ему вдруг вспоминается неприятность, которая приключилась два года назад на званом обеде миссис Катберт, — пса этой леди вырвало под накрытым белой камкой столом, почти у самых ног Агнес, и он немедля принялся, громко чавкая, пожирать свою блевотину.
— Для меня двери общества закрыты, — траурно сообщает Генри, когда служанка уносит его бульонную чашку. — Я говорю не о балах и обедах, об Обществе — нашем обществе, к которому все мы, предположительно, принадлежим. Сделать в нем я ни для кого ничего не могу, у меня нет роли, которую я там мог бы играть.
— Ну что вы, — говорит Агнес, глядя на деверя широко раскрытыми, сочувствующими глазами, а между тем в столовую вносят основное блюдо. — Разве вы не надеетесь стать священником?
— Надеюсь! — едко и без всякой надежды восклицает Генри.
— Уверена, из вас получился бы очень хороший священник, — стоит на своем Агнес.
Генри стискивает зубы — как раз в тот миг, когда на тарелку его выкладывается шипящий кусок тушеного тетерева.
— Гораздо лучший, чем этот прескучный доктор Крейн, — добавляет Агнес. — Хотя, сказать по чести, он мне теперь безразличен. Он вечно предостерегает меня от поступков, совершать которые я ни малейшего намерения не имею…
Вот так этот вечер и тянется — вилки отправляют во рты кусочек за кусочком, Агнес несет на своих плечах (подкрепляясь частыми глотками вина) главное бремя беседы, а Уильям вглядывается в брата, проникаясь все большим смятением от того, какое жалкое зрелище тот собою являет.
Генри же раз за разом повторяет, — когда ему вообще удается заставить себя раскрыть рот, — одни и те же слова о вопиющей тщете любых усилий, по крайней мере, если говорить об усилиях такого никчемного человека, как он. Голос его неровен, порой он стихает до невнятного бормотания, порой возвышается, наполняясь горькой горячностью, даже сарказмом, никогда прежде в Генри не замечавшимся. И все это время массивные руки его деловито режут мясо на все меньшие и меньшие кусочки и, в конце концов, он, к досаде Уильяма, смешивает их с овощами и оставляет не тронутыми.
— Вы добры ко мне много больше, чем я того заслуживаю, — вздыхает он в ответ на становящиеся все более теплыми ободрения хозяйки. — Вы и… и миссис Фокс видите меня в свете, который, я знаю это, полностью отличен от истинного…
Агнес бросает взгляд на Уильяма, блестящие глаза ее просят дозволения упомянуть запретное имя. На собранном в складки челе его большими буквами написано: «Сдержанность», однако она, неспособная ничего на нем прочитать, тут же и восклицает:
— Миссис Фокс совершенно права, Генри, совершенно права! Во всем, что касается веры, вы человек редкостной искренности — я это знаю! У меня особое чутье на такие вещи, я способна видеть ауру вокруг людских голов — не надо, Уильям, не хмурься. Это правда! Сияние веры истекает из человека, как… как газовый свет, озаряющий легкую дымку тумана. Это правда, Уильям, правда). — Агнес склоняется над столом, тянется к Генри, едва не касаясь грудью оставшейся на ее тарелке еды, и опасно приблизив лицо к подсвечнику, шутливо-заговорщицким тоном говорит деверю: — Нет, вы только взгляните на вашего брата, какой он сердитый, как ему хочется, чтобы я замолчала. И ни единой жилки богобоязненности во всем его…
Внезапно она умолкает, сдержанно улыбается, а затем:
— Нет, право же, Генри, вам не следует думать о себе так дурно. Вы самый нбожный человек, какого я знаю.
Генри смущенно поеживается.
— Прошу вас, — говорит он. — Ваша еда совсем остынет.
На это Агнес никакого внимания не обращает; в собственном доме она вправе есть столько, сколько ей хочется, — то есть почти ничего.
— Когда-то давно, — продолжает она, — Уильям рассказал мне одну историю. Он рассказал, как вы, еще мальчиком, услышали на проповеди, что в нынешние времена Бог говорит с нами только посредством Писания, не вкладывая слова Свои прямо нам в уши. Уильям сказал, что проповедь эта рассердила вас до того, что вы стали голодать и отказывать себе в сне, совсем как пророки древности, — лишь бы услышать голос Божий!
Агнес сжимает крошечные ладошки, улыбается, кивает, бессловесно осведомляя Генри, что и сама она поступает так же и вознаграждается тем, что ощущает на своей шее дуновение Божьего шепотка.
Генри мученически взирает на брата.
— Каких только глупостей ни совершаем мы в юности, — произносит Уильям. Он сильно потеет, ему хочется, чтобы кто-нибудь или что-нибудь впустило в столовую ветер, который мигом задул бы половину этих идиотских свечей. — Помню, я сам совсем еще мальчиком говорил, что коммерсантами становятся только люди, у которых нет ни грана воображения и чувства…
На Агнес это мужественное признание ни малейшего впечатления не производит, она отодвигает от себя тарелки и облокачивается на скатерть, намереваясь с удобством продолжить задушевную беседу с Генри.
— Вы нравитесь мне, Генри, — говорит она, чуть приметно смазывая слова. — И всегда нравились. Вам следовало бы стать католиком. Вы никогда не думали о том, чтобы обратиться в католичество?
Смирившемуся с неизбежностью Генри удается приискать себе только одно занятие — он перемешивает ложкой фруктовый мусс с коричневатой овсянкой.
— Хорошая перемена, ничем не хуже поездки на отдых, — заверяет его, пригубливая вино, Агнес. — А то и лучше. Я не так давно отдыхала, и мне ничуть не понравилось…
При этих словах Уильям неодобрительно хмыкает и, решив, что откладывать вмешательство в разговор он более не вправе, отодвигает в сторонку стоящий между ним и женой подсвечник.
— Быть может, с тебя уже довольно вина, дорогая? — строго осведомляется он.
— Ничуть, — наполовину капризно, наполовину весело отвечает Агнес. — Мясо было так солоно, меня мучает жажда.
И она еще раз подносит ко рту бокал, словно целуя розовыми губами красное вино.
— На столе есть вода, дорогая, вон в том графине, — напоминает ей Уильям.
— Спасибо, дорогой… — произносит она, ни на миг не отрывая взгляда от Генри, улыбаясь и кивая, словно говоря ему: «Да, да, все правильно, я все понимаю, мне вы можете открыться».
— Поговаривают, — с некоторой безнадежностью в голосе замечает Уильям, — будто доктор Керлью собирается приобрести дом, в котором прежде жили… э-э… как же их звали?
Агнес снова вступает в разговор, но не с подсказкой касательно забытого мужем имени, а с еще одной хулой по адресу пастора.
— Терпеть не могу приходить в церковь и слышать, как мне там делают выговоры, а вы? — спрашивает она у Генри и надувает губки. — Для чего же тогда человек взрослеет, перенося всякие гадкие разочарования, как не для того, чтобы самому решать, что хорошо, а что плохо?
Так все и тянется в течение еще пяти-десяти долгих, очень долгих минут, пока, наконец, бессловесные слуги не уносят тарелки, оставив в столовой только вино и троицу плохо понимающих друг друга Рэкхэмов. И в конце концов, Агнес ослабевает, голова ее начинает никнуть к локтю уложенной на стол руки, так что щека почти касается ткани рукава. Лоб Агнес опускается к ее предплечью медленно, но верно.
— Ты, часом, не засыпаешь ли, дорогая? — осведомляется Уильям.
— Просто хочу дать отдых глазам, — бормочет Агнес.