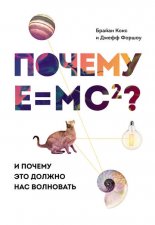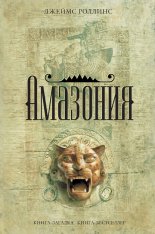Жизнь волшебника Гордеев Александр

четыре часа примитивные, но ядовитые вопросы «зачем?» и «почему?» завершили свою
разрушительную работу.
Свою очередную победу Роман принимает равнодушно, несмотря на то, что у девушки он
первый мужчина. Ему даже хочется, чтобы, очнувшись, новая женщина возненавидела его за
кавардак, устроенный в её личности. Но этого нет. Есть лишь благодарность, от которой хочется
отвернуться. А её заявление об открывшейся широте взглядов ввергает в тоску. Закинув руки за
голову, Роман лежит, глядя в закопчённый, давно не белёный общежитский потолок. Ну, кто вот он
сейчас? Дьявол что ли? Может быть, объяснить ей теперь, что его вчерашние вопросы были
однобоки, с намеренным игнорированием духовного. Он это духовное просто взял и обогнул. Да,
конечно, какая-то прибавка свободы в её взглядах есть. Но это нечто вроде «нижней» свободы. А
если бы она поднялась к любви, испытав эту близость на духовной высоте, то обнаружила бы иную
свободу, не сравнимую ни по величине, ни по «качеству» с полученной. Однако, если она сейчас не
видит никакой разницы, то нужен ли ей этот «верх»? У кого в её возрасте есть верхняя, духовная
сфера? Что поделать, если жизнь так скудно и не сразу подпитывает нас духовным? Оно, это
духовное, слишком массивно, чтобы молоденькие девчонки успевали его осваивать. «О Господи, –
грустно думает Роман, – найдётся ли среди них хоть одна, у которой бы её нравственным
принципы были не штампованными, а осмысленными?»
Мир от недостатка истинного в нём видится не слишком прочным. Нехорошо, конечно,
разрушать его ещё больше. Однако в этом умножении греховности мира есть тонкое, тёмное, но
приятное наслаждение, такое же, как при вытаптывании ровного снежного наста в огороде. Только
детское удовольствие от разрушения было не прочувствованным, не прояснённым, а теперь оно
вполне очевидно. Этот уже отлаженный, отрепетированный поток женщин не оставишь просто так.
Белый снег валиот и валиот – женщинам не видно конца. А значит, надо вытаптывать и
49
вытаптывать… Ещё возвращаясь из армии, Роман думал, что женщина, недоступная, как ей и
полагается по природе, может до мужчины лишь царственно снисходить. Но как быть, если они
постоянно «снисходят» и «снисходят»? В воле женщины – воля природы. Игнорировать её
снисхождение противоестественно. Потому-то ты, мужчина, и владеешь женщинами. Хотя
владеешь ли? Не та ли природа владеет и тобой, подстёгивая тебя всякий раз, когда ты, раздувая
ноздри как лось, ломишься через кусты и преграды то к одной, то к другой, как бы победе. Можно
ли этот чёртов Большой Гон хотя бы как-то утишить? Чем разбавить горячую,
легковоспламеняющуюся кровь? Только бы лучше не водкой, старостью и болезнями, а рассудком.
Но что значит сейчас этот робкий рассудок? Да ничего: «суха теория, мой друг, а древо жизни
зеленеет». Ох, и зеленеет же оно, это древо! Так кучеряво зеленеет, что уже и не до обуздывающих
теорий. Хорошо бы вообще ненавидеть этих порабощающих женщин, да не выходит. Выходит
разве что иногда немного издеваться над ними. Купить с получки килограмм дорогих шоколадных
конфет (чаще всего «Весну» или «Буревестник») и по штучке раздавать знакомым и незнакомым
женщинам, внутренне насмехаясь над их светящимися улыбками, над их падкостью на словечки и
подарочки. Но, по сути-то, это вода всё на ту же мельницу. Женщин от такой насмешки над ними
лишь прибывает.
Этому помогает и ещё одно соблазняющее умение, открытое в себе Романом и
сногсшибательно действующее в ресторане. Это открытие – танцы. Всё начинается однажды с
лезгинки, заказанной компанией шумных горячих кавказцев. Музыка такая, что заставляет
непроизвольно подёргиваться руки и ноги. Роман сидит, наблюдая за движениями танцующих и
вдруг находит, что ничего сложного в этом танце нет, чувствует, что он может даже и лучше. И уже
не может утерпеть. Выходит чуть подвыпивший, разгорячённый, оказавшись, блондинчатый и
голубоглазый, на голову выше своих лихих черноглазых соперников, и показывает «как надо», не
уступая, а даже значительно опережая их в скорости и чёткости. В одном же месте делает и вовсе
невероятное – сдваивает ритм так, что за один такт успевает сделать два одинаковых движения. И
это сходу, с первого раза. Уж если что есть, так того не отнимешь. Танцуя, он вроде бы ничего и не
придумывает. Напротив, перестаёт думать и полностью отпускает, отдаёт себя музыке. Примерно
так же поступал он в спарринге при рукопашной схватке, отдавая себя своему внутреннему зверю,
как называл этот внутренний выплеск прапорщик Махонин. Не зря же и теперь, выходя в круг,
Роман старается найти самого быстрого, самого умелого танцора и «сделать» его. И его «Тающий
Кот» всегда выходит победителем.
После первой же лезгинки Романа восторженные кавказцы в качестве подарка посылают на его
столик бутылку водки. А потом, в каждый очередной его визит в «Пыльные сети», все завсегдатаи с
первыми же звуками любой быстрой мелодии начинают выжидательно поглядывать в его сторону.
Но ему-то интересны, конечно, не завсегдатаи. Даже самая красивая из женщин после его
быстрого танца уже не может отказать и в медленном…
Лёжа как-то на койке в общежитии и читая книгу модного писателя-деревенщика, который не
рассуждает даже, а художественно ноет о разлагающихся нравственных нормах, Роман вдруг
спохватывается про себя: а где же он-то свои нормы оставил? Он что, уже не деревенский? Ведь,
судя по рассуждениям этого писателя, он просто деградирует, потому что не вправе хотеть женщин
в такой степени, в какой он всё-таки почему-то хочет их. Но как можно не желать женщин, если они
есть? Причём как раз для того, чтобы их желали. Вот ведь в чём заковыка-то! А что же, сам-то этот
писатель никогда никого не хотел? Он что же, ненормальный какой? Больной, что ли? Или у него от
природы заужены эти физиологические потребности? Ну, тогда ему, конечно, легко учить и
монашеские проповеди петь. А при чём тут его кивки на народную нравственность? Народ всегда
был максимально раскован в тех общественных, политических и прочих рамках, которые имел. И
всегда станет ещё раскованней, если рамки будут шире. Народ, как умная вода, всегда займёт все
возможные границы того нравственного сосуда, в который он влит.
Ущербность своего образа жизни Роман хорошо осознаёт и без каких-либо кивков на высокую
нравственность народа, и без всякого писательского нравоучительства. Ведь, в сущности-то,
увлечение женщинами – это самый простой способ обращать свою жизнь в забвение, сливать её в
песок. Жизнь вообще обладает какой-то феерическо-развлекательной агрессией. Отдайся весь без
остатка ярким впечатлениям и наслаждениям, и от твоей личной жизни не останется ничего. Она
вся растворится в этом сладком сиропе. Очевидно же, что настоящее удовольствие и
удовлетворение жизнью состоит не в развлечениях, не в лёгких поверхностных приключениях, а в
духовной наполненности души.
В воскресенье не надо тащиться на работу. Можно поспать чуть подольше, а потом сходить в
магазин за продуктами. У прилавка небольшая очередь, позволяющая неспешно ворочать
мыслями. Состояние всё ещё какое-то полусонное: «поднять подняли, а разбудить не разбудили».
«А, кстати, с кем я сегодня ночевал? Ведь я же сегодня с кем-то спал… Но с кем?!» В
растерянности Роман даже прикрывает ладонью открывшийся рот. Вчерашняя или уже
сегодняшняя женщина ушла рано утром, но он не помнит ни лица её, ни фигуры, ни имени. Была
просто «какая-то женщина», и всё. Женщина вообще, в принципе. Тут впору протрясти головой,
50
окончательно проснуться и задуматься на один порядок сильнее. Пора либо бросать весь этот
разврат, либо научиться как-то оставлять его в памяти, потому что, как бы там ни было, но это тоже
жизнь.
У женщин, как и у снов, общее свойство легко забываться. Костик запоминает их с помощью
фантиков. Делая попытку хоть как-то самосохраниться, Роман вспоминает и записывает в книжку
имена женщин, а если имена сдваиваются или страиваются, подписывает характеристики: какие-то
особенности вроде цвета волос или глаз. А ещё для описания сути женщин находятся различные
цветовые определения, которые кажутся наиболее памятными. С самого детства, с момента, как
он попал в райцентре под автобус, этот «спектральный анализ» срабатывает сам собой. Поэтому в
его книжке появляются характеристики: «золотистая», «бледно-розовая», «с синевой»,
«малиновая»… Интимные детали фигур он не трогает, опасаясь возможной потери книжки.
Конечно, нашедший его досье, никогда не узнает автора, однако, как думает Роман, такое подлое
явление, каким является он, не вправе открываться миру даже анонимно. Впрочем, для
достоверности памяти таких заметок всё равно не хватает, а перенимать опыт Костика с его
фантиками, по выражению же Костика, западло. Пусть я почти такой же, как он, а всё равно в чём-
то лучше. Но – стоп, стоп, стоп! Да ведь тут-то его дырявой памяти поможет тот же дорогой,
бережно хранимый фотоаппарат «Смена-6», когда-то подаренный отцом!
Женщины и девушки фотографироваться любят больше, чем мужчины. Ну, так они и в зеркало
смотрятся чаще. Можно сделать просто портретный снимок. А можно и не портретный. Когда есть
отношения – женщинам и самим интересно сняться откровенней. А это уже коллекция. Коллекция
фотографий, но выходит, что и коллекция женщин. Она хранится отдельно в чёрном пакете, вместе
с пачками неиспользованной фотобумаги, который обычно боятся открывать. Теперь победы
обретают дополнительный смысл – уже само увеличение коллекции кажется не меньшей
ценностью, чем сама победа. Победы, полученные в результате возрастающего искусства
соблазнителя, вроде как дешевеют, а коллекция дорожает.
Однако, как ни уговаривай себя, как ни переводи этот пустой образ жизни в какие-то другие
формы, например, в форму того же коллекционирования, общее разочарование остаётся.
Любопытного в женщине обнаруживается куда меньше, чем ещё совсем недавно грезилось из
юношеского целомудрия. Теперь-то уж понятно, например, что женщина не может быть красивой
единственно от того, что она обнажена. Оказывается, красота – это не когда что-то обнажено, а
когда обнажено именно красивое. Но почему как раз именно сильно развитые женские формы и
отталкивают. Почему именно это впечатление кажется особенно грубым? Хотя, как это
отталкивают? Уже отталкивают? Опа-па! Так ведь это похоже на отрыжку! На пресыщение!
Приехали, дорогой! А что ж так быстро? Может быть, потому что женщин было уже слишком много
для тебя? Конечно, никакое это не пресыщение, но, кажется, Женщина, как одна из категорий
жизни, постигнута. Если только это заявление не слишком безответственно… Полностью постичь
такое явление, как «женщина», в двадцать лет?! А дальше, простите, что делать? Чем в этой
длинной жизни заниматься ещё? Уже не жить? Уже хватит? А может быть, это разочарование не от
пресыщения, а от опытности? От всё большей изощрённости вкуса? От понимания, что сильно
развитые женские формы не гарантируют страстность? Ведь тут, более того, наблюдается даже
нечто обратное – чем более женщина сексуальна внешне, тем меньше в ней страсти и огня. Как
будто её страсть растрачивается через саму внешнюю сексуальность. И напротив, внешне
неприметная женщина (серенькая мышка) может оказаться настоящей бомбой. Ну как тут не
сделать вывод, что крутые женские формы – это чаще всего обманка, излишность?
Так это или не так, но дух любовных приключений становится дряблым и вроде как
необязательным. Куда спокойней видеться с несколькими, особенно сильно привязавшимися
женщинами, установив некий распорядок встреч. Плотское удовлетворение есть, и ладно. Понятно,
что всё это неправильно. Понятно, что надо спасаться. И способ известен. Спасение твоё в такой
женщине, как Люба. Или ей ещё не время? Хотя почему не время? Да потому, что хоть душевной
грязи в установившейся жизни больше, чем надо («хорошо, что я вижу это сам»), из неё всё же не
хочется вылезать. Затянуло. Кажется, до нового витка духовного, до потребности любви нужно
снова дозреть. Только как дозреть на такой почве?
– А зачем вы хотите со мной познакомиться? – спрашивает его одна из очередных женщин,
мимо которой он просто не может пройти. – Для коллекции?
– Ну зачем же? – сбившись от такого точного, но банального попадания бормочет Роман. – Не
для коллекции, а для общения. Может быть, мы с вами подружимся. И вообще… Дайте вашу сумку,
я помогу.
Женщина удивлённо вскидывает брови и разжимает руку, отпуская сумку.
– Если вы не ищете лёгкого знакомства, – наставительно произносит она, – то надо быть очень
наивным, надеясь вот так на улице, в толпе, встретить единственного человека. Единственные не
находятся так просто. Это слишком несопоставимо: единственный и случайный…
Пожалуй, в её рассуждениях что-то есть. Но сейчас важней другое. Они ведь наверняка идут к
её дому и где-то обязательно остановятся: за квартал от дома, у подъезда или у дверей квартиры.
51
Этот момент нельзя проиграть. Окидывая женщину взглядом, Роман невольно пытается
представить эту, пока ещё незнакомку, без одежды, без этой красиво вязаной, наверное,
собственными руками, шапочки. Всё-таки как мило, когда у женщины есть вещи, сделанные её
руками. Это придаёт им особое обаяние.
Незнакомка продолжает воспитывать, он во всём соглашается с ней, словно не слыша
наставлений. Пройдя по улице Ленина, они сворачивают под арку во двор, потом так же резко под
очередным прямым углом в подъезд и поднимаются по лестнице. У дверей останавливаются, но
лишь для того, чтобы она, продолжая рассуждать, отыскала в сумочке ключ. То ли она не замечает
спутника, то ли не помнит, что идёт с чужим, пока что без имени, человеком. Кажется, ей и самой
удивительно всё, что происходит вопреки её установкам, правильным речам и чёткой логике.
В квартире женщина, скинув пальто, оказывается в дорогом светлом платье. Прихожая отделана
под раскалённую красную кожу – всюду приметы полноценного семейного гнезда. Замужних
женщин Роман избегает принципиально, но не из-за каких-то страхов, а из-за сочувствия к
собратьям (не надо во всём уподобляться Костику). И потом: глупо лезь к занятым, когда полно
свободных. Замужние обычно выделяются на улице озабоченностью, внутренним сосредоточием,
спокойным, даже равнодушным отношением к посторонним мужчинам. А тут осечка – печать
замужества на этой женщине бледноватая, словно с выветрившимися чернилами, и даже
хозяйственная лёгкая сумка не выдала её на улице. Но что уж теперь… Назад не
раззнакомишься…
Раздеться она не предлагает, словно он заметен ей лишь для наставлений. Сняв и повесив
куртку поверх чужого мужского пальто, Роман проходит за ней в комнату. Продолжая слушать и
поддакивать, он медленно приближается к ней, обнимает за талию и словно обжигается плотью.
Ошеломление от её тела многократно превосходит ожидание. Женщина мягка и податлива. Всё,
что она делает теперь, – это лишь замолкает. Но её молчание после длинных речей кажется
возбуждающим само по себе. С минуту, затаённо обвыкнув в тесных объятиях незнакомца и
словно напитавшись его желанием, она легонько, необидно отталкивает в грудь. Потом, отступив
на два шага, медленно наклоняется, берётся за подол платья и скрещенными руками поднимает
его над головой, вспыхнув тугими ногами в розовых колготках. Роман не может сдержаться, чтобы
не потянуться, позволяя истоме свободней разлиться по всему телу.
Потом, отдыхая под смятой простыней, вяло натянутой как попало, он думает, что, в общем-то,
как бы пошловато всё это ни выглядело, но и связи без всяких чувств – это одна из самых ярких
красок жизни. Конечно, не всегда у него выходит это так ошеломительно и быстро, как сейчас, но
эту розовую вспышку колготок он не забудет, даже имея когда-нибудь самую прекрасную, самую
любимую жену. И сможет ли он потом быть верным, зная о возможности таких внезапных,
случайных радостей?
С этой женщиной, которую зовут Марина (кажется, Марина четвёртая – надо уточнить по
записям) он встречается потом с неделю, до возвращения её мужа с курорта.
Окончательно прощаясь после пятой встречи, они стоят в красной, так и не потерявшей
раскалённости, прихожей.
– В первый раз ты так много тараторила, – с улыбкой вспоминает Роман, – я никак не мог
дождаться окончания лекции.
– Это от растерянности, – признаётся она. – Я на самом-то деле вроде бы и не хотела ничего,
да слишком уж долго отсутствовал Коля.
– Ты часто изменяешь ему?
– Не часто, но бывает, – потупившись, сознаётся она и в этом. – Конечно, дело тут не только в
разлуках. Любовь, какая бы она ни была, всё равно слабнет и проходит. Проходит. . И ничего тут не
попишешь. А без живого в душе нельзя. Только увлечения и спасают. .
– Скажи мне, – просит он Марину, – каким ты видишь меня как женщина?