Дипломатия Киссинджер Генри
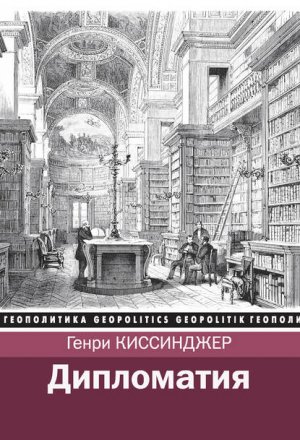
Суть спора была гораздо менее важна, чем сам факт коалиции двух основных германских государств, объявивших войну крохотной Дании, с тем чтобы силой отобрать две исконные германские территории, связанные с датской короной. Это доказывало, что в конечном счете Германия способна на наступательные действия, а если воздействие конфедерации окажется чересчур для них обременительным, то обе германские сверхдержавы могут просто не обращать на него внимания.
Согласно традициям «венской системы», в подобном случае великие державы должны были бы созвать конгресс и восстановить приближение к прежнему статус-кво. Но Европа была поражена разбродом и шатанием, в первую очередь вследствие действий французского императора. Россия не была готова выступить против тех двух стран, которые самоустранились, когда она подавляла польское восстание. Великобритании было не по себе в связи с нападением на Данию, но для вмешательства ей требовалось наличие союзника на континенте, а Франция, единственный подходящий партнер, не внушала доверия.
История, идеология и принцип raison d'etat должны были предостеречь Наполеона, что события вскоре станут развиваться сами собой. И все же он метался между следованием принципам традиционной внешней политики Франции, заключавшимся в том, что Германия должна оставаться разделенной, и поддержкой принципа национального самоопределения, вдохновлявшего его в молодости. Французский министр иностранных дел Дрюон де Лис писал французскому послу в Лондоне Латур-д-Оверню:
«Имея, с одной стороны, права государства, которому мы долгое время симпатизируем, а с другой — чаяния германского населения, которые мы в равной степени принимаем во внимание, мы вынуждены действовать с большей степенью осмотрительности, чем Англия»[131].
Ответственный подход государственного деятеля заключается, однако, в том, чтобы разрешать сложные ситуации, а не смотреть на них со стороны. Ибо для лидеров, неспособных избрать одну из альтернатив, осмотрительность есть алиби бездействия. Наполеон убедил себя в мудрости бездействия, предоставляя Пруссии и Австрии решать будущее герцогств на Эльбе. Те же отторгли Шлезвиг-Голштинию от Дании и совместно ее оккупировали, в то время как остальная Европа пребывала в положении наблюдателя — ситуация, немыслимая во времена действия меттерниховской системы. Надвигался кошмар для Франции в облике единства Германии, то, от чего Наполеон пытался отмахнуться в течение десятилетия.
Бисмарк не собирался ни с кем делить руководящую роль в Германии. Он превратил совместную войну за Шлезвиг-Голштинию в очередную из бесчисленных ошибок Австрии — эти ошибки в течение десятилетия послужили вехами того пути, на котором Австрия потеряла свое положение великой державы. Причина всех бед была всегда одна и та же: Австрия стремилась умиротворить возможного противника предложением с ним сотрудничать. Стратегия умиротворения подействовала на Пруссию не больше, чем десятилетием ранее, во время Крымской войны, на Францию. Не обеспечив освобождения Австрии от прусского давления, совместная победа над Данией создала новый и весьма неблагоприятный плацдарм унижений. Теперь Австрии предстояло управлять герцогствами по Эльбе вместе со своим прусским союзником, чей премьер-министр Бисмарк уже давно был готов к возникновению долгожданного противостояния на территории, удаленной на сотни миль от австрийских земель и одновременно граничащей с основными прусскими владениями.
По мере роста напряженности двойственность поведения Наполеона стала еще очевидней. Он опасался объединения Германии, но с сочувствием относился к германскому национализму и разрывался на части, пытаясь разрешить неразрешимую дилемму. Он считал Пруссию самым подлинно германским национальным государством и писал в 1860 году следующее:
«Пруссия персонифицирует сущность германской нации, религиозную реформу, коммерческий прогресс, либеральный конституционализм. Крупнейшая из истинно германских монархий, она обладает большей свободой совести, просвещенностью, предоставляет больше политических прав, чем прочие германские государства»[132].
Бисмарк подписался бы под каждым из этих слов. Однако подтверждение Наполеоном уникальности положения Пруссии было для Бисмарка ключом к неизбежному прусскому триумфу. В конце концов столь громкое восхищение Пруссией стало для Наполеона очередным оправданием ничегонеделания. Полагая нерешительность умелым и мудрым маневрированием, Наполеон, по сути дела, способствовал началу австро-прусской войны отчасти потому, что был убежден в поражении Пруссии. Он сказал тогдашнему своему министру иностранных дел Александру Валевскому в декабре 1865 года: «Поверьте мне, дорогой друг, война между Австрией и Пруссией представляет собой одно из дарованных судьбой событий, способных принести нам более чем одно преимущество»[133]. Любопытно, что когда Наполеон подталкивал события в направлении войны, он, похоже, никогда не задавался вопросом, почему Бисмарк до такой степени преисполнен решимости вступить в войну, коль скоро Пруссия скорее всего обречена на поражение.
За четыре месяца до начала австро-прусской войны Наполеон перещел от молчаливого подстрекательства к открытому. На деле подталкивая к войне, он заявил прусскому послу в Париже графу фон дер Гольцу в феврале 1866 года:
«Прошу вас передать королю [Пруссии], что он всегда может рассчитывать на мое дружеское к нему отношение. Если возникнет конфликт между Пруссией и Австрией, я буду придерживаться абсолютнейшего нейтралитета. Я желаю объединения герцогств [Шлезвиг-Голштинии] с Пруссией... В случае если борьба приобретет непредвиденный ныне размах, я убежден, что смогу всегда достичь взаимопонимания с Пруссией, чьи интересы по множеству вопросов идентичны с интересами Франции, в то время как я не вижу ни единого пункта, по которому я мог бы прийти к согласию с Австрией»[134].
Чего же на самом деле хотел Наполеон? Неужели он действительно был убежден в наличии патовой ситуации, усиливавшей его положение на переговорах? Он явно надеялся на какую-нибудь уступку со стороны Пруссии в обмен на нейтралитет. Бисмарк понял эту игру. На случай, если Наполеон сохранит нейтралитет, он преложил благосклонно отнестись к захвату Францией Бельгии, что сулило дополнительные выгоды, ибо ссорило Францию с Великобританией. Наполеон, возможно, не принял это предложение всерьез, поскольку ожидал, что Пруссия проиграет войну; шаги его были скорее направлены в сторону подталкивания Пруссии к войне, чем в направлении переговоров о будущих выгодах. Через несколько лет после этого граф Арман, первый заместитель французского министра иностранных дел, признавал:
«Нас в министерстве иностранных дел беспокоило только то, что разгром и унижение Пруссии перейдут все мыслимые границы, так что мы были преисполнены решимости предотвратить это путем своевременного вмешательства. Император хотел, чтобы сначала Пруссия потерпела поражение, а потом бы он вмешался и выстроил Германию согласно собственным фантазиям»[135].
Наполеон, конечно, намеревался повторить на новом уровне махинации Ришелье. Пруссия, как ожидалось, предложит Франции компенсацию на западе за спасение от поражения, Венеция будет отдана Италии, а результатом нового переустройства Германии станет создание Северогерманской конфедерации под эгидой Пруссии и Южногерманской группы государств, поддерживаемой Францией и Австрией. Единственно неверным в этой схеме было то, что если кардинал знал, как судить о соотношении сил, и готов был воевать, чтобы отстаивать собственные суждения, Наполеон не был подготовлен ни к тому, ни к другому.
Наполеон придерживался тактики оттяжек и проволочек, надеясь на то, что сам ход событий приведет к осуществлению его сокровеннейших чаяний безо всякого риска. При этом он использовал свой излюбленный прием: призывать к созыву европейского конгресса для предотвращения угрозы войны. Реакция на это тоже была обычной. Прочие державы, боясь планов Наполеона, отказались в нем участвовать. К чему бы он ни обращался, его подстерегала все та же дилемма: он мог защищать статус-кво, лишь отказавшись от поддержки принципа национального самоопределения; либо он мог поддерживать тенденции к пересмотру существующего порядка и национализм, но по ходу дела этим ставились под угрозу исторически сложившиеся национальные интересы Франции. Наполеон искал утещение в намеках Пруссии относительно «компенсации», не уточняя, о чем конкретно идет речь, и это убеждало Бисмарка в том, что французский нейтралитет — вопрос цены, а не принципа. Гольц писал Бисмарку:
«Единственной трудностью в связи с общим выступлением Пруссии, Франции и Италии на конгрессе император считает отсутствие компенсации, которая могла бы быть предложена Франции. Известно, чего мы хотим; известно, чего хочет Италия; но император не уточняет, чего хочет Франция, а мы ему на этот счет ничего не можем посоветовать»[136].
Великобритания обусловила участие в конгрессе предварительными гарантиями со стороны Франции относительно согласия последней на сохранение статус-кво. Вместо того чтобы ухватиться за эту возможность сохранить существующую систему германских государств, значившую так много для французского лидерства и обеспечивавшую безопасность Франции, Наполеон отступил, настаивая на том, что «для поддержания мира необходимо принимать во внимание национальные пристрастия и потребности»[137]. Короче говоря, Наполеон готов был пойти на риск австро-прусской войны и объединения Германии, с тем чтобы добиться непонятных перемен в Италии, не имеющих никакого отношения к истинным национальным интересам Франции, и каких-то приобретений в Западной Европе, которые он так и не рискнул назвать. Но в лице Бисмарка перед ним стоял мастер, настаивающий на реальной силе вещей и оборачивающий в свою пользу ограниченный характер тактического маневрирования, столь свойственные Наполеону.
Среди ведущих политиков Франции были и те, кто понимал, на какой риск идет Наполеон, и кто осознавал, что так называемая компенсация, на которую он намекает, не заключает в себе ничего, что было бы связано с коренными интересами Франции. В блестящей речи от 3 мая 1866 года Адольф Тьер, убежденный республиканский оппонент Наполеона, а позднее президент Франции, верно предугадал, что Пруссия, похоже, желает стать ведущей силой Германии:
«Мы еще станем свидетелями возврата империи Карла V, которая прежде имела своим центром Вену, а теперь будет иметь таковым Берлин, находящийся намного ближе к нашей границе и способный оказывать на нее давление... Вы имеете полное право противостоять этой политике во имя интересов Франции, ибо для Франции слишком важно, чтобы подобная революция не превратилась для нее в серьезную угрозу. А коль скоро она боролась два столетия... чтобы разрушить этот колосс, готова ли она смотреть со стороны, как он возрождается у нее на глазах?»[138]
Тьер настаивал на том, что на место вялых рассуждений Наполеона должна прийти четкая и ясная французская политика противостояния Пруссии, основывающаяся на необходимости защиты независимости германских государств: эта предпосылка представляла собой старую формулу Ришелье. Франция, утверждал он, имеет право возражать против объединения Германии «во-первых, во имя независимости германских государств... во-вторых, во имя собственной независимости и, наконец, во имя европейского равновесия в интересах всех, в интересах международного сообщества... Сегодня пытаются высмеять до предела термин „европейское равновесие"... но что такое европейское равновесие? Это — независимость Европы»[139].
Это был последний момент, когда еще можно было предотвратить войну между Пруссией и Австрией, которая непоправимо изменила европейское равновесие. Аналитически Тьер был прав, но предпосылки для подобной политики должны были быть заложены десятилетием ранее. Даже в тот момент Бисмарк бы отступил, если бы Франция выступила с серьезным предупреждением, что она не допустит поражения Австрии или ликвидации традиционно существующих княжеств типа Ганноверского королевства. Но Наполеон отверг этот путь, ибо надеялся на победу Австрии, а также на то, что ему будет принадлежать слава разрушителя венского урегулирования и удачливого продолжателя традиций Бонапарта без какого бы то ни было анализа французских исторически сложившихся национальных интересов. Через три дня он ответил Тьеру: «Я презираю договоры 1815 года, которые сегодня кое-кто хочет сделать единственной основой нашей политики»[140].
Менее чем через месяц после речи Тьера Пруссия и Австрия уже находились в состоянии войны. Вопреки всем ожиданиям Наполеона Пруссия одержала быструю и решительную победу. Согласно правилам дипломатии Ришелье, Наполеон обязан был бы оказать помощь побежденному и предотвратить явную победу Пруссии. Но хотя он выдвинул к Рейну «наблюдательный» армейский корпус, окончательного решения принято так и не было. Бисмарк кинул Наполеону подачку, отведя ему роль посредника в мирных переговорах, хотя этот ничего не значащий жест не мог скрыть того факта, что устройство германских дел все меньше касается Франции. Согласно Пражскому договору, заключенному в августе 1866 года, Австрия была вынуждена уйти из Германии. Два государства, Ганновер и Гессе-Кассель, принявшие во время войны сторону Австрии, были аннексированы Пруссией наряду с Шлезвиг-Голштинией и вольным городом Франкфуртом. Сместив их правителей, Бисмарк дал четко понять, что Пруссия, некогда главная спица в колеснице Священного союза, отказалась от легитимности как главенствующего принципа международного порядка.
Северогерманские государства, все еще сохранявшие независимость, были включены в новое созданное Бисмарком объединение: Северогерманскую федерацию, повинующуюся прусскому руководству во всем: от торгового законодательства до внешней политики. Южногерманские государства — Бавария, Баден и Вюртемберг — получили возможность сохранить свою независимость ценой договоров с Пруссией, отдававших их вооруженные силы под прусское военное руководство в случае войны с посторонней державой. Для объединения Германии нужен был всего один кризис.
Наполеон своими маневрами загнал страну в тупик, откуда выйти оказалось невозможно. Слишком поздно он попытался вступить в союз с Австрией, которую он выставил из Италии при помощи военной силы, а из Германии, — посредством нейтралитета. Но Австрия потеряла интерес к восстановлению каждой из этих утраченных позиций и предпочла сконцентрироваться, во-первых, на превращении империи в двуединую монархию на базе Вены и Будапешта и, во-вторых, на делах, связанных со своими владениями на Балканах. Великобритания отошла в сторону из-за французских притязаний на Люксембург и Бельгию; а Россия так и не простила Наполеону его поведение в связи с Польшей.
Теперь Франция вынуждена была самостоятельно заниматься надвигающейся потерей своего исторического преобладания в Европе. Чем безнадежнее становилась ее позиция, тем отчаяннее Наполеон пытался поправить положение каким-нибудь блестящим ходом, подобно азартному игроку, удваивающему ставку после каждого проигрыша. Бисмарк поощрял стремление Наполеона к нейтралитету во время австро-прусской войны, помахивая перед его носом перспективой территориальных приобретений — вначале Бельгии, потом и Люксембурга. Эти перспективы рассеивались как дым, как только Наполеон пытался за них ухватиться, поскольку Наполеон хотел, чтобы эту «компенсацию» ему поднесли на блюде, и поскольку Бисмарк не видел причины идти на риск, коль скоро он уже пожал плоды нерешительности Наполеона.
Оскорбленный всеми этими демонстрациями собственного бессилия, а превыше всего тем, что чаша весов в Европе стала склоняться не в пользу Франции, Наполеон решил вознаградить себя за просчет, связанный с тем, что он полагался на победу Австрии в австро-прусской войне. Для этого он стал превращать в проблему наследование испанского трона, который к тому времени опустел. Он потребовал заверений от прусского короля, что ни один принц из династии Гогенцоллернов (правившей в Пруссии) не будет претендовать на этот престол. Это был еще один пустой жест, способный в лучшем случае принести успех престижного характера, но не имеющий никакого отношения к силовому соперничеству в Центральной Европе.
Никто не мог взять верх над Бисмарком в области гибкого дипломатического маневрирования. При помощи одного из своих самых ловких ходов Бисмарк воспользовался упрямством Наполеона, чтобы хитростью вынудить его объявить в 1870 году войну Пруссии. Французское требование к прусскому королю объявить об отказе любого из членов его фамилии от претензий на испанскую корону было, по сути дела, провокационным. Но пожилой, преисполненный достоинства король Вильгельм, вместо того чтобы выйти из себя, предпочел терпеливо и корректно дать отказ французскому послу, направленному, чтобы обеспечить выполнение этого требования. Король направил отчет о случившемся Бисмарку, который отредактировал телеграмму монарха, изъяв из нее весь текст, свидетельствующий о терпимости короля и уважительном отношении к французскому послу, которое и имело место на самом деле[141]. Бисмарк, значительно опередив свое время, прибег к тактике, которую государственные деятели последующих поколений превратили в своего рода искусство: он обеспечил утечку в прессу текста этой так называемой «Эмсской депеши». Отредактированная версия телеграммы короля выглядела как королевский выговор Франции. Взбешенная французская публика потребовала войны, и Наполеон пошел ей навстречу. Пруссия победила решительно и быстро при содействии всех прочих германских государств. Теперь путь к окончательному объединению Германии был открыт, что и было довольно бестактно сделано прусским руководством 18 января 1871 года в Зеркальном зале Версальского дворца.
Наполеон выковал революцию, к которой стремился, хотя ее последствия оказались совершенно противоположны его намерениям. Карта Европы действительно оказалась перекроена, но это новое переустройство бесповоротно ослабило французское влияние, не принеся императору желанного признания.
Наполеон поощрял революционные перемены, не понимая, к чему они приведут. Неспособный учитывать соотношение сил и закладывать его как фактор достижения собственных долгосрочных целей, он не выдержал испытания. Его внешняя политика потерпела крах не от отсутствия идей, а оттого, что автор этих идей был неспособен упорядочить свои самые разнообразные чаяния, а также не сумел реально оценить сложившуюся обстановку. Стремясь быть на виду, Наполеон никогда не следовал определенной политической линии. Вместо этого он беспорядочно гнался за самыми разнообразными целями, причем некоторые из них заведомо противоречили друг другу. И когда настал судьбоносный кризис его карьеры, разнообразные его порывы оказались взаимоисключающими.
Наполеон воспринимал Меттерниховскую систему как унизительную для Франции и ограничивающую его амбиции. Он преуспел в разрушении Священного союза, вбив клин между Австрией и Россией во время Крымской войны, однако не знал, что делать с собственным триумфом. Начиная с 1853 года и вплоть до 1871 года сохранялся относительный хаос, но одновременно реорганизовывался европейский порядок. А когда этот период закончился, Германия оказалась сильнейшей державой на континенте. Легитимизм — принцип единства консервативных правителей, смягчавший жесткость системы равновесия сил в годы политической деятельности Меттерниха, —превратился в пустой звук. И всем этим переменам способствовал лично Наполеон. Переоценив могущество Франции, он поощрял любые перемены, будучи убежден, что он может ими воспользоваться на благо Франции.
В итоге международная политика стала базироваться на грубой силе. И в этом народившемся мире возник органический разрыв между представлением Франции о самой себе как о ведущей нации Европы и ее способностью соответствовать этому — разрыв, который не преодолен французской политикой по сей день. Во времена правления Наполеона свидетельством этому была неспособность императора добиться осуществления бесчисленных его предложений созвать европейский конгресс, чтобы ревизовать карту Европы. Наполеон призывал к созыву конгресса после Крымской войны в 1856 году, перед началом войны в Италии в 1859 году, во время польского восстания в 1863 году, во время войны с Данией в 1864 году и перед началом австро-прусской войны в 1866 году, причем все это время он стремился путем переговоров добиться никогда точно не определенного пересмотра границ, ради которого он к тому же не был готов пойти на риск войны. Недостаточно сильный, чтобы настаивать, император придерживался планов до такой степени радикальных, что они не могли быть поддержаны посредством консенсуса.
Стремление Франции вступать в союз с такими странами, которые готовы бы были согласиться с ее лидерством, стало неизменным фактором французской внешней политики после Крымской войны. Неспособная главенствовать в союзе с Великобританией, Германией, Россией или Соединенными Штатами и считающая для себя статус младшего партнера неприемлемым — столь велики были ее представления о своем национальном величии и мессианской роли в мире, — Франция искала лидерства в пактах с менее сильными державами: с Сардинией, Румынией и срединными германскими государствами в XIX веке; с Чехословакией, Югославией и Румынией в межвоенный период.
Тот же самый подход просматривается во внешней политике постдеголлевской Франции. Через столетие после франко-прусской войны проблема более могущественной Германии продолжает оставаться для Франции кошмаром. Франция сделала! I смелый выбор и стала искать дружбы со своим пугающим и вызывающим восхищение! соседом. Тем не менее геополитическая логика требует от Франции стремиться к тесным связям с Соединенными Штатами, хотя бы даже для того, чтобы создать многовариантность выбора. Однако французская гордость этого допустить не может и заставляет Францию искать, иногда даже подонкихотски, безразлично какую группу стран, — чтобы уравновесить Соединенные Штаты европейским консорциумом, даже ценой явного германского преобладания. В нынешние времена Франция то и дело играет роль чего-то вроде парламентской оппозиции американскому лидерству, пытались превратить Европейское экономическое сообщество в альтернативного мирового лидера и активно поддерживая связи с нациями, над которыми может, или полагает,что может, главенствовать.
С момента окончания правления Наполеона III Франция более не обладает могуществом для распространения универсалистских чаяний, унаследованных от Французской революции, а также полем деятельности, которое явилось бы адекватной точкой приложения миссионерского рвения. Понадобилось столетие с лишним, чтобы Франция кое-как смирилась с тем, что объективные условия, созданные Ришелье в обеспечение преобладания Франции, исчезли, едва была достигнута национальная консолидация Европы. Едкий стиль французской дипломатии в значительной части объясняется попытками лидеров страны увековечить ее роль как центра европейской политики, в обстановке, абсолютно несоответствующей подобным воззрениям. По иронии судьбы та самая страна, которая изобрела принцип высших интересов государства, вынуждена значительную часть нынешнего столетия заниматься попытками привести свои чаяния в соответствие со своими возможностями.
Разрушение «венской системы», начатое Наполеоном, было довершено Бисмарком. Бисмарк приобрел политическую известность как архиконсервативный противник либеральной революции 1848 года. Он также оказался первым руководителем европейской страны, который ввел всеобщее избирательное право для мужчин, а также организовал всеобъемлющую систему социального обеспечения, в течение шестидесяти лет не имевшую себе равных в мире. В 1848 году Бисмарк со всей решимостью возражал против предложения новоизбранного парламента вручить императорскую германскую корону прусскому королю. Зато не прошло и двух десятилетий, как он же вручил императорскую корону прусскому королю в завершение процесса объединения Германии в пику либеральным принципам и благодаря способности Пруссии навязать свою волю силой. Это потрясающее свершение заставило международный порядок ориентироваться на ничем не сдерживаемое соперничество, то есть вернуться в восемнадцатый век. Но теперь это становилось намного более опасным из-за наличия промышленной технологии и способности мобилизовывать обширные национальные ресурсы. Исчезли разговоры о единстве коронованных глав государств или о гармонии среди древних стран Европы. Под властью бисмарковской «Realpolitik» внешнеполитическая деятельность превратилась в силовые состязания.
Достижения Бисмарка были столь же неожиданны, как и его личность. Человек «крови и железа» писал прозу исключительной простоты и изящества, любил поэзию и цитировал в своем дневнике целые страницы из Байрона. Государственный деятель, придерживавшийся принципов «Realpolitik», обладал исключительным чувством меры, обращавшим силу в инструмент самоограничения.
Что такое революционер? Если бы этот вопрос допускал недвусмысленный ответ, немногие революционеры сумели бы преуспеть. Ибо революционеры почти всегда имеют своей отправной точкой недостаток силы. Они добиваются успеха потому, что существующий порядок не в состоянии отдать себе отчет в собственной уязвимости. Это особенно верно, когда революционный вызов проявляется не в виде похода на Бастилию, а облачается в консервативные одежды. Немногие институты способны защититься против тех, кто подает надежды, будто вознамерился их защитить.
Так обстояло дело с Отто фон Бисмарком. Жизнь его началась в годы расцвета меттерниховской системы, в мире, состоявшем из трех главнейших элементов: европейского равновесия сил; внутригерманского равновесия между Австрией и Пруссией; а также системы союзов, основывающихся на единстве консервативных ценностей. В течение поколения после венского урегулирования уровень международной напряженности оставался низким, потому что все основные государства не желали ставить на карту взаимное выживание и потому что так называемые «восточные дворы» Пруссии, Австрии и России обладали единой системой ценностей.
Бисмарк бросил вызов каждому из этих положений[142]. Он был убежден в том, что Пруссия стала самым сильным германским государством и не нуждается в Священном союзе для поддержания связи с Россией. С его точки зрения, соответствующая связь может быть обеспечена общностью национальных интересов, а прусская «Realpolitik» вполне способна заменить собой концепцию консервативного единства. Бисмарк считал Австрию противником общегерманской миссии Пруссии, а не партнером. Вопреки взглядам почти всех своих современников, за исключением, пожалуй, пьемонтского премьер-министра Кавура, Бисмарк трактовал лихорадочную дипломатию Наполеона как стратегическое благо, а не как угрозу.
В 1850 году Бисмарк выступил с речью, в которой нападал на ставшее общим местом рассуждение о том, что будто бы германское единство требует предварительного установления парламентских институтов. Его консервативные сторонники вначале даже не сообразили: то, что они слышат, в первую очередь является ударом по консервативным основам системы Меттерниха. Он заявил:
«Честь Пруссии заключается вовсе не в том, чтобы мы разыгрывали по всей Германии роль Дон-Кихота на благо рассерженных парламентских знаменитостей, считающих, что их местным конституциям угрожает опасность. Я же вижу честь Пруссии в том, чтобы Пруссия стояла в стороне от каких бы то ни было унижающих ее связей с демократией и никогда бы не позволяла того, чтобы в Германии что бы то ни было случалось без соизволения Пруссии...»[143]
На первый взгляд нападки Бисмарка на либерализм представляли собой практическое применение философии Меттерниха. И все же имело место разительное различие в акцентах. Система Меттерниха основывалась на том тезисе, что будто бы Пруссия и Австрия имеют общие обязательства по сохранению консервативных институтов и нуждаются друг в друге, чтобы нанести поражение либерально-демократическим тенденциям. Бисмарк же подчеркивал, что Пруссия способна утверждать свои предпочтения в одностороннем порядке; что Пруссия может быть консервативной у себя дома, не привязывая себя в области, внешней политики ни к Австрии, ни к какому-либо иному консервативному государству; и что ей не нужны никакие союзы, чтобы справляться с внутренними неурядицами. В лице Бисмарка Габсбурги встретили тот же вызов, который олицетворялся Ришелье, — целью его политики являлась слава собственного государства, а не утверждение какой-либо системы ценностей. И точно так же, как это было при Ришелье, Габсбурги не знали, что при этом делать и даже как понимать суть подобной политики.
Но как же Пруссия могла проводить «Realpolitik», находясь в одиночестве посреди континента? Начиная с 1815 года ответом Пруссии служила приверженность Священному союзу практически любой ценой. Бисмарк, напротив, решился создавать союзы и завязывать отношения с кем угодно, чтобы Пруссия всегда оказывалась ближе к любой из соперничающих сторон, чем они сами — друг к другу. В таком случае позиция кажущейся изоляции позволяла Пруссии манипулировать обязательствами других держав и продавать свою поддержку тому, кто даст большую иену.
С точки зрения Бисмарка, Пруссии было выгодно осуществлять такого рода политику, потому что ее основные интересы лежали в области укреплений собственной позиции внутри Германии. Любая другая держава имела гораздо более сложные обязательственные связи: Великобритании приходилось заботиться не только о собственной империи, но и о всеобщем равновесии сил; Россия одновременно оказывала давление на Восточную Европу, Азию и Оттоманскую империю; у Франции была вновь обретенная империя, амбиции, связанные с Италией, да еще на плечах лежала авантюра в Мексике; а Австрия занималась Италией и Балканами да еще своей ведущей ролью в Германской конфедерации. А поскольку политика Пруссии столь явственно фокусировалась на Германии, у нее на деле не было крупных разногласий с прочими великими державами, за исключением Австрии, причем на данной стадии развития событий разногласия эти пока что находились лишь в голове у Бисмарка. Если воспользоваться современным термином, то «политика неприсоединения» была бы функциональным эквивалентом политики Бисмарка торговать сотрудничеством Пруссии на рынке, где, как он представлял себе, цену определял продавец:
«Нынешняя ситуация вынуждает нас не связывать себя обязательствами, опережая прочие державы. Мы не в состоянии формировать отношения великих держав друг с другом по собственной воле, но мы можем сохранять свободу действий, используя к собственной выгоде те отношения, которые уже сложились... Наши отношения с Австрией, Британией и Россией не несут в себе никаких препятствий для сближения с любой из этих держав. Лишь наши отношения с Францией требуют пристального внимания, так что мы должны особенно тщательно все продумать, — а уж тогда вступать в отношения с Францией так же легко, как и с другими державами...»[144]
Намек на возможность сближения с бонапартистской Францией нес в себе готовность отбросить в сторону вопросы идеологии — с тем чтобы дать Пруссии свободу вступления в союз с любой страной (независимо от ее внутреннего устройства), дабы добиться достижения собственных интересов. Политика Бисмарка означала возврат к принципам Ришелье, который, будучи католическим кардиналом, выступал против католика — императора Священной Римской империи, когда это диктовалось интересами Франции. Соответственно, Бисмарк, будучи консерватором по убеждениям, рвал со своими консервативными менторами, как только представлялось, что их легитимистские принципы связывают свободу действий Пруссии.
Эти скрытые разногласия стали явными, когда в 1856 году Бисмарк, будучи прусским послом в Германской конфедерации, обнародовал ту точку зрения, что Пруссии следует в большей степени идти навстречу Наполеону III. Ведь в глазах прусских консерваторов французский император являлся узурпатором прерогатив легитимного короля.
Упоминание Наполеона в качестве потенциального участника диалога с Пруссией было превыше понимания консервативного окружения Бисмарка, выдвинувшего его и лелеявшего его дипломатическую карьеру. Новую философию Бисмарка его первоначальные сторонники восприняли с возмущенным недоверием. Два столетия назад, когда Ришелье объявил, что его революционный для тех времен тезис высших интересов государства обладает правом верховенства над религией, недоверие было не меньшим. Испытал подобное уже в наше время и Ричард Никсон, когда объявил о введении политики разрядки по отношению к Советскому Союзу. Возвращаясь к Наполеону III, можно сказать, что само его имя олицетворяло угрозу нового раунда французского экспансионизма и, что еще хуже, символизировало подтверждение ненавистных принципов Французской революции.
Бисмарк не оспаривал консервативного анализа Наполеона, — точно так же, как и Никсон не бросал вызова консервативной интерпретации коммунистических мотивов. Бисмарк видел в беспокойном французском правителе, — как и Никсон в дряхлеющем советском руководстве (см. главу 28), — открывающиеся возможности наряду с явными опасностями. Бисмарк полагал, что Пруссия менее уязвима, чем Австрия, применительно и к французскому экспансионизму, и к распространению революции. Не разделял Бисмарк и общераспространенного мнения о Наполеоне, как о хитром и ловком политике, саркастически замечая, что способность восхищаться другими не принадлежит к числу ведущих черт его характера. Чем больше Австрия опасалась Наполеона, тем больше уступок она делала Пруссии и тем значительнее становилась дипломатическая гибкость последней.
Причины разрыва Бисмарка с прусскими консерваторами были, по существу, теми же самыми, что и у Ришелье во время споров с клерикальными критиками, однако существенная разница заключалась в том, что прусские консерваторы настаивали на универсальности политических, а не религиозных принципов. Бисмарк утверждал, что сама по себе власть создает легитимность; консерваторы же настаивали на том, что легитимность представляет собой ценность, не имеющую никакого отношения к силовым расчетам. Бисмарк верил в то, что правильная оценка силовых возможностей позволяет пользоваться на практике доктриной самоограничения; консерваторы же настоятельно утверждали, что лишь моральные принципы могут в конечном счете ограничивать силовые притязания.
Конфликт повлек за собой обмен полными горечи письмами в конце 50-х годов между Бисмарком и его старым наставником Леопольдом фон Герлахом, военным адъютантом прусского короля, которому Бисмарк был обязан всем: первым дипломатическим назначением, представлением ко двору, всей своей карьерой.
Переписка началась тогда, когда Бисмарк направил Герлаху рекомендации разработать для Пруссии возможности сближения с Францией в дипломатическом плане и приложил к ним сопроводительное письмо, где ставил полезность превыше идеологии:
«Я не могу уйти от математической логики факта, что нынешняя Австрия не может быть нашим другом. Пока Австрия не соглашается на отмену ограничений в отношении сфер влияния в Германии, мы должны предвидеть возможность возникновения с нею соперничества дипломатическими средствами и в мирное время, причем тогда надлежит использовать всяческую возможность, чтобы нанести ей мгновенный смертельный удар»[145].
Герлах, однако, никак не мог лично согласиться с тем положением, будто стратегическая выгода позволяет оправдать отказ от принципов, особенно когда речь идет об одном из Бонапартов. Он стал настаивать на лекарстве, изобретенном Меттернихом: как можно прочнее сплотить Пруссию, Австрию и Россию, реставрировать Священный союз и обеспечить изоляцию Франции[146]. Еще более недоступным разумению Герлаха оказалось предложение Бисмарка, сводившееся к тому, что следовало бы пригласить Наполеона на маневры прусских вооруженных сил, поскольку «это доказательство наличия добрых отношений с Францией... увеличит наше влияние во всех дипломатических сношениях»[147].
Сама мысль о возможном участии одного из Бонапартов в прусских маневрах вызвала настоящий взрыв негодования у Герлаха: «Как вы, умный человек, можете пожертвовать принципами ради такой личности, как Наполеон? Наполеон является нашим исконным врагом»[148]. Если бы Герлах увидел циничную бисмарковскую пометку на полях: «Ну и что?» — он, возможно, не затратил бы труда на изложение в последующем письме своих антиреволюционных жизненных убеждений принципиального характера, тех самых, что заставляли его поддерживать Священный союз и помогать Бисмарку на ранних стадиях его карьеры:
«Моим политическим принципом есть и пребудет война против революции. Вы не убедите Бонапарта, что он не находится на стороне революции. И он сам не встанет ни на одну другую сторону, поскольку совершенно явственно извлекает из этого выгоду... Так что, раз мой принцип противостояния революции верен... то им также следует пользоваться на практике»[149].
И все же Бисмарк расходился с Герлахом не в силу непонимания, как предполагал сам Герлах, а потому, что он понимал его слишком хорошо. «Realpolitik» для Бисмарка зависела от ее гибкости и способности воспользоваться любой предоставляющейся возможностью без оглядки на идеологию. Так же, как поступали защитники Ришелье, Бисмарк перевел спор в плоскость того самого единого принципа, который они с Герлахом разделяли целиком и полностью и который поставил бы Герлаха в явно невыгодное положение: принципа всеподавляющей важности прусского патриотизма. Настоятельные требования Герлаха блюсти единство консервативных интересов, по мнению Бисмарка, были несовместимы с его патриотической лояльностью:
«Франция интересует нас лишь постольку, поскольку это влияет на положение моей страны, и мы можем вести внешнюю политику только с той Францией, какая существует на самом деле... Как романтик, я могу пролить слезу по поводу судьбы Генриха V (претендента на престол из династии Бурбонов); как дипломат, я был бы его покорным слугой, если бы был французом, но, судя по нынешнему положению вещей, Франция, независимо от того, кто стоит у нее во главе в силу случая, является для меня обязательной для игры пешкой на шахматной доске дипломатии, а у меня нет другого долга, как служить моему королю и моей стране [выделено Бисмарком]. И я не могу подменить личными симпатиями и антипатиями к иностранным державам чувство долга при проведении внешней политики; более того, я вижу в них зародыш нелояльности к Суверену и стране, которым я служу»[150]
Как должен был пруссак-традиционалист ответить на тезис о превосходстве прусского патриотизма над принципом легитимности и на то предположение, что в силу обстоятельств вера целого поколения в единство консервативных интересов может граничить с нелояльностью? Бисмарк откровенно отрезал все пути интеллектуального отступления, заранее отвергая возможную аргументацию Герлаха в том плане, будто легитимизм уже сам по себе является национальным интересом Пруссии, а потому Наполеон есть вечный враг Пруссии: «...Я мог бы это опровергнуть — но, даже если бы вы были правы, я бы не считал политически мудрым позволять другим государствам знать о наших опасениях в мирное время. До того момента, когда случится предсказываемый вами разрыв, я считал бы полезным подкреплять веру в то... что напряженные отношения с Францией не являются органическим дефектом нашей натуры...»[151]
Иными словами, для проведения «Realpolitik» требовалась тактическая гибкость, а прусские национальные интересы требовали держать открытой возможность заключения сделки с Францией. Сила позиции страны на переговорах зависит от числа возможностей, которым она в состоянии следовать. Снижение их облегчает расчеты противоположной стороны и связывает руки тем, кто воплощает «Realpolitik» на практике.
Разрыв между Герлахом и Бисмарком стал окончательным в 1860 году по поводу отношения Пруссии к войне между Францией и Австрией из-за Италии. По Герлаху, эта война рассеяла все и всяческие сомнения в том, что истинной целью Наполеона является подготовка плацдарма агрессии в стиле первого из Бонапартов. Поэтому Герлах настаивал на том, что Пруссия должна поддержать Австрию. Бисмарк же видел в этом открывающуюся возможность того, что если Австрия будет вынуждена уйти из Италии, это может послужить предвестником ее последующего ухода и из Германии. Для Бисмарка убеждения меттерниховского поколения превращались в опасный набор предрассудков:
«Я выстою или паду вместе со своим Сувереном, даже если, по моему личному мнению, он будет по-глупому себя губить; но для меня Франция останется Францией, независимо от того, будет ли ею руководить Наполеон или Людовик Святой, Австрия же для меня всего лишь иностранная держава... Я знаю, что вы мне на это ответите, что факт и право неразделимы, что правильно продуманная прусская политика требует чистоты во внешнеполитических отношениях даже в ущерб полезности. Я готов обсуждать с вами проблему полезности; но коль скоро вы выдвигаете антиномии типа „право и революция", „христианство и неверие", „Бог и дьявол", для меня спорить далее становится невозможным, и мне остается только сказать: „Я не разделяю вашего мнения, а вы судите меня за то, что во мне не ваше и вызывает ваше осуждение"»[152].
Эта горькая декларация принципов веры явилась функциональным эквивалентом утверждения Ришелье относительно того, что, коль скоро душа бессмертна, человек должен подчиниться суждению о нем Господа, но поскольку государства смертны, они могут быть судимы лишь по их трудам. Как и Ришелье, Бисмарк вовсе не отвергал моральные воззрения Герлаха в плане личных убеждений и верований — вероятно, он сам разделял многие из них; но он отрицал наличие связи между ними и долгом государственного деятеля, проводя грань между личными убеждениями и «Realpolitik»:
«Я не искал королевской службы... Господь, который неожиданно меня туда направил, возможно, скорее укажет мне выход оттуда, чем позволит моей душе погибнуть. Я бы придавал чересчур большое значение ценности нынешней жизни... если бы не был убежден в том, что через тридцать лет для меня будет не важно, каких политических успехов в Европе добились я или моя страна. Мне даже по временам приходит в голову мысль, что может настать день, когда в Бранденбургской марке [сердцевине Пруссии] будут править „неверующие иезуиты", прибегая к бонапартистскому абсолютизму... Я дитя иного времени, чем вы, но являюсь столь же честным приверженцем своего, как и вы — своего»[153].
Это сверхъестественное провидение судьбы Пруссии через столетие так и не удостоилось ответа от человека, которому Бисмарк обязан своей карьерой.
Бисмарк действительно был порождением иной эпохи, чем его первый наставник. Бисмарк принадлежал эре «реальной политики»; Герлах же сформировался во времена Меттерниха. Система Меттерниха отражала концепцию XVIII века, когда вселенная представлялась огромным часовым механизмом с идеально подогнанными друг к другу деталями, так, что порча одной распространялась и на все прочие. Бисмарк же, будучи представителем новой науки и политики, воспринимал вселенную не как некую общность, находящуюся в механическом равновесии, но в ее современной версии: как состоящую из частиц, находящихся в непрерывном движении и воздействии друг на друга, что и создаёт для нас реальность. А любимым его философско-биологическим учением была дарвиновская теория эволюции, основывающаяся на принципе выживания наиболее приспособленных.
Находясь под воздействием подобных убеждений, Бисмарк провозглашал относительность всех верований, включая сюда даже веру в незыблемость существования своей собственной страны. В мире «реальной политики» долгом государственного деятеля было произвести оценку решающих идей как сил, находящихся во взаимосвязи с другими силами; и различные составляющие должны были оцениваться с точки зрения пригодности их для обслуживания национальных интересов, а не в предвзято-идеологическом плане.
И все же, какой бы черствой и бездушной ни казалась бисмарковская философия, она была построена на принятом на веру положении, столь же недоказуемом, как и тезисы Герлаха, — а именно на том, что будто бы тщательный анализ данного набора обстоятельств обязательно приведет всех без исключения государственных деятелей к одним и тем же выводам. Так же как Герлах считал невероятным предположение, будто бы принцип легитимности может иметь более чем одно толкование, за пределами бисмарковского понимания оставалось то, что различные государственные деятели могут по-разному оценивать национальные интересы. Сам Бисмарк мастерски схватывал нюансы в расстановке сил и их распределении, он был в состоянии всю свою жизнь подменять философские самоограничения меттерниховской системы самоограничением политическим. Но эти нюансы были не столь самоочевидны для преемников и имитаторов Бисмарка, и потому буквальное следование принципам «реальной политики» приводило их к исключительной зависимости от военной силы, а оттуда шла прямая дорога к гонке вооружений и двум мировым войнам.
Успех часто бывает столь неуловим и зыбок, что государственные деятели, гоняющиеся за ним, редко задумываются над тем, что он может потребовать от них соответствующей мзды. Так, в самом начале карьеры Бисмарк был в основном занят тем, что путем применения принципов «реальной политики» разрушал мир, где в значительной степени господствовали концепции Меттерниха. Для этого требовалось искоренить в Пруссии веру в идею, будто бы австрийское лидерство в Германии жизненно важно для безопасности Пруссии и для сбережения консервативных ценностей. Как бы это ни было верно во времена Венского конгресса, уже в середине XIX века Пруссии не требовался союз с Австрией для сохранения внутренней стабильности и спокойствия в Европе. Напротив, как полагал Бисмарк, иллюзия необходимости альянса с Австрией помешала Пруссии достичь своей заветной цели самой объединить Германию.
Как это представлял себе Бисмарк, прусская история изобиловала свидетельствами того, что претензии этой страны на господствующее положение внутри Германии обоснованы и что Пруссия в состоянии пребывать в одиночестве. Ибо Пруссия не была просто одним из германских государств. Независимо от консервативной внутренней политики не мог потускнеть глянец национальной гордости, приобретенный благодаря исключительным жертвам, понесенным в войнах за освобождение от Наполеона. Дело даже обстояло так, что сами очертания прусских территорий — серии странной формы анклавов, простирающихся по северогерманской равнине от Вислы до земель к западу от Рейна, — как бы предопределяли ее руководящую роль в стремлении обеспечить германское единство, даже в глазах либералов.
Но Бисмарк пошел еще дальше. Он бросил вызов сложившемуся мнению, отождествлявшему национализм с либерализмом, или, по крайней мере, с предположением, будто бы германское единство может быть обеспечено только посредством распространения либеральных институтов:
«Пруссия стала великой не благодаря либерализму и вольнодумству, но посредством деятельности ряда могущественных, решительных и мудрых правителей, которые аккуратно собирали военные и финансовые ресурсы государства и держали их в руках, с тем чтобы бросить их с беспощадной смелостью на чашу весов европейской политики, как только для этого представлялась благоприятная возможность...»[154]
Бисмарк полагался не на консервативные принципы, но на уникальный характер прусских институтов; он считал основой претензий Пруссии на руководство Германией ее собственную мощь, а не универсальные ценности. С точки зрения Бисмарка, прусские институты были до такой степени устойчивы к посторонним влияниям, что Пруссия могла пользоваться демократическими устремлениями своего времени, как инструментами внешней политики. В частности, угрозами допустить внутри страны большую свободу самовыражения — при этом не играло роли, что ни один прусский король не делал этого в течение четырех десятилетий, если вообще когда-либо делал:
«Чувство безопасности оттого, что король всегда остается хозяином своей страны, даже если вся армия находится за рубежом, существует только в Пруссии и не разделяется ею ни с одной из континентальных держав, а особенно ни с одним из германских государств. Оно обеспечивает возможность развития общественной деятельности, в гораздо большей степени соответствующее современным требованиям... Королевский авторитет в Пруссии настолько прочен, что правительство может без всякого риска поощрять гораздо более активную парламентскую деятельность и, следовательно, оказывать давление на условия, существующие в Германии»[155].
Бисмарк отвергал точку зрения Меттерниха, гласившую, что общность ощущения внутренней уязвимости требует теснейшего сотрудничества трех «восточных дворов». Дело обстояло как раз наоборот. Поскольку Пруссии домашние неурядицы не угрожали, то сама ее связь с этими государствами служила орудием подрыва венских установлений, ибо она могла угрожать другим странам, особенно Австрии, действиями, способными вызвать у нее внутренние волнения. Бисмарк полагал, что именно мощь прусских правительственных, военных и финансовых институтов открывала путь к прусскому преобладанию в Германии.
Когда Бисмарк был назначен послом на Ассамблею конфедерации в 1852 году и послом в Санкт-Петербург в 1858 году, он получил возможность пропагандировать собственную политику. Его отчеты, написанные блестящим языком и замечательно емкие, настаивали на проведении такой внешней политики, которая бы не основывалась ни на сантиментах, ни на легитимности, но на правильном расчете сил. Бисмарк вернулся к традиции таких правителей восемнадцатого столетия, как Фридрих Великий и Людовик XIV. Увеличение влияния своего государства становится основной, если не единственной, целью, достижение которой ограничивалось лишь сплотившимися против нее силами:
«...Сентиментальная политика не знает взаимности. Это чисто прусская черта»[156].
«...Ради всего святого, не надо никаких сентиментальных альянсов, где осознание того, что ты сделал доброе дело, является единственным воздаянием за наши жертвы»[157].
«...Политика есть искусство возможного, наука об относительном»[158].
«Даже король не имеет права подчинять интересы государства личным симпатиям и антипатиям»[159].
Согласно оценкам Бисмарка, внешняя политика имеет под собой почти что научное обоснование позволяющее анализировать национальные интересы с помощью объективных критериев. В результате подобных расчетов Австрия фигурировала как просто иноземная, а не братская держава и, кроме всего прочего, мешающая Пруссии занять принадлежащее ей по праву место в Германии: «Плацдармом нашей политики является лишь Германия, и это именно то место, которое Австрия настоятельнейшим образом полагает исключительно своим собственным... Мы лишаем друг друга воздуха, которым дышим... Это факт, который не может быть проигнорирован, каким бы нежелательным он ни выглядел»[160].
Первый прусский король, которому Бисмарк служил в качестве посла, Фридрих-Вильгельм IV, разрывался между герлаховским легитимным консерватизмом и возможностями, предоставляемыми бисмарковской «реальной политикой». Бисмарк настаивал на том, что личное уважительное отношение короля к традиционно преобладающему в Германии государству не должно препятствовать прусской политике. Поскольку Австрия никогда бы не признала прусской гегемонии в Германии, стратегией Бисмарка стало ослабление Австрии при любой возможности. В 1854 году во время Крымской войны Бисмарк утверждал, что Пруссии следует воспользоваться разрывом Австрии с Россией и нанести удар по Австрии лишь на том основании, что ситуация этому благоприятствует:
«Если нам удастся довести Вену до такого состояния, когда она уже не будет считать удар Пруссии по Австрии делом невозможным, то мы вскоре услышим оттуда более разумные речи...»[161]
В 1859 году во время войны Австрии с Францией и Пьемонтом Бисмарк возвращается к той же теме:
«Нынешняя ситуация вновь предлагает нам огромную выгоду, ибо если мы предоставим войне между Австрией и Францией разыграться во всю мощь, то сможем двинуть нашу армию на юг, положив в ранцы пограничные столбы, чтобы воткнуть их в землю только тогда, когда мы дойдем до Констанцского озера или, по крайней мере, до тех пределов, где протестантская конфессия перестает быть преобладающей»[162].
Меттерних счел бы это ересью, но Фридрих Великий зааплодировал бы умелому ученику, применившему его собственное рациональное обоснование захвата Силезии.
Бисмарк подвергал европейское равновесие сил такому же хладнокровно-релятивистскому анализу, как и внутригерманскую ситуацию. В разгар Крымской войны Бисмарк следующим образом обрисовал основные возможности, открывающиеся перед Пруссией:
«В нашем распоряжении имеются три угрозы: (1) Альянс с Россией; и бессмысленно клясться на каждом шагу, что мы никогда не пойдем вместе с Россией. Даже если это правда, необходимо сохранить за собой возможность использовать это как угрозу. (2) Политика, при которой мы бросаемся в объятия Австрии ради получения компенсации за счет вероломной [Германской] конфедерации. (3) Сдвиг кабинета влево, в результате чего мы станем вскоре такими «западниками», что полностью перехитрим Австрию»[163].
Итак, в одной и той же депеще перечисляются в равной степени пригодные, по мнению Бисмарка, возможности для Пруссии: альянс с Россией против Франции (предположительно на базе общности консервативных интересов); договоренность с Австрией, направленная против второразрядных германских государств; и сдвиг во внутренней политике в сторону либерализма, направленный против Австрии и России (предположительно с включением в комбинацию Франции). Как и Ришелье, Бисмарк ничем себя не связывал в выборе партнеров, будучи готовым вступить в союз и с Россией, и с Австрией, и с Францией; выбор зависел целиком и полностью от того, что лучше послужит прусским национальным интересам. Убежденный противник Австрии, Бисмарк был готов воспользоваться договоренностью с Веной ради соответствующей компенсации в Германии. И хотя во внутренних делах он был архиконсервативен, он все равно не видел никаких препятствий к тому, чтобы сдвинуть прусскую внутреннюю политику влево, коль скоро это послужит целям внешней политики. Ибо внутренние дела тоже были инструментом «реальной политики».
Попытки нарушить равновесие сил, конечно, предпринимались даже в золотые дни меттерниховской системы. Но тогда предпринимались все усилия, чтобы легитимизировать перемены посредством европейского консенсуса. Система Меттерниха склонялась скорее к поправкам в рамках европейских конгрессов, чем к внешней политике угроз и контругроз. Бисмарк до последнего отрицал бы моральную эффективность консенсуса, если бы не видел в нем лишь один из элементов политики среди множества других. Стабильность международного порядка зависела как раз от этого нюанса. Оказывать нажим ради перемен, не вознося при этом хвалу существующим договорным отношениям, общности ценностей или «европейскому концерту», означало произвести дипломатическую революцию. Со временем превращение могущества в единственный критерий станет побудительным мотивом для всех наций вести гонку вооружений и политику конфронтации.
Точка зрения Бисмарка оставалась сугубо академической, пока ключевой элемент венского урегулирования — единение консервативных дворов Пруссии, Австрии и России — оставался в нетронутом виде и пока сама Пруссия не рисковала разрушить это единение. Священный союз развалился неожиданно и весьма быстро после Крымской войны, когда Австрия, выйдя из глубочайшей анонимности, при помощи которой Меттерних спасал от кризисов свою шаткую империю, объединилась после множества колебаний с противниками России. Бисмарк тотчас же понял, что Крымская война произвела дипломатическую революцию. «День сведения счетов, — говорил он, — обязательно настанет, даже если пройдет несколько лет»[164].
Не исключено, что наиболее важным документом, относящимся к Крымской войне, является депеша Бисмарка, анализирующая ситуацию по окончании войны в 1856 году. Характерно то, что в этой депеще отражается совершеннейшая гибкость дипломатического метода и полное отсутствие моральных ограничений. Германская историография нашла для бисмарковской депеши подходящее имя: «Prachtbericht», или «образцовая депеша». В ней сведены воедино существенные принципы «реальной политики», хотя они и оказались чересчур смелыми для ее адресата, прусского премьер-министра Отто фон Мантойфеля, о чем свидетельствуют его замечания на полях.
Бисмарк начинает с описания исключительно благоприятной позиции, в которой оказался Наполеон по окончании Крымской войны. Теперь, отмечает он, все государства Европы будут стремиться к дружбе с Францией, но наибольшие шансы на успех имеются у России.
«Союз между Францией и Россией настолько естествен, что его не следует допускать... До настоящего времени прочность Священного союза... разводила оба эти государства врозь, но со смертью царя Николая и развала Священного союза Австрией ничто не мешает нормальному сближению этих государств в отсутствие конфликтных интересов»[165].
Бисмарк предсказывал, что Австрия, угодив в ловушку, уже не сможет из нее выбраться, даже уговорив царя принять участие в Парижском конгрессе. Ибо для того, чтобы сохранить поддержку армии, Наполеону потребуется «изыскать не слишком спорный или несправедливый предлог для интервенции, что даст ему возможность ввести вооруженные силы в действие. Италия идеально подходит для этой роли. Амбиции Сардинии, память о Бонапарте и Мюрате обеспечат достаточные обоснования, а ненависть к Австрии вымостит путь»[166]. Именно так и произошло три года спустя.
Как следует Пруссии вести себя в свете неизбежного франко-русского сотрудничества и при наличии намека на возможность франко-австрийского конфликта? Согласно системе Меттерниха, Пруссия должна была бы теснее сплотиться с консервативной Австрией, укрепить Германскую конфедерацию, установить тесные связи с Великобританией и попытаться оттянуть Россию от Наполеона.
Бисмарк по очереди опровергает каждое из этих предположений. Сухопутные силы Великобритании слишком незначительны, чтобы использовать их против франко-русского альянса. В итоге бремя борьбы будет возложено на Австрию и Пруссию. Да и Германская конфедерация не является дополнительной реальной силой:
«При помощи России, Пруссии и Австрии Германская конфедерация, возможно, и сохранится, поскольку будет верить в победу даже без посторонней поддержки; но в случае войны на два фронта: западный и восточный — те государи, которые не находятся под контролем наших штыков, попытаются спасти себя, объявив нейтралитет, если только не выступят на поле боя против нас...» [167]
Хотя в течение более чем одного поколения Австрия была основным союзником Пруссии, теперь в глазах Бисмарка она представлялась довольно ненадежным партнером. Она стала основным препятствием росту Пруссии: «Германия слишком мала для нас двоих... и пока мы распахиваем одно и то же поле, Австрия является единственным государством, за счет которого мы можем постоянно получать выгоду, а также в пользу которого мы можем нести постоянные убытки»[168].
Какой бы аспект международных отношений ни рассматривался, Бисмарк заключал его аргументом в пользу разрыва Пруссией конфедератских отношений с Австрией и отказа от политики времен Меттерниха, дабы при первой же возможности ослаблять своего прежнего союзника: «Когда Австрия направит лошадь вперед, мы будем тянуть ее назад»[169].
Проклятием любой стабильной международной системы является почти полная ее неспособность противостоять смертельному вызову. Уязвимым местом революционеров является их убежденность в том, что они смогут свести воедино все преимущества, полученные от достижения собственных целей, и все лучшее от того, что они ниспровергают. Но силы, выпущенные на свободу революцией, получают собственное ускорение, и направление их движения не обязательно может быть выведено из заявлений ее сторонников и пропагандистов.
Так было и с Бисмарком. В течение пяти лет с момента прихода к власти в 1862 году он устранил Австрию как препятствие к объединению Германии, воспользовавшись собственным советом десятилетней давности. Посредством трех войн, уже описанных в этой главе, он вывел Австрию из Германии и разрушил витавшие в воздухе Франции иллюзии в стиле Ришелье.
Новая объединенная Германия не стала воплощением идеалов тех поколений немцев, которые лелеяли мечты о построении конституционного, демократического государства. На самом деле оно не отразило ни единого из важнейших направлений предшествующей германской мысли, появившись на свет в качестве дипломатического объединения германских монархов, а не в качестве выражения народной воли. Его легитимность покоилась на власти Пруссии, а не на принципах национального самоопределения. Хотя Бисмарк достиг того, что запланировал совершить, сама грандиозность триумфа отрицательно повлияла на будущее Германии и, само собой, на европейский международный порядок. Строго говоря, Бисмарк столь же умеренно относился к итогам войны, сколь безжалостно эти войны развязывал. Как только Германия обрела границы, жизненно важные по его мнению для ее безопасности, он стал вести благоразумную и стабильную внешнюю политику. В течение двух десятилетий Бисмарк манипулировал европейскими обязательствами и интересами в мастерской манере на основе принципов «реальной политики» и на благо европейского мира.
Но, будучи раз вызваны к жизни, духи силы не могут быть изгнаны путем заклинаний, как бы картинно и сдержанно эти заклинания ни совершались. Германия была объединена в результате дипломатической деятельности, первоосновой которой являлась исключительная приспособляемость к обстоятельствам; и все же сам факт успеха подобной политики изгнал всю и всяческую гибкость из системы международных отношений. Участников ее стало меньше. А когда число игроков уменьшается, сокращается возможность делать замену. Новая система международных отношений стала включать в себя меньшее количество компонентов, но зато каждый из них оказали более весомым, и это сделало затруднительным обсуждение общеприемлемого равновесия сил или поддержание его без постоянных силовых испытаний.
Эти проблемы структурного характера стали еще ощутимее в свете масштабов победы Пруссии в франко-прусской войне и сущности завершившего ее мира. Германская аннексия Эльзаса и Лотарингии вызвала неугасимый антагонизм во Франции, что исключило какие бы то ни было дипломатические возможности для Германии в отношении Франции.
В 50-е годы Бисмарк считал возможности установления тесных отношений с Францией до такой степени важными, что пожертвовал дружбой с Герлахом ради их утверждения. После аннексии Эльзас-Лотарингии неприязнь к Франции стала «органическим дефектом нашей натуры», против чего так настоятельно предостерегал Бисмарк. И это стало мешать осуществлению политики, описанной в «образцовой депеще»: оставаться в стороне, пока другие страны не свяжут себя обязательствами, а потом продать поддержку Пруссии самому щедрому покупателю.
Германская конфедерация смогла выступать как единое целое только перед лицом угрозы столь всеобъемлющего характера, что соперничество между отдельными государствами отходило на второй план; а совместная наступательная акция была структурно невозможна. Зыбкость такого рода организации явилась на деле одной из причин, по которой Бисмарк настаивал на объединении Германии под прусским руководством. Но и он заплатил свою цену за новую организацию государства. Коль скоро Германия превратилась из потенциальной жертвы агрессии в угрозу европейскому равновесию, отдаленная проблематичность объединения прочих государств Европы против Германии стала реально возможной. И этот кошмар стал, в свою очередь, направлять германскую политику, так что вскоре Европа оказалась расколота на два враждебных лагеря.
Европейским государственным деятелем, который быстрее всех уяснил сущность влияния объединенной Германии на мировые события, оказался Бенджамен Дизраэли, который вот-вот должен был стать британским премьер-министром. В 1871 году он сказал следующее по поводу франко-прусской войны:
«Эта война является по существу германской революцией, более великим политическим событием, чем Французская революция прошлого столетия... Не осталось ни одной дипломатической традиции, которая не была бы сметена. У вас теперь имеется новый мир... Равновесие сил разрушено целиком и полностью»[170].
Пока Бисмарк находился у руля, эти дилеммы оставались в тени его ветвисто-изощренной дипломатии. И все же в долгосрочном плане само богатое многообразие предпринятых Бисмарком мер обрекло их на неудачу. Дизраэли оказался абсолютно прав. Бисмарк перекроит карту Европы и изменил модель международных отношений, но в итоге не оставил плана, которому могли бы следовать его преемники. Как только стерлась новизна бисмарковской тактики, его последователи и соперники стали искать спасения от нежелательных и неожиданных дипломатических нюансов в умножении арсеналов. Неспособность «Железного канцлера» институционализировать собственную политику вынуждала Германию погрузиться в тяготы дипломатических будней, от чего она могла избавиться, лишь начав гонку вооружений, а затем перейдя к войне.
И во внутренней политике Бисмарк не оставил своим преемникам путеводной нити. Бисмарк, человек, при жизни пребывавший в одиночестве, был еще менее понят после ухода со сцены, когда стал легендой. Его соотечественники помнили о трех войнах, обеспечивших объединение Германии, но позабыли о труднейших подготовительных маневрах, сделавших эти войны возможными, и умеренности, с которой он воспользовался их плодами. Они видели проявления силы, но не смогли проникнуть в глубинный анализ, на котором сила «Железного канцлера» и покоилась.
Конституция, написанная Бисмарком для Германии, впрочем, могла бы кое-что им подсказать. Хотя парламент [рейхстаг] базировался на первом принятом в Европе всеобщем избирательном праве для мужчин, он не контролировал правительство, назначаемое императором и смещаемое только им. Канцлер стоял ближе как к императору, так и к рейхстагу, чем они друг к другу. И потому в определенных пределах Бисмарк мог играть внутригерманскими институтами, как он это делал с иностранными государствами, осуществляя внешнюю политику. Никто из преемников Бисмарка не обладал для этого ни умением, ни решимостью. Результат был таков: национализм, не руководимый демократией, перерождался в шовинизм, а демократия, лишенная ответственности, становилась бесплодной. Суть жизни Бисмарка лучше всего выражена самим «Железным канцлером» в письме, которое он написал своей будущей жене:
«То, что производит наибольшее впечатление на земле... всегда обладает какими-то качествами падшего ангела, — он красив, но не знает покоя, велик в своих замыслах и трудах, но безуспещен, горделив и одинок»[171].
Оба революционера, стоявшие у колыбели современной системы европейских государств, как бы предвосхитили множество дилемм нынешнего периода. Наполеон, революционер поневоле, олицетворял тенденцию приспособления политики к общественному мнению. Бисмарк, революционер-консерватор, в выборе политики руководствовался глубоким анализом расстановки сил, и только этим.
Наполеон обладал революционными идеями, но отступал прежде, чем ему удавалось воплотить их на практике. Посвятив юность тому, что мы в XX веке называем протестом, он никогда не мог перебросить мост через пропасть, разделяющую мечту и реальность. Не будучи уверен в собственных целях и в собственной легитимности, он полагался на общественное мнение, дабы именно оно наводило мосты. Наполеон проводил внешнюю политику в стиле современных политических лидеров, для которых мерило успеха — частота упоминания о них в вечерних телевизионных новостях. Подобно им, Наполеон превратил себя в пленника чисто тактических, краткосрочных задач и сиюминутных результатов, стараясь произвести впечатление на публику путем преувеличения усилий, затраченных им для достижения цели. И по ходу дела он путал внешнюю политику с пассами иллюзиониста. Ибо в конечном счете реальные достижения, а не популярность, определяют, действительно ли этот лидер внес что-то новое.
В долгосрочном плане публика не уважает лидеров, любующихся собственной неуверенностью или видящих лишь симптомы кризисов вместо долгосрочных тенденций. Роль лидера заключается в том, чтобы принять на себя бремя действия а для этого необходим дар предвидения и способность влиять на ход событий. В противном случае кризисы будут умножаться, а это обозначает одно - лидер утерял контроль над происходящим. Наполеон оказался предтечей странного современного феномена: политической фигуры, страстно желающей определить, чего именно хочет публика, но в итоге отвергнутой и даже презираемой ею.
Бисмарку всегда хватало уверенности действовать на основании собственных суждений. Он блестяще анализировал реальную подоплеку событий и возможности Пруссии и был таким великолепным строителем, что Германия, созданная им, пережила все — поражения в двух мировых войнах, две иностранные оккупации и долгое пребывание в нетях в качестве разделенной страны. Поражение же Бисмарк потерпел в том, что обрек свое общество на ведение политики такого стиля, который по плечу лишь великому человеку, рождающемуся раз в столетие. Он намного опередил свое время. Из семян, посеянных Бисмарком, взошли не только достижения его страны, но и ее трагедии XX века. «Никто не может безнаказанно вкушать плоды древа бессмертия»[172], — писал о Бисмарке его друг фон Роон.
Трагедия Наполеона заключалась в том, что его амбиции превосходили его возможности. Трагедия Бисмарка — в том, что его гений оказался гигантом среди карликов. Наполеон оставил в наследство Франции стратегический паралич; Бисмарк оставил в наследство Германии величие, которое страна неспособна была обратить себе на благо.
ГЛАВА ШЕСТАЯ. «Realpolitik» оборачивается против самой себя
«Realpolitik» — внешнеполитическая деятельность, основывающаяся на расчетах соотношения сил и концепции национальных интересов, — привела к объединению Германии. А объединение Германии заставило «Realpolitik» обернуться против самой себя, привести к свершениям, противоположным тем, ради которых она замышлялась. Ибо практика следования «Realpolitik» исключает гонку вооружений и войну только в том случае, если основные участники международной системы свободны в формировании собственных отношений, с учетом меняющихся обстоятельств, или сдерживают себя во имя общности ценностей, или и то и другое одновременно.
После объединения Германия становится самой сильной державой на континенте и набирает мощь с каждым десятилетием, тем самым революционизируя европейскую дипломатию. С момента возникновения современной системы государств во времена Ришелье державы по краям Европы: Великобритания, Франция и Россия — оказывали давление на центр. Теперь впервые центр Европы получает возможность оказывать давление на периферию. Как будет справляться Европа с новым гигантом посередине?
География создала неразрешимую дилемму. В соответствии со всеми традициями «Realpolitik», скорее всего должны были бы возникнуть европейские коалиции, готовые сдерживать растущие, потенциально преобладающие силы Германии. Находясь в центре континента, та ощущала себя в постоянной опасности того, что Бисмарк называл «le cauchemar des coalitions» — кошмаром враждебных, опоясывающих со всех сторон коалиций. Но если бы Германия попыталась защитить себя против коалиции соседей с запада и востока одновременно, она обязательно угрожала бы им каждому по отдельности, что лишь ускорило бы формирование этих коалиций. Самооправдываюшиеся пророчества стали частью международной системы. То, что все еще называлось «европейским концертом», превратилось в сплошной диссонанс: увеличивалась неприязнь между Францией и Германией, росла враждебность между Австро-Венгерской и Российской империями.
Что касается Франции и Германии, то масштабы победы Пруссии в 1870 году породили у французов постоянное желание реванша, а германская аннексия Эльзас-Лотарингии дала конкретную точку приложения негодования. Негодование вскоре стало смешиваться со страхом, ибо французские лидеры начали осознавать, что война 1870 — 1871 годов обозначила конец эпохи французского преобладания и бесповоротную перемену в расстановке сил. Система Ришелье, заключавшаяся в натравливании в раздробленной Центральной Европе различных немецких государств друг на друга, стала неприменимой. Разрываемая между воспоминаниями и амбициями, Франция сосредоточила свои обиды на протяжении целых пятидесяти лет на односторонних целенаправленных попытках возврата Эльзас-Лотарингии, так и не поняв, что успех в этом направлении может лишь удовлетворить французскую гордость, но не изменит основополагающей стратегической реальности. Франция сама по себе уже больше не была достаточно сильна, чтобы сдерживать Германию; оттого теперь, чтобы защитить себя, ей всегда требуются союзники. Исходя из этого же принципа, Франция с готовностью предлагала себя в союзники любому потенциальному противнику Германии, тем самым ограничивая гибкость германской дипломатии и вызывая эскалацию любых кризисов, вовлекающих в себя страну-соперницу.
Второй европейский раскол — между Австро-Венгерской империей и Россией — также явился результатом объединения Германии. Став министр-президентом в 1862 году, Бисмарк попросил австрийского посла передать своему императору неожиданное предложение, чтобы Австрия, основная территория старинной Священной Римской империи, перенесла центр тяжести с Вены на Будапешт. Посол счел эту идею до такой степени несообразной, что в докладе, направленном в Вену, приписал ее воображаемому нервному истощению Бисмарка. И все же, потерпев поражение в борьбе за преобладание в Германии, Австрия вынуждена была последовать совету Бисмарка. Будапешт стал равным, а по временам и ведущим партнером в новообразованной дуалистической монархии.
После удаления из Германии новой Австро-Венгерской империи единственным направлением для экспансии оставались Балканы. Поскольку Австрия не принимала участия в заморской колонизации, ее лидеры пришли к заключению, что Балканы, населенные славянскими народами, являются естественной сценой для проявления политических амбиций — пусть даже только для того, чтобы не отставать от других великих держав. Подобная политика уже сама по себе таила в себе конфликт с Россией.
Здравый смысл должен был предупредить австрийских лидеров об опасности провоцирования национализма на Балканах или превращения России в вечного врага. Но Вена здравым смыслом не изобиловала, а еще меньше его было в Будапеште. Преобладал национализм джингоистского толка. Венский кабинет продолжал застойный курс во внутренней политике и припадочно-истерический во внешней, что еще со времен Меттерниха вело страну к постепенной изоляции.
У Германии национальных интересов на Балканах не было. Но она в высшей степени проявляла заинтересованность в сохранении Австро-Венгерской империи. Ибо коллапс дуалистической монархии таил в себе риск разрушения всей бисмарковской политики в Германии. Немецкоязычные католики империи захотели бы тогда присоединиться к Германии, что поставило бы под угрозу преобладание протестантской Пруссии, ради чего Бисмарк столь упорно боролся. А развал Австрийской империи лишал бы Германию единственного надежного союзника. С другой стороны, хотя Бисмарк и хотел сохранить Австрию, у него не было ни малейшего желания бросать вызов России. Эту головоломку он в течение нескольких десятилетий умело задвигал на второй план, но разрешить так и не смог.
Положение усугублялось еще и тем, что Оттоманская империя находилась в состоянии медленного распада, что порождало частые споры между великими державами по поводу дележа добычи. Бисмарк как-то сказал, что, когда собираются пятеро игроков, лучше всего играть на стороне троих. Но с той поры из числа пятерых великих держав: Англии, Франции, России, Австрии и Германии — Франция стала враждебной, Англия — недоступной благодаря политике «блестящей изоляции», Россия — сомнительной из-за конфликта с Австрией. Чтобы создать группировку из троих, Германии нужен был альянс с Россией и Австрией одновременно. Только государственный деятель, обладающий бисмарковской силой воли и дипломатическим искусством, мог бы выступить с подобным акробатическим номером. Таким образом, взаимоотношения между Германией и Россией стали ключом к европейскому миру.
Как только Россия появилась на международной арене, она. с потрясающей быстротой вышла на ведущие позиции. Еще при заключении в 1648 году Вестфальского мира России до такой степени не придавалось никакой важности, что она вообще не бралась в расчет. Однако начиная с 1750 года Россия стала активной участницей всякой мало-мальски значимой европейской войны. К середине XVIII в. Россия уже стала вызывать у западных наблюдателей неясное беспокойство. В 1762 году французский поверенный в делах в Санкт-Петербурге докладывал:
«Если русские амбиции не сдерживать, то их последствия могут оказаться фатальными для соседствующих держав... Я знаю, что силу русских не следует мерить их экспансией и что их господство над восточными территориями скорее впечатляющий мираж, чем источник реальной мощи. Но я также подозреваю, что нация, лучше любой другой способная справиться с непривычными крайностями времен года на чужбине вследствие суровости климата у себя дома, привыкшая к рабскому повиновению, довольствующаяся в жизни малым, в состоянии начать войну при малых на то затратах... И такая нация, как я подозреваю, скорее всего окажется завоевателем...»[173] Ко времени Венского конгресса Россия, по всей вероятности, была самой мощной державой на континенте. К середине XX века она обрела статус одной из двух глобальных сверхдержав и пребывала в нем почти сорок лет, чтобы распасться изнутри, утеряв за несколько месяцев многие из своих обширных приобретений предшествующих столетий.
Абсолютный характер царской власти позволял правителям России проводить внешнюю политику деспотического характера, ориентируясь на личную ненависть и неприязнь. На протяжении шести лет, в промежутке между 1756 и 1762 годами, Россия успела вступить в Семилетнюю войну на стороне Австрии и вторгнуться в Пруссию, перейти на сторону Пруссии со смертью императрицы Елизаветы в январе 1762 года, а затем выйти из войны и объявить нейтралитет в июне 1762 года, когда Екатерина Великая свергла собственного мужа. Через пятьдесят лет Меттерних заявит, что царь Александр I никогда не придерживался одних и тех же убеждений дольше пяти лет. Советник Меттерниха, Фридрих фон Генц, описывал положение царя следующим образом: «Ни одного из препятствий, ограничивающих и срывающих планы других монархов: разделения полномочий, конституционных формальностей, общественного мнения и т. п. — для императора России не существует. То, что ему пригрезится ночью, он может исполнить утром»[174].
Парадоксальность была наиболее характерной чертой России. Постоянно воюя и распространяясь во все стороны, она тем не менее считала, что ей непрерывно угрожают. Чем более многоязыкой становилась империя, тем более уязвимой чувствовала себя Россия, отчасти еще и потому, что ей было нужно изолировать множество национальностей от их соседей. Чтобы упрочить собственное правление и преодолеть напряженность между различными народами, населяющими империю, все правители России использовали миф о какой-то мощной иноземной угрозе, которая со временем превращалась в оправдывавшееся пророчество, обрекавшее Европу на нестабильность.
По мере распространения России от территорий вокруг Москвы в направлении центра Европы, к берегам Тихого океана и в сторону Средней Азии, ее стремление обезопасить себя превратилось в экспансию ради экспансии. Русский историк Василий Ключевский так описывает этот процесс: «...Эти войны, оборонительные по своему происхождению, незаметно и непреднамеренно для московских политиков превращались в войны захватнические — прямое продолжение объединительной политики прежней [доромановской] династии, борьбы за русскую землю, которая раньше никогда не принадлежала Государству Московскому»[175].
Россия постепенно превращалась в угрозу равновесию сил в Европе — не в меньшей степени, чем она угрожала суверенитету соседей по своей обширной периферии. Независимо от размеров контролируемой ею территории, Россия неустанно отодвигала далее свои границы. Сначала — из соображений оборонительных, когда князь Потемкин (более известный тем, что ставил по пути следования царицы фальшивые деревни) оправдывал завоевание принадлежавшего Турции Крыма в 1776 году. Он полагал, что тем самым Россия якобы получает наилучшую возможность защищать свои пределы[176]. Однако к 1864 году безопасность и непрерывная экспансия стали синонимами. Канцлер Александр Горчаков объяснял русскую экспансию в Средней Азии постоянной обязанностью усмирять периферию, которой не очень-то хотелось «усмиряться»:
«Положение России в Средней Азии сходно с положением всех цивилизованных государств, входящих в соприкосновение с полудикими кочевыми племенами, не имеющими твердого общественного устройства. В таких случаях интересы безопасности границ и торговых сношений всегда требуют, чтобы более цивилизованное государство обладало определенной властью над своими соседями...
Поэтому государство должно сделать выбор: либо отказаться от столь продолжительных усилий и обречь собственные границы на постоянное перемещение... либо продвигаться все дальше и дальше в глубь диких земель... постоянно сталкиваясь с величайшей трудностью остановиться»[177]. Многие из историков припомнили эту цитату, когда Советский Союз вторгся в Афганистан в 1979 году.
Парадоксальной истиной является и то, что за последние двести лет европейское равновесие сил 'было в ряде случаев сохранено благодаря героическим усилиям России. Без России Наполеон и Гитлер почти наверняка бы преуспели в создании универсальных империй. Подобно двуликому Янусу, Россия была одновременно и угрозой равновесию сил, и одним из его ключевых компонентов, важной для него и все же не вполне его частью. В продолжение почти всего срока своего исторического существования Россия признавала только те пределы, которые ставились перед ней окружающим ее миром, и то с явной неохотой. И все же бывали периоды, самый заметный из которых — сорок лет по окончании наполеоновских войн, когда Россия не извлекала выгоду из своей огромной мощи, а вместо этого использовала собственное могущество для защиты консервативных интересов в Центральной и Западной Европе.
Даже когда Россия выступала в поддержку легитимности, ее поведение было гораздо более мессианским — и, следовательно, империалистическим, — чем у других консервативных дворов. Если западноевропейские консерваторы практиковали философию самоограничения, русские руководители зачисляли себя в крестоносцы. Поскольку цари практически не встречались с вызовом собственной легитимности, они мало разбирались в республиканских движениях, полагая их просто аморальными. Пропагандисты общности консервативных ценностей — по крайней мере, до Крымской войны, — они готовы были одновременно использовать легитимизм для расширения собственного влияния, что обеспечило Николаю I прозвище «жандарм Европы». Во времена расцвета Священного союза Фридрих фон Генц так пишет об Александре I:
«Император Александр, несмотря на свое постоянное рвение и энтузиазм, выказываемый по поводу Великого альянса, является монархом, вполне способным без него обойтись... Для него Великий альянс это лишь орудие, при помощи которого он осуществляет в общеевропейских делах собственное влияние, что и составляет одно из основных направлений его амбиций... Его интерес в сохранении системы не является, как у Австрии, Пруссии или Англии, интересом, основывающимся на необходимости или страхе; это ни с чем не связанный, тщательно рассчитанный интерес, от которого он всегда в состоянии отказаться, если иная система предоставит ему большие преимущества»[178] Как и американцы, русские считали свое общество исключительным. Сталкиваясь лишь с кочевыми или феодальными сообществами, экспансия России в направлении Средней Азии обладала множеством черт американской экспансии на запад, и если вспомнить вышеприведенную цитату из Горчакова, то русское ей обоснование шло рука об руку с американскими объяснениями сущности своего «судьбоносного призвания». Но чем ближе русские оказывались к Индии, тем более это вызывало подозрения у британцев, пока во второй половине XIX века русская экспансия в Среднюю Азию, в отличие от американского продвижения на запад, не превратилась в проблему внешней политики.
Открытость границ каждой из стран была одной из немногих общих черт американской и русской исключительности. Американское чувство собственной уникальности базировалось на концепции свободы; русское же проистекало из опыта совместно перенесенных страданий. Приобщиться к американским ценностям мог каждый; русские же ценности принадлежали одной только русской нации, подавляющее большинство нерусских подданных не имело к ним доступа. Американская исключительность имела своим следствием изоляционизм вперемешку со спонтанными крестовыми походами морального характера; русская же влекла за собой возникновение ощущения миссионерского призвания, часто приводившего к военным авантюрам.
Русский публицист националистического толка Катков так определял различие между западными и русскими ценностями:
«...Все там основано на договорных отношениях, а все тут на вере; этот контраст был предопределен разницей в положении церкви, принятой на Западе, и той, что принята на Востоке. Там в основе лежит двойной авторитет; тут авторитет единый»[179].
Русские националистические и панславистские писатели и интеллектуалы безоговорочно выводили так называемый альтруизм русской нации из ее принадлежности к православию. Великий романист и страстный националист Федор Достоевский толковал русский альтруизм, как обязанность освободить славянские народы от иноземного правления, если понадобится, противостоя всей Западной Европе. Во время русской кампании 1877 года на Балканах Достоевский пишет:
«Спросите народ; спросите солдата: почему они поднимаются? почему они идут на войну и чего от нее ждут? И они вам скажут, все, как один, что идут на службу Христову, чтобы освободить угнетенных братьев своих... [Мы] станем на страже их взаимного согласия и защитим свободу их и независимость, пусть даже против всей Европы»[180].
В отличие от государств Западной Европы, которыми Россия восхищалась, одновременно испытывая к ним презрение и зависть, Россия воспринимала себя не как нацию, а как самоцель, стоящую вне геополитики, влекомую верой и спаянную силой оружия. Достоевский не сводил роль России к одному лишь освобождению братьев-славян — он включил туда надзор за их взаимным согласием: такого рода социальная обязанность тихомирно может перейти в гегемонию. Для Михаила Каткова Москва была «Третьим Римом»:
«Русский царь не просто наследник своих предков; он преемник кесарей Восточного Рима, создателей церкви и организаторов ее соборов, которые установили сам символ христианской веры. С падением Византии восстала Москва, и началось величие России»[181].
После революции миссионерскую страсть и пыл перенял Коммунистический Интернационал.
Парадоксальность русской истории заключается в непрерывном противоречии между мессианским влечением и всеподавляющим ощущением небезопасности. Доведенное до предела, это противоречие порождает страх того, что если империя не будет расширяться, она развалится изнутри. Таким образом, когда Россия выступала как главная движущая сила раздела Польши, она действовала именно так отчасти из соображений безопасности, отчасти из характерного для XVIII века стремления к территориальному величию. Столетием позднее подобные завоевания обретут самостоятельное значение. В 1869 году Ростислав Андреевич Фадеев, офицер-панславист, написал повлиявший на многие умы очерк «Мнение по восточному вопросу», утверждая, что Россия должна продолжать свое продвижение на запад, чтобы защитить уже имеющиеся завоевания.
«Историческое движение России с Днепра на Вислу (то есть раздел Польши) было объявлением войны Европе, которая вломилась на ту часть материка, которая ей не принадлежала. Россия теперь стоит посреди неприятельских позиций — но такое положение сугубо временное: она должна либо отбросить противника, либо оставить позиции... должна либо распространить свое преобладание вплоть до Адриатики, либо вновь отойти за Днепр...» [182]
Фалеевский анализ не слишком отличается от анализа Джорджа Кеннана, который был произведен по ту сторону разграничительной линии в весьма содержательной статье относительно источников советского поведения. В ней он предсказывал, что если Советский Союз не преуспеет в осуществлении экспансии, он распадется изнутри и рухнет.[183] Возвышенное представление России о самой себе редко разделялось окружающим миром. Несмотря на исключительные достижения в области литературы и музыки, Россия никогда не являлась для покоренных народов своеобразным культурным магнитом, в отличие от метрополий ряда других колониальных империй. Да и Российская империя отнюдь не воспринималась как модель общественного устройства — ни иными обществами, ни собственными подданными. Для внешнего мира Россия была потусторонней силой: загадочным экспансионистским видением, которого следовало бояться и сдерживать либо включением в союзы, либо противостоянием.
Меттерних испробовал путь включения в союз и на протяжении одного поколения в общем и целом преуспел. Но после объединения Германии и Италии великие идеологические цели первой половины XIX века утеряли объединительную силу. Национализм и революционное республиканство более не воспринимались как угрозы европейскому порядку. Как только национализм стал преобладающим организующим принципом, коронованные главы России, Пруссии и Австрии все меньше и меньше стали нуждаться в объединении в целях общей защиты принципа легитимности.
Меттерниху удалось создать нечто, напоминающее европейское правительство, благодаря тому, что правители Европы считали идеологическое единение необходимым барьером против революции. Но к 70-м годам XIX века либо пропадал страх перед революцией, либо отдельные правительства стали полагать, что смогут справиться с нею без помощи извне. К тому времени с момента казни Людовика XVI сменились два поколения; успешно прошли либеральные революции 1848 года; Франция, даже будучи республикой, утеряла пыл прозелитизма. Теперь уже никакая идеологическая общность не могла сдерживать все обостряющийся конфликт между Россией и Австрией на Балканах или между Германией и Францией по поводу Эльзас-Лотарингии. И когда великие державы оглядывались друг на друга, они уже видели друг в друге не партнеров по общему делу, а опасных соперников, даже смертельных врагов. Конфронтация превратилась в стандартный дипломатический метод.
На более раннем этапе Великобритания вносила свой вклад как элемент сдерживания, играя роль регулятора европейского равновесия. И даже теперь из всех крупных европейских держав только Великобритания была в состоянии вести дипломатическую деятельность, основанную на равновесии сил, не будучи связана непримиримой враждой к какой-либо отдельной державе. Но в Великобритании росло недоумение, что же теперь является основной угрозой, и определиться она сумела лишь через несколько десятилетий.
Система равновесия сил по-венски, с которой Великобритания была хорошо знакома, радикальным образом изменилась. Объединенная Германия стала до такой степени сильной, что могла господствовать в Европе сама по себе, — то есть возникла та самая ситуация, появлению которой Британия всегда сопротивлялась в прошлом. Однако большинство британских лидеров, за исключением Дизраэли, не видели причин противостоять процессу национальной консолидации в Центральной Европе, который приветствовался британскими государственными деятелями в продолжение десятилетий, особенно когда кульминацией его оказалась война, где, строго говоря, агрессором была Франция.
С того самого времени, как сорока годами ранее Каннинг дистанцировал Великобританию от системы Меттерниха, политика «блестящей изоляции» позволила ей играть роль защитника равновесия в значительной степени потому, что тогда ни одна из стран континента не была способна добиться монопольного господства. После объединения Германия неуклонно становилась такой страной. И, что самое удивительное, она добивалась могущества за счет развития ресурсов на своей территории, а не путем захватов. Стилем же политики Великобритании являлось вмешательство только тогда, когда равновесие сил находилось под угрозой уже фактически, а не тогда, когда возникала перспектива подобной угрозы. Причем потребовались десятилетия, чтобы германская угроза европейскому равновесию сил стала явной, и потому внешнеполитические заботы Великобритании до самого конца столетия концентрировались на Франции, чьи колониальные амбиции сталкивались с британскими, особенно в Египте, и на русском продвижении к проливам, Персии, Индии, а позднее в сторону Китая. Все эти проблемы носили колониальный характер. Применительно же к европейской дипломатии, породившей кризисы и войны XX века, Великобритания продолжала придерживаться политики «блестящей изоляции».
Бисмарк, таким образом, оставался ведущей фигурой европейской дипломатии, пока не был отправлен в отставку в 1890 году. Он хотел мира для вновь образованной Германской империи и не искал конфронтации ни с одной из наций. Но в отсутствие моральных связей между европейскими государствами он очутился перед лицом исполинской, достойной Геркулеса задачи. Он был обязан удержать как Россию, так и Австрию от вступления в лагерь своего врага Франции. Для этого требовалось пресекать вызовы Австрии, чтобы легитимизировать русские намерения, и одновременно удерживать Россию от подрыва Австро-Венгерской империи. Ему были нужны хорошие отношения с Россией, которые не настораживали бы Великобританию, ибо она бдительно следила за русскими притязаниями на Константинополь и Индию. Даже гений, подобный Бисмарку, не мог до бесконечности исполнять столь опасный акробатический номер на проволоке; интенсивные удары но международной системе все меньше и меньше поддавались сдерживанию. Тем не менее в течение тех двадцати лет, когда Бисмарк стоял во главе Германии, он проводил на практике проповедуемую им Realpolitik с такой умеренностью, с такой тонкостью, что равновесие сил ни разу не нарушилось.
Целью Бисмарка было не дать повода ни одной из держав, разве что неугомонной Франции, вступить в союз, направленный против Германии. Провозглашая, что объединенная Германия «удовлетворилась» существующим положением и не стремится к новым территориальным приобретениям, Бисмарк успокаивал Россию, заверяя ее, что у него нет интересов на Балканах; Балканы, говорил он, не стоят костей даже одного померанского гренадера. Имея в виду Великобританию, Бисмарк не выступал ни с какими претензиями на континенте, которые могли бы вызвать британскую озабоченность равновесием сил, причем он также держал Германию в стороне от лихорадки колониальных захватов. «Вот Россия, вот Франция, а вот и мы в середине. Это и есть моя карта Африки», — отвечал Бисмарк одному из адептов германского колониализма[184] — тем самым давая совет, от которого собственные политики позднее вынудили его отказаться.
Заверений, однако, оказалось недостаточно. Германии нужен был союз одновременно с Россией и Австрией, как бы невероятно это ни выглядело на первый взгляд. И все же Бисмарку удалось выковать такого рода альянс в 1873 году, когда он создал первый так называемый «Союз трех императоров». Провозглашая единение трех консервативных дворов, он в значительной степени походил на Священный союз Меттерниха. Неужели Бисмарк вдруг возлюбил меттерниховскую систему, положив до этого столько сил на ее сокрушение? Ведь времена переменились в основном в результате успешной деятельности Бисмарка. И хотя Германия, Россия и Австрия поклялись в истинно меттерниховском духе сотрудничать в подавлении подрывных тенденций во владениях каждой из них, общее отвращение к политическому радикализму более не могло скреплять три «восточных двора» — в первую очередь, потому, что каждый из них был уверен в том, что справится с внутренними неурядицами без посторонней помощи.
Кроме того, Бисмарк утерял свой прочный легитимистский мандат. Хотя его переписка с Герлахом (см. гл. 5) не была предана гласности, лежащие в ее основе подходы и принципы были общеизвестны. Будучи защитником Realpolitik в продолжение всей своей карьеры, он не мог вдруг заставить всех поверить, будто посвятил себя защите легитимизма. Резко обостряющееся геополитическое соперничество России и Австрии оказалось превыше единения консервативных монархов. Каждая из этих стран жаждала добычи на Балканах, которую можно было бы урвать от распадающейся Оттоманской империи. Панславизм и уже укоренившийся экспансионизм способствовали проведению Россией рискованной политики на Балканах. Это порождало откровенный страх в Австро-Венгерской империи. Таким образом, если на бумаге германский император находился в союзе с консервативными монархами в России и Австрии, то на деле эти два брата уже вцепились друг другу в глотку. И проблема, как справляться с обоими партнерами, которые воспринимали друг друга как смертельную угрозу, постоянно давила на бисмарковскую систему альянсов на всем протяжении его жизни.
Первый «Союз трех императоров» преподал Бисмарку урок, что больше нельзя контролировать им же выпущенные на свободу силы, апеллируя к принципам внутреннего устройства Австрии и России. Отныне он попытается манипулировать ими, подчеркивая проблемы могущества и собственных интересов каждой из стран.
Два события того времени были наиболее характерной демонстрацией того, что Realpolitik превратилась в господствующую тенденцию эпохи. Первое случилось в 1875 году в форме псевдокризиса, когда в одной из ведущих германских газет появилась передовица с провокационным заголовком «Является ли война неизбежной?». Передовица эта была опубликована по поводу того, что Франция увеличила военные расходы и что французская армия закупает большое количество лошадей. Бисмарк при помощи такого газетного трюка, бесспорно, хотел лишь создать видимость военной угрозы, ибо не было проведено даже частичной мобилизации германских сил, не говоря уже о перемещении войск, опасном для потенциального противника.
Перед лицом несуществующего вызова легче легкого сплотить собственную нацию. Французская дипломатия умно создала впечатление, будто Германия готовит первый, упреждающий удар. Французское министерство иностранных дел стало распространять информацию, будто бы в беседе с французским послом царь намекнул, что во франко-германском конфликте он поддержит Францию. Великобритания, всегда чувствительная к угрозе господства одной державы над всей Европой, зашевелилась. Премьер-министр Дизраэли дал указания своему министру иностранных дел лорду Дерби обратиться к русскому канцлеру Горчакову с идеей пригрозить Берлину:
«Мое собственное впечатление таково, что нам следует организовать совместное выступление для сохранения мира в Европе, как это сделал Пэм (лорд Пальмерстон), когда расстроил планы Франции, изгнав египтян из Сирии. Не исключая альянс между нами и Россией по этому конкретному поводу, да и с прочими державами, как, например, Австрией, и, возможно, следовало бы пригласить для участия также и Италию...»[185]
Уже одно то, что Дизраэли, в глубине души не доверявший имперским амбициям России, готов был даже сделать намек на возможность англо-русского альянса, говорит о принятии им всерьез перспектив германского преобладания в Западной Европе. Призрак войны исчез так же быстро, как и появился, так что план Дизраэли так и не был проверен на деле. И хотя Бисмарк не знал деталей предпринятого Дизраэли маневра, он был в достаточной мере проницателен, чтобы не ощутить глубинной озабоченности Великобритании.
Как продемонстрировал Джордж Кеннан[186], значительность этого кризиса газеты явно преувеличили. Бисмарк не имел ни малейшего намерения вступать в войну через столь короткий срок с момента унижения Франции, хотя и не прочь был намекнуть, что такая возможность имеется, если страна-соперница зайдет слишком далеко. А царь Александр II вовсе не намеревался давать гарантии республиканской Франции, но и не возражал бы, чтобы у Бисмарка возникло подобное впечатление[187]. Таким образом, Дизраэли отреагировал на то, что на деле оказалось химерой. И все же сочетание британского беспокойства, французского политического маневрирования и двойственности поведения России подействовало на Бисмарка, убедив его в том, что только активная политика может предотвратить создание коалиции. Именно это и случилось поколением позже, когда была учреждена Антанта — Тройственное согласие, направленное против Германии. Пока же тревога оказалась ложной.
Зато второй кризис был самым настоящим. Он опять коснулся Балкан и продемонстрировал, что ни философская, ни идеологическая общность не могут спаять воедино «Союз трех императоров» в связи с глубинной конфликтностью национальных интересов. А поскольку это в конечном счете приведет к краху бисмарковский европейский порядок и ввергнет Европу в первую мировую войну, на втором кризисе стоит остановиться поподробнее.
Восточный вопрос, угасший было со времен Крымской войны, вновь стал ведущим в повестке дня. Международные события к тому времени стали стереотипно-запутанными, как развитие сюжета в пьесах японского театра «Кабуки». Любое, по существу, случайное происшествие способно было вызвать кризис; Россия могла бы выступить с угрозами, а Великобритания направила бы Королевский военно-морской флот. Тогда Россия оккупировала бы какую-то часть Оттоманских Балкан в качестве своеобразного залога. Великобритания стала бы угрожать войной. Начались бы переговоры, в процессе которых Россия отказалась бы от части требований, и в этот самый момент все бы взлетело на воздух.
В 1876 году болгары, которые в течение нескольких столетий жили под властью турок, восстали и получили поддержку от других балканских народов. Турция ответила с потрясающей жестокостью, а Россия, охваченная панславистскими чувствами, пригрозила вмешательством.
В Лондоне реакция России вызвала чересчур знакомый призрак русского контроля над проливами. Со времен Каннинга британские государственные деятели следовали основополагающему предположению, что если Россия установит такой контроль, она будет господствовать в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке, тем самым ставя под угрозу позиции Великобритании в Египте. Следовательно, согласно привычному британскому ходу мыслей, Оттоманскую империю, какой бы дряхлой и антигуманной она ни являлась, следовало сохранить, даже рискуя войной с Россией.
Ситуация поставила Бисмарка перед нелегким выбором. Русское продвижение вперед, способное вызвать у Англии вооруженный ответ, могло также побудить Австрию ввязаться в драку. А если Германия будет вынуждена выбирать между Австрией и Россией, внешняя политика Бисмарка будет полностью расстроена, а «Союз трех императоров» — разрушен. Независимо от конкретного развития событий Бисмарк рисковал восстановить против себя либо Австрию, либо Россию, а также, что выглядело весьма вероятно, навлечь на себя гнев всех подряд, если займет позицию нейтралитета. «Мы всегда избегали, — выскажется Бисмарк перед рейхстагом в 1878 году, — в случае расхождения во мнениях между Австрией и Россией создания большинства из двоих против одного, вставая на одну из сторон...» [188]
Умеренность была классической чертой Бисмарка. Но проблема выбора по мере развертывания кризиса становилась все более острой. Первым шагом Бисмарка оказалась попытка укрепить связи между тремя императорами внутри Союза посредством поиска выработки общей позиции. В начале 1876 года «Союз трех императоров» выступил с так называемым «Берлинским меморандумом», предупреждая Турцию против продолжения репрессий. Он, похоже, намекал, что с определенными оговорками Россия, возможно, вмешается в балканский конфликт по уполномочию «европейского концерта» точно так же, как на меттерниховских конгрессах в Вероне, Лайбахе и Троппау назначалась какая-либо из европейских держав для конкретного воплощения в жизнь их решений.
Но существовало огромное различие между тем, как подобные действия предпринимались тогда и как они могли осуществляться сейчас. Во времена Меттерниха британским министром иностранных дел был Кэслри, который с симпатией относился к вмешательству со стороны Священного союза, пусть даже Великобритания принимать в них участие отказывалась. Но теперь премьер-министром был Дизраэли, а он интерпретировал Берлинский меморандум как первый шаг к демонтажу Оттоманской империи без участия Великобритании. Это было чересчур близко к общеевропейской гегемонии, против чего Великобритания выступала веками. Разговаривая с Шуваловым, русским послом в Лондоне, Дизраэли посетовал: «С Англией обращаются так, словно мы — Черногория или Босния»[189]. А своему постоянному корреспонденту леди Брэдфорд он писал:
«Равновесия не существует, и если мы не сделаем все, что в наших силах, чтобы действовать совместно с тремя северными державами, они смогут действовать без нас, что не является приемлемым для государства, подобного Англии»[190].
Перед лицом декларированного Санкт-Петербургом, Берлином и Веной единства Великобритании было бы исключительно трудно противостоять какой бы то ни было совместной договоренности. Ситуация выглядела так, что у Дизраэли не было иного выбора, кроме как присоединиться к северным дворам, когда Россия наносила удар по Турции.
Тем не менее в традициях Пальмерстона Дизраэли решил поиграть британскими мускулами. Он ввел Королевский военно-морской флот в Восточное Средиземноморье и публично заявил о своих протурецких чувствах, гарантируя тем самым, что Турция будет упрямо стоять на своем до конца, и выявляя в открытую латентные разногласия, существующие в недрах «Союза трех императоров». Никогда не славившийся чрезмерной скромностью, Дизраэли заявил королеве Виктории, что он разрушил «Союз трех императоров». Союз, как он полагал, «фактически более не существует и принадлежит прошлому, как римский триумвират»[191]
Бенджамен Дизраэли был одной из самых странных и невероятных фигур, когда-либо стоявших во главе британского правительства. Узнав, что будет назначен премьер-министром в 1868 году, он воскликнул: «Ура! Ура! Я взобрался на верхушку намазанного жиром столба!» В противоположность этому, когда постоянный оппонент Дизраэли Уильям Эварт Гладстон был в том же году призван в качестве преемника Дизраэли, он разразился многословными рассуждениями на тему ответственности, налагаемой властью, священных обязанностей перед Господом и к тому же вознес молитву о том, чтобы Всемогущий наделил его твердостью духа, необходимой для исполнения серьезных и ответственных функций премьер-министра.
Эти два великих человека определяли британскую политику второй половины XIX века. Но какая полная противоположность натур Дизраэли — блестящий, живой, действующий напоказ; Гладстон — образованный, набожный и серьезный. Гигантская ирония заключалась в том, что партия тори, состоящая из деревенских сквайров и преданных англиканской вере аристократов, выдвинула в качестве лидера блистательного еврея-авантюриста, так что партия принципиально убежденных приверженцев собственной замкнутости и исключительности вывела на авансцену мировой политики принципиального аутсайдера. Еще ни разу ни один еврей не поднимался до этого на такие высоты британской политики. Столетием позднее опять-таки рутинно-ограниченные на первый взгляд тори, а не самонадеянно-прогрессивная лейбористская партия выдвинули на эту должность Маргарет Тэтчер — дочь зеленщика, которая оказалась еще одним замечательным лидером и первой женщиной — премьер-министром Великобритании.
Карьера Дизраэли была необычной. Романист в молодости, он скорее принадлежал к кругу литераторов, чем активных политиков, и внешне гораздо более естественным для него было бы окончить свои дни блестящим писателем и рассказчиком, чем одной из судьбоносных фигур британской политики девятнадцатого столетия. Как и Бисмарк, Дизраэли стоял за наделение избирательным правом простого человека, ибо был убежден, что средние классы в Англии поддержат консерваторов.
Как лидер тори, Дизраэли провозгласил новую форму империализма, отличающуюся от коммерческой по существу экспансии, которой Великобритания занималась начиная с XVII века, — именно посредством которой, как обыкновенно говорили, в припадке рассеянности она построила империю. Для Дизраэли империя была не экономической, а духовной необходимостью, представлявшей собой обязательную предпосылку величия его страны. «Вопрос этот нельзя считать незначительным, — заявил он в 1872 году во время своей знаменитой речи в Хрустальном дворце. — Он заключается в том, будете ли вы довольны существованием в качестве уютной Англии, смоделированной и отлитой по континентальным принципам и спокойно ожидающей неизбежной судьбы, или вы станете великой страной — имперской страной, — страной, где ваши сыновья, когда они поднимутся, дойдут до самых больших высот и стяжают не только уважение своих соотечественников, но и безоговорочное почтение всего остального мира»[192].
Придерживаясь подобных убеждений, Дизраэли не мог не выступить против угрозы Оттоманской империи со стороны России. Во имя европейского равновесия он не мог принять рецепты «Союза трех императоров», а во имя Британской империи он мог лишь возражать против возложения на Россию роли практического носителя идеи европейского консенсуса на подступах к Константинополю. Ибо в течение XIX века представление о том, что Россия является главнейшей угрозой мировому положению Великобритании, пустило глубокие корни. Великобритания видела угрозу своим заморским интересам в клещеобразном продвижении России, одна клешня которой была нацелена на Константинополь, а другая — на Индию через Среднюю Азию. В ходе среднеазиатской экспансии во второй половине XIX века Россия отработала методику завоеваний, которая стала стереотипной. Жертва всегда находилась настолько далеко от мировых центров, что мало кто на Западе имел точное представление о сущности происходящих событий. И так можно было внушить заранее продуманное мнение о том, что якобы сам царь на деле желает всем только добра, а вот его подчиненные — люди воинственные, причем тем самым дальность расстояний и путаное восприятие сути дела становились инструментами русской дипломатии.
Из всех европейских держав только Великобритания была озабочена ситуацией в Средней Азии. По мере того как русская экспансия катилась на юг в направлении Индии, протесты Лондона разбивались, как о каменную стену, о канцлера князя Александра Горчакова, который часто не подозревал, что делают русские войска. Лорд Огастес Лофтес, британский посол в Санкт-Петербурге, рассуждал, что будто бы российское давление на Индию «порождено не сувереном, хотя он и абсолютный монарх, но скорее той главенствующей ролью, которую играет военная администрация. Когда имеется огромная бездеятельная армия, ее абсолютно необходимо чем-то занять... А когда устанавливается система завоеваний, подобно среднеазиатской, то каждое приобретение территории влечет за собой последующее, и трудность заключается в том, где остановиться»[193]. Конечно, это наблюдение почти повторяет уже приводившуюся выше цитату из Горчакова. С другой стороны, британский кабинет не видел никакой разницы в том, угрожала ли Россия Индии самим фактом своего продвижения или преднамеренно преследовала империалистические цели.
Один и тот же шаблон повторялся вновь и вновь. С каждым годом русские войска все глубже и глубже проникали в самое сердце Средней Азии. Великобритания требовала объяснений и получала всевозможные заверения на тот счет, что царь будто бы не собирается аннексировать ни единого квадратного метра земли. Поначалу такого рода утешительные слова помогали снять вопрос. Но он неизбежно вновь становился открытым с каждым новым продвижением русских войск. К примеру, после того, как русская армия оккупировала Самарканд (в нынешнем Узбекистане) в мае 1868 года, Горчаков заявил британскому послу сэру Эндрю Бьюкенену: «...российское правительство не только не желало оккупации этого города, но глубоко сожалеет по этому поводу, и можно быть уверенным, что этот город не будет удерживаться до бесконечности»[194]. Самарканд, конечно, остался под суверенитетом России, и это продолжалось вплоть до распада Советского Союза столетие спустя.
В 1872 году аналогичная шарада повторялась за несколько сот миль к юго-востоку применительно к Хивинскому ханству на границе с сегодняшним Афганистаном. Граф Шувалов, адъютант царя, был направлен в Лондон заверить британцев, что Россия не имеет намерений аннексировать дополнительные территории в Средней Азии:
«Намерения императора не только были далеки от приобретения Хивы, но, напротив, были отданы недвусмысленные распоряжения предотвратить это, причем были даны указания на тот счет, что выдвигаемые условия ни в коем случае не должны были привести к продолжению оккупации Хивы»[195]3.
Стоило, однако, лишь произнести эти заверения, как прибыло известие, что русский генерал Кауфман разгромил Хиву и навязал ей договор, который представлял собой трагическую противоположность утверждениям Шувалова.
В 1875 году те же методы были применены к Кокаину, еще одному пограничному с Афганистаном ханству. По такому случаю канцлеру Горчакову показалось необходимым каким-либо образом оправдать разрыв между заверениями и действиями России. Ход был в высшей степени оригинальный: он придумал беспрецедентное различие между односторонними заверениями (которые, согласно его определению, не носили обязательственного характера) и официальными обязательствами двухстороннего характера. «Лондонский кабинет, — писал он в ноте, — похоже, превратно истолковал тот факт, что мы в ряде случаев спонтанно и дружественно передавали ему наши взгляды в отношении Средней Азии, а особенно наше твердое убеждение не следовать политике захватов и аннексий. Из этого он вынес убеждение, что мы якобы взяли на себя твердые обязательства в этом отношении применительно к данному вопросу»[196]. Иными словами, Россия настаивала на том, что она обладает свободой действий в Средней Азии, сама себе ставит пределы и не связана даже собственными заверениями.
Дизраэли не был расположен терпеть повторение подобных методов на подступах к Константинополю. Он подстрекал оттоманских турок отвергнуть «Берлинский меморандум» и продолжать опустошительные действия на Балканах. Несмотря на подобную демонстрацию британской твердости, Дизраэли испытывал сильнейшее давление внутри страны. Зверства турок настроили против них британское общественное мнение, а Гладстон во весь голос выступал против аморальности внешней политики Дизраэли. Тогда Дизраэли счел себя обязанным подписаться под Лондонским протоколом 1877 года и присоединиться к призыву трех северных дворов к Турции покончить с бойней на Балканах и произвести реформу собственной администрации в этом регионе. Султан, однако, будучи уверен в том, что Дизраэли на его стороне независимо от формальных к нему требований, отверг и этот документ. Ответом России было объявление войны.
На какое-то время даже показалось, будто Россия выиграла дипломатическую игру. Ее поддержали не только оба остальных северных двора, но и Франция, не говоря уже о значительной поддержке британского общественного мнения. Руки у Дизраэли оказались связаны; выступление в войне на стороне Турции могло бы привести к падению его правительства.
Но, как и в связи со множеством предыдущих кризисов, русские руководители переоценили собственную игру. Под предводительством блестящего, отчаянного генерала и дипломата Николая Игнатьева русские войска очутились у ворот Константинополя. Австрия начала пересматривать свое прежнее положительное отношение к русской кампании. Дизраэли ввел британские военные корабли в Дарданеллы. В этот момент Игнатьев потряс всю Европу, объявив об условиях Сан-Стефанского договора, согласно которому Турция становилась нежизнеспособной и создавалась «Великая Болгария». Это огромное государство, мыслящееся до Средиземного моря, находилось бы, само собой разумеется, под гегемонией России.
Начиная с 1815 года в Европе полагали бесспорной истиной, что судьба Оттоманской империи может быть определена лишь «европейским концертом» в целом, а не какой-либо отдельной державой, причем меньше всего Россией. Игнатьевский Сан Стефанский договор обеспечивал возможности русского контроля над проливами, что было неприемлемо для Великобритании, и русский контроль над балканскими славянами, что было неприемлемо для Австрии. И потому как Великобритания, так и Австро-Венгрия объявили о непризнании договора.
Внезапно Дизраэли перестал быть один. Для российских руководителей его шаги означали грозный признак возврата к коалиции времен Крымской войны. Когда министр иностранных дел лорд Солсбери издал в апреле 1878 года свой знаменитый меморандум, где объяснялось, почему Сан-Стефанский договор должен быть пересмотрен, даже Шувалов, русский посол в Лондоне и давний соперник Игнатьева, согласился с этим. Великобритания угрожала войной, если Россия вступит в Константинополь, а Австрия угрожала войной, если начнется дележ добычи на Балканах.
Лелеемый Бисмарком «Союз трех императоров» очутился на грани краха. До этого момента Бисмарк был исключительно осмотрителен. В августе 1876 года, за год до того, как русские армии двинулись на Турцию «за славянство и веру православную», Горчаков предложил Бисмарку: пусть Германия организует конгресс для разрешения Балканского кризиса. Если Меттерних или Наполеон III с жаром ухватились бы за возможность сыграть роль главного посредника в «европейском концерте», то Бисмарк отнесся к этому весьма прохладно, будучи уверен в том, что такой конгресс сможет только сделать явными разногласия внутри «Союза трех императоров». Он сообщил в доверительном порядке, что все участники такого конгресса, включая Великобританию, уйдут с него «предрасположенными против нас, ибо ни один из них не найдет у нас поддержки, на которую рассчитывает»[197]. Бисмарк также счел неразумным сводить вместе Горчакова и Дизраэли — «министров, равно опасных своим тщеславием», как он их назвал.
Тем не менее по мере того, как становилось все яснее и яснее, что Балканы — это запал, способный вызвать общеевропейский военный взрыв, Бисмарк нехотя организовал конгресс в Берлине, единственной столице, куда готовы были приехать русские руководители. И все же он постарался держаться в стороне от повседневных организационно-дипломатических вопросов, возложив рассылку приглашений на министра иностранных дел Австро-Венгрии Андраши.
Конгресс был назначен на 13 июня 1878 года. Но еще до его начала Великобритания и Россия разрешили ключевые вопросы в соглашении, подписанном лордом Солсбери и новым русским министром иностранных дел Шуваловым 30 мая. «Великая Болгария», порожденная Сан-Стефанским договором, заменялась тремя новыми образованиями: значительно меньшим по масштабам независимым государством Болгария; государством Восточная Румелия, автономной единицей, формально находящимся под властью турецкого губернатора, но реально управляемым под надзором европейской комиссии (прообраз миротворческих проектов Организации Объединенных Наций в XIX веке); остальная часть Болгарии оставалась под турецким правлением. Русские приобретения в Армении были значительно урезаны. В сепаратных секретных соглашениях Великобритания обещала Австрии, что поддержит австрийскую оккупацию Боснии-Герцеговины, и заверила султана, что гарантирует целостность азиатской Турции. В ответ султан предоставил Англии право использования Кипра как военно-морской базы.
Ко времени начала конгресса опасность войны, вынудившая Берлин сыграть роль хозяина, в значительной степени рассеялась. Основной функцией конгресса было дать европейское благословение на то, что уже было согласовано. Сомнительно, пошел бы Бисмарк на риск выступать в заведомо опасной роли посредника, если бы заранее знал исход. Конечно, не исключено, что сам созыв конгресса побудил Россию и Англию произвести быстрое сепаратное урегулирование, чтобы не отдаваться на милость европейского конгресса и получить ощутимые выгоды.
Разрабатывать детали уже заключенного соглашения — не самый героический труд. Все крупные страны, за исключением Великобритании, были представлены своими министрами иностранных дел. Впервые в британской истории премьер-министр и министр иностранных дел вдвоем прибыли на международный конгресс за пределами Британских островов, поскольку Дизраэли не желал передоверить завершение в значительной мере согласованных крупных дипломатических договоренностей одному лишь Солсбери. Престарелый и тщеславный Горчаков, который еще полвека назад вел переговоры с Меттернихом на конгрессах в Лайбахе и Вероне, избрал Берлинский конгресс для своего последнего появления на международной арене. «Я не хочу, чтобы меня погасили, как чадящую лампу. Я хочу низринуться, как падучая звезда», — объявил он по прибытии в Берлин[198].
Когда Бисмарка спросили, кто, по его мнению, является центральной фигурой конгресса, тот указал на Дизраэли: «Der alte Jude, das ist der Mann» («Этот старый еврей и есть тот самый человек»)[199]. Столь отличающиеся друг от друга по происхождению, эти двое пришли к взаимному восхищению.. Оба стали неограниченными приверженцами Realpolitik и терпеть не могли того, что они называли «лицемерной моралью». Религиозные обертоны высокопарных высказываний Гладстона (человека, которого презирали оба: и Дизраэли и Бисмарк) представлялись им чистейшей воды бредом. Ни Бисмарк, ни Дизраэли не испытывали ни малейшей симпатии к балканским славянам, которых полагали хроническими и злобными возмутителями спокойствия. Оба деятеля любили подковырки и циничное подтрунивание, широкие обобщения и саркастические уколы. С тоской воспринимая мелочные детали, Бисмарк и Дизраэли предпочитали разрешать политические проблемы смелыми, драматичными и решительными ударами.
Можно даже утверждать, что Дизраэли является единственным государственным деятелем, которому когда-либо удалось взять верх над Бисмарком. Дизраэли прибыл на конгресс и занял неуязвимую позицию человека, уже добившегося своих целей, — позицию, которой Кэслри наслаждался в Вене, а Сталин — после второй мировой войны. Оставались лишь вопросы, связанные с деталями реализации предшествующей договоренности между Великобританией и Россией, а также сугубо техническая проблема, кто — Турция или новая Болгария — будет контролировать балканские перевалы. Для Дизраэли стратегической проблемой конгресса было по возможности смягчить недовольство России Великобританией за то, что пришлось отказаться от ряда своих завоеваний.
И Дизраэли это удалось, поскольку собственная позиция Бисмарка была весьма сложной. Бисмарк не видел никаких германских интересов на Балканах и не имел фундаментальных предпочтений по поводу текущих вопросов, за исключением необходимости практически любой ценой предотвратить войну между Австрией и Россией. Он описывал собственную роль на конгрессе, как функцию «ehrlicher Makler» (честного брокера), и предварял почти каждое заявление на конгрессе словами: «L'Allemagne, qui n'est liee par aucun interet direct dans les affaires d'Orient...» («Германия, не имеющая никаких непосредственных интересов в каких бы то ни было восточных делах...»)[200].
Бисмарк великолепно понимал, какая идет игра. Тем не менее он был подобен человеку, охваченному кошмаром, который видит надвигающуюся опасность, но не способен от нее уклониться. Когда германский парламент настаивал на том, чтобы Бисмарк занял более твердую позицию, он отвечал, что предпочитает вообще не вмешиваться. При этом Бисмарк подчеркнул, насколько опасна сама роль посредника, и сослался при этом на пример царя Николая I, который в 185! году вмешался в отношения между Австрией и Пруссией, по существу, на стороне Австрии:






