Русский ад. Книга вторая Караулов Андрей
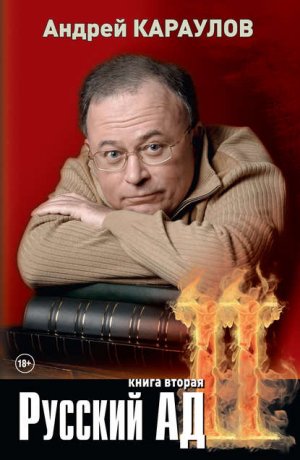
— В этой — никто. Там одни петухи, их же не жалко!
Только сейчас Егорка действительно видел Дениса.
— Говорить можешь?
— М-мо… гу кажись… — вышепнул он. — Сидеть чтой-то трудно, товарищ. Валюся я…
— Не свалишься! Быстро кресло! — крикнул Денис конвоиру с лычками. — Найди где хочешь и мгновенно, аварийно ко мне!
Чем глупее народ, тем быстрее бегает он перед начальством.
— По г-голове сад-данули… — объяснил Егорка. — Вы уж… извиняйте меня… товарищ начальник, если, значит, подвел кого. Головушка-то счас… тяжелая, и лечь очень хотца.
Если вызвать врача, он запретит любые следственные действия. А Иван Данилович торопит, бюджет на Егорку не выделен, чтобы врач разрешил допрос, ему надо что-то отсыпать, значит платить придется свои.
Денис снова подошел к Егорке.
— Кто тебя бил? Помнишь?
— Все били, товарищ начальник. Каждый по отдельному.
— Больше бить не будут.
— Спасибо вам…
— Слово даю.
— Спасибо, товарищ… А разве не вы их науськали?
— С ума сошел? — обиделся Денис. — Я — честный человек. А тебе сейчас кресло принесут.
Если бы Егорка мог заплакать, он бы, наверное, заплакал, но плакать Егорка тоже не мог.
— Кресло будет, — понял меня? — повторил Денис. — Будешь сидеть, как английский король!
Егорка приподнял голову.
— А если б короля того — и в камеру? Его бить будут?
Ожил, что ли? Может, ему водки дать?
После стакана (обычно — после первого стакана) заключенные подписывали у майора Мениханова все, что нужно подписать. Любые показания. И на себя, и на кого угодно.
Иван Данилович как-то раз рассказывал Денису, что Григорий Романов, всесильный хозяин Ленинграда, обрушился на Шостаковича за то, что великий Шостакович вступился за танцовщика Аскольда Макарова, подписал петицию в его защиту.
— Так что дали, голубчик, то и подписал, — развел руками Шостакович.
Всегда, испокон веков, власть в России вселяет в людей страх.
— Бить больше не будут, — повторил Денис. — Ты в кресле когда последний раз сидел?
— Я?.. — удивился Егорка. — В театре. На площади у нас, в Красноярске.
— Любишь театр? — удивился Денис.
— Так жена водила, Наташенька. Жизнь ушатала нас, конечно… но мы ж в Сибири… не только пить могем, товарищ майор.
— Ну?
— Так точно.
— А чай выпьешь?
Денис и сам удивился, что предложил егорке чай. Принес с собой водку, а предложил чай.
— Ну так… что? Погоняем… чаи?
— Зачем?.. Зачем… чай?
— Угостить тебя хочу.
— Угостить?
— Да.
— Так лучше к жене тогда отпусти, товарищ начальник…
— Отпущу, отпущу, — пообещал Денис. — Поговорим — и слеплю тебе, богатырь, билетик на свободу. Почему не отпустить, если ты — душа-человек!
Егорка всегда верил в добрых людей. Они встречались ему не часто, но встречались, да он и сам был добряком, а такие, как Егорка, всех других меряют по себе.
— Страшно, начальник.
— Что страшно?
— Чай. Год не пил чай. Мне ведь… что отрава сейчас гнилая, что чай. Вкуса не разберу.
— А ты привыкай, брат! Сейчас у тебя вся жизнь изменится. В люди вернешься.
Егорка обмер.
— Правда? В Ачинск?
— Нуда.
— Так я же заслуженно здесь, — всхлипнул он. — Я Горбачева убить хотел.
На глазах у Егорки выступили слезы. Что такое, а… — сколько раз он уже плакал за сегодняшний день?
— Какого Горбачева, друг? — не понял Денис.
— Ну этого, вашего… Из Кремля.
— Зачем?
— А чтоб людям не мешал…
— Горбачева? Михаила Сергеевича?!
— Горбачева, — кивнул Егорка.
Ну, дела…
— Как это… убить? — опешил Денис. Только сейчас дошел до него смысл сказанного.
— Я сам не знаю как… Убить — и все.
— Готовился?
— Куда?
— Не куда, а к чему? К убийству Президента Советского Союза?
Егорка развел руками:
— Так вот же, в Москву приехал…
— Дальше! — приказал Денис. — Что было дальше?
— У меня?..
— Как готовился? Оружие, квартиры, явки? Пистолет приобрел?
— А дальше, начальник, я в Москве потерялси… — развел руками Егорка.
— И что?
— Все?.. В подвале жил. Ящики таскал.
— А Горбачев?
— Что Горбачев?
— Ну, убийство?
— А как ты его убьешь? Ящиком, что ли?..
Егорка повеселел: майор — серьезнейший человек, вон как здесь стелются все перед ним, а не понимает, однако, что к Горбачеву просто так не подойдешь, здесь план нужен, а Егорка план так и не составил.
— Жестокий ты, Егор Семенович… — хмыкнул Денис.
— Так из-за морозов все, — откликнулся Егорка. — когда холодно, начальник, сразу отомстить охота. Я сибиряк, а холода не люблю.
Денис отложил в сторону ручку и сделал несколько шагов. Кабинет крошечный, каморка, а не кабинет, но пройтись можно.
— Значит, ты террорист, Егор Семенович…
— Не-а, красноярский я, из Ачинска. Надергали душу, начальник! — вдруг закричал он. — Я ж окончусь тут нынче, муку такую… не выдержу…
Слез у него в самом деле уже не было. Егорка плакал без слез.
Был когда-то на Руси такой обычай: если два человека вступили в конфликт (один у другого что-то украл), они выходили в чисто поле и начинался между ними «поединок», чем-то похожий на гладиаторский бой.
Дрались до смерти. Вот так и решался конфликт: кто выстоял, тот и победил.
Денис потер виски: да, еще чуть-чуть, и голова — точно расколется.
— …Я-те дам «окончусь»… — бормотал Денис — Меня, меня держись, старик! На хрена тебе умирать? А? На хрена, спрашиваю? Живи! Кресло сейчас принесут.
В самом деле: открылась дверь и конвоиры внесли большое красивое кресло…
— Разрешите, товарищ майор?
— Валяй!
Усевшись в кресло, Егорка почувствовал себя… не королем, нет, конечно, но снова — Егоркой. Он заулыбался и даже спину распрямил: тюрьма, камера, решетки… но какая уважуха, черт возьми, кресло принесли!
Может, правда… домой отпустят? И бить не будут? Может, правда… новая жизнь начнется?
— Запомни, друг, — говорил Денис. — Ты споткнулся, но не упал. А Горбачева и я бы прикончил, Горбачев — это не преступление!
Егорка вздрогнул. Он смотрел на Дениса с надеждой: чин у человека большой, серьезный, если уж нельзя, чтоб не били, пусть бьют, но не сильно…
— Итак, — Денис открыл папку, — кто же ты у нас будешь? Иванов, Егор Семенович, год рождения — 45-й. Место рождения — деревня По-хлебайки Красноярского края, женат, детей нет. Жена… Трегубова Наталия Степановна. Тоже 45-й и тоже Похлебайки…
— Ага. Красноярские мы…
— И как ты, значит, в Москве очутился?
— Так на заработки подался.
— или Горбачева прикончить?
— А то заодно. Если время будет и напарник.
— Нашел напарника?
— Не, можно сказать… запил я. Уж больно Москва… город большой.
Денис все вносил в протокол.
— Какое орудие убийства?
— Что?
— Убить как хотел?
— А как выйдет… Дело ж не хитрое — убить. У нас, у русских, это ж без натуги всегда. Что под рукой — можа, камень, можа, просто руками…
— У тебя руки сильные?.. — заинтересовался Денис.
— Так плотник я. Как иначе?
— В Москве работал? — Денис писал очень быстро.
— Ящики носил.
— В магазине?
— Так точно. Садово-Триумфальная.
— А ювелирку не подламывал?
— Чегой-то?
На Садовом кольце, рядом с подвалом, где раскопали Егорку, был только что ограблен ювелирный магазин.
— И много, Егор Семенов, ты заработал?
— Заеду. За еду бегали. Даже на билетик домой несложилоси… И на баню не было, так что завонял я, товарищ майор. А воровать мы не могем, потому как от воровства людям беда делается, а людоедов сча… и без меня много…
Денис писал, не отрываясь.
— Не воровал, значит?
— Не-а! Нельзя, чтоб люди потом плакали.
Егорке показалось, что говорит он сейчас очень даже убедительно.
— И домой… значит, охота? К жене?
— Конечно! Огоркнул я тут.
Денис усмехнулся:
— Если бы, Егор Семенов, ты раньше ко мне обратился, я б тебе тут же помог, теперь сам посуди: бомжевал? Бомжевал, еще как…
— …Да разе ж я один, товарищ начальник? — робко возразил Егорка. — Ведь счас, небось, полтыс-щи народа бомжует…
— Нарушал паспортный режим? — продолжал Денис. — Нарушал. Получал, таская ящики, зарплату? Хотя бы продуктами? А налоги платил? Все граждане России платят налоги. Ты — уклонялся. Но самое главное, намеревался убить гражданина Горбачева, Михаила Сергеевича. И сам же чистосердечно в этом признался.
Подготовка к убийству — 10 лет тюрьмы. Может, и больше. Как суд решит.
Егорка залился слезами. Он плакал по-детски, навзрыд, — в России, впрочем, все люди плачут по-детски.
— Ты меня лучше… к жене отпусти… — бормотал он. — Кто с добром ко мне, я в ответ…
— А что надо, товарищ?
— Тебе? Тебе, брат, надо вот что…
И Денис подробно, в деталях рассказал Егорке, в чем он должен сознаться и какие бумаги ему нужно подписать уже сегодня.
Денис налил Егорке водки и протянул ему чернильную ручку.
С ходу Егорка не смог запомнить имена тех людей, кого он, как говорил Денис, перестрелял в Красноярске, но Егорка дал ему слово, что он не подведет и напишет все, как хочет Денис, его новый начальник.
Ночью, в камере, Егорка попытался покончить с собой — разбить голову о тюремные стены. Он отполз подальше от шконки, потом разбежался и с размаха так саданул головой по кирпичам, что кровь прорвалась ручьем.
Крик был страшный. Жизнь — занятие не для каждого…
Егорку схватили, обвязали голову тряпками и сдали в медчасть.
Кровь засохла, сознание вернулось; рана оказалась неглубокой, ее тут же зашили.
Целый месяц Егорка катился до Красноярска.
79
Вот же он, эффект от передачи с Говорухиным: письма, письма, письма! Они летят сейчас в Вермонт отовсюду — истошный, всеохватный, многотысячный человеческий крик!..
Возглавив «Останкино», Егор Яковлев, очень смелый — в прежние годы — редактор «Московских новостей», стал предельно осторожен. Он почти полгода держал интервью Александра Исаевича у себя в сейфе, показал его только сейчас, зимой… спасибо, кстати, что не сильно порезал…
Говорухин — пропал. Опытный… — уже не раз пожалел, наверное, что приехал в Вермонт. В разговоре ему тогда многое не понравилось, особенно — фраза Александра Исаевича, что «малочисленные ловкачи» за бесценок скупают сейчас ваучеры у «недоуменных одиночек», чтобы прихватить «жирные куски государственной собственности», — он же приехал к Солженицыну как к демократу (иначе бы не поехал), а тут — прямая антисоветчина, можно сказать точнее — антигайдаровщина…
Заглянула Наталья Дмитриевна:
— Лекарство выпил?
— Потом… — попросил Александр Исаевич. — Собери повечерять…
Их привязанность друг к другу — как закон природы: почему-то там, где дуб могучий широко, свободно раскинул свои ветви, рядом с ним всегда ютится какая-нибудь березка — тонкая и худая. И хотя дуб забирает из земли все соки, да березка не в обиде, ведь дуб без нее тоже теперь не проживет, они притянуты намертво, это ж надо было так найти друг друга и так друг к другу привязаться!
Да, хорошо ей, очень хорошо рядом с дубом под могучей листвой; солнца не видно — ну так что ж, сегодня солнце есть, завтра — мгла непроглядная, но ведь дуб, его крона, надежно закрывают березку от всех ветров сразу, от дождя и от снега, который, бывает, идет по целой неделе…
Россия расплющена. Притих народ. Какая-то трагическая придавленность камнем лежит на всех, словно время остановилось и будущего — уже нет, исчезло…
Намедни Александр Исаевич наблюдал — по телевизору — встречу Ельцина и банкиров. Какие у них лица, Господи! И это самые толковые люди в России, и на их плечах, их таланте стоит сейчас вся финансовая система государства[50]?
Перед Чубайсом насмерть, как в 41-м, стоит Лужков. В одиночку? Другие… что? Не такие сильные? Как же так? Россия, куда ты делась?
У Лужкова — жесткое правительство; если в городе порядок, его видно на каждом шагу. Вроде бы Лужков и Чубайс раз и навсегда договорились: Чубайс не входит больше в дела столицы.
И вдруг — как обухом по голове: руководитель Госкомимущества потребовал отдать Лужкова под суд, ибо Лужков, как заявил Чубайс, «вызывающе саботирует все решения федеральной власти».
А в подтексте: лучше бы сразу Лужкова расстрелять, ведь он все равно мешать будет…
Неужели Ельцин опять все переиграл? Кто-то из допущенных в Вермонт, Никита Струве, например, был в восторге (и даже в какой-то эйфории) от того, как «валятся нынче Советы». Когда Горбачев и его верный холуй, Кравченко, показали всей стране, как вдребезги пьяный Ельцин разговаривает в Нью-Йорке со студентами, Струве почти убедил Александра Исаевича, что в России надо бояться не тех, кто пьет, а таких, как Горбачев, борцов за трезвость, хотя Александр Исаевич всегда сторонился людей, чей язык, как у Горбачева, упрямо опережает мысли: болтун может так улакомить страну, что опомниться не успеешь, как все потеряешь!
А эти… такие, как железно уверенная в себе госпожа Старовойтова, подкупали — всех — своей прямодышащей взволнованностью (и даже академик Сахаров ходил за ними, как собачка на поводке)[51].
…Тоска началась внезапно, в общем-то с пустяка.
Александр Исаевич работал в кабинете, писал не разгибаясь, как заведенный… — словно вихрь какой-то мгновенно переносил его в революционный Петроград, в 1917-й, на вздыбленные беспорядком улицы…
Давным-давно, еще с четверть века назад, Александр Исаевич математически рассчитал, сколько времени уйдет у него на «Красное Колесо», если каждый день — «раздвинулись сутки, раздвинулись месяцы…» — писать по 12–18 страниц.
Именно так, каждый!. Без праздников, выходных, каникул и отпусков.
«Пока я жив, усталость для меня не существует…»: вперед, к цели всей его жизни — низвержению Ленина.
Сейчас Солженицын идет с хорошим опережением: «завязан» уже март 17-го, только бы не надорваться сейчас, сберечь силы и глаза. Любая болезнь — она же от недогляда за собой, значит — жена плохая, а Наташа («Я Христа забуду ради тебя…») лучшая жена на свете!
Писалось и правда легко:
Десять лет позади думской трибуны висел огромный портрет Государя в полный рост, терпеливый свидетель всех речей и обструкций, но все же символ устойчивости государства. И вдруг сегодня утром увидели: солдатскими штыками портрет разорвали — и клочья его свисали через золоченую раму…
Александр Исаевич только на секунду распрямил спину. Господи, что это?.. Почему у него — вдруг — перед глазами сейчас Дзержинский? Тот самый, лубянский, с бородкой, как стамеска, в распахнутом каменном пальто и в огромных ботинках…
Какие-то парни пригнали сюда, на Лубянку, башенный кран и набросили на Дзержинского петлю.
Ночь, истошные крики, пылают фары машин, множество телекамер, журналистов… и «железный Феликс», символ ГУЛАГа, который вот-вот рухнет на клумбу, похожую больше на могильный холм.
«Солдатскими штыками портрет разодрали…» — а перед глазами сейчас стоит Дзержинский. И та самая ночь. А еще — парни, окружившие памятник: мордастые, здоровые, сильные; даже сейчас, в темноте, видно, как раздуваются их волосатые ноздри…
Дзержинский для этих молодчиков — символ их тюремных страданий. В прежние годы они настрадались, похоже, от «чрезвычайки», точнее — от ментов. Они и их банды…
И схватила его зареберная боль. Да так схватила, что Александр Исаевич чуть не вскрикнул.
Господи, а это еще что?
В тот момент, когда Дзержинский грохнулся наконец на холодную клумбу, CNN вдруг показывает его, Солженицына — главного (это жирно подчеркнуто) борца с советским режимом! — Ночь, Лубянка, Феликс Эдмундович на мокром холме, и он, Солженицын, бодро идущий в новой пыжиковой шапке к советскому самолету, вылетающему во Франкфурт[52].
Он-то думал, на Лубянскую площадь выйдут студенты, поэты, уличные барды — такие («мы хотим перемен»!), как Виктор Цой… а здесь казнь и парни, как откормленные золотым зерном бычки…
Памятник Владимиру Ильичу на Октябрьской площади никто не тронул, между прочим, — Ленин не так ненавистен «быкам», как Дзержинский. — Александр Исаевич, не устававший повторять, что вселенинско-сталинские фюреры должны быть очистительно прокляты Россией, он… тот человек, кто больше всех, наверное, хотел
бы видеть и Ленина, и начальника «чрезвычайки» (Берия считал Дзержинского душевнобольным) в помойной яме… сейчас Александр Исаевич сидел у телевизора с опрокинутым лицом.
И CNN показывает — в эту минуту — его, Солженицына! Автор «ГУЛАГа» как живой символ революции Ельцина.
А спросил у него кто-нибудь, что он думает о России с ее нынешним обвалом и о Ельцине?
Поставить бы здесь, на Лубянке, монумент: Владимир Ильич приказывает Дзержинскому — выкинуть эсера Савинкова в окно!
Дзержинский кидает…
Оп-па!..
Чудовищную жестокость Дзержинского можно объяснить только его ужасной болезнью. И это — еще раз — говорил другой палач: Берия!
Демократы казнили Дзержинского. Символическая, но казнь.
Опять казнь…
Александр Исаевич, тридцать лет (или больше?) изучавший русскую смуту… — да, Александр Исаевич знает, чувствует, что уже завтра утром все, кто здесь, на Лубянке, организовал «народную расправу во имя всеобщего блага», они, все как один, бросятся к Ельцину, к Руцкому, к Хасбулатову за должностями, то есть — кабинетами, квартирами и госдачами.
Через месяц Солженицын прочтет в «Курантах»: двенадцать ближайших сотрудников Руцкого имеют, оказывается, скрытые ото всех судимости, причем — по чисто «бандитским» статьям.
Некий Мирошник, советник Руцкого, имеет четыре судимости, и каждая статья у Мирошкина — одна веселее другой.
Все, кто пришел к Ельцину, получат роскошные квартиры: Тверская, Патриаршие пруды, Мясницкая, Арбат…
А еще лучше — тихая, прелестная Осенняя улица, самая черта города, вокруг лес, покой, тишина…[53]
…Пухнут, пухнут «узлы» «Красного колеса»! Не он, Солженицын, владеет сейчас материалом: материал овладел им.
«Красное колесо» — главная книга его жизни. Задумана еще в Ростове, до войны. Как ответ «Тихому Дону»: те же годы, те же события, только взгляд другой — честный и всеохватный.
Не дает, не дает Шолохов покоя! «Стремя «Тихого Дона»…» — это была глупость, конечно, утверждать, что дописывал «Тихий Дон» тесть Шолохова, станичный атаман Громославский. — А «Судьбу человека» тоже тесть написал? Или «Донскую повесть»? рассказы деда Щукаря?
Он вдруг представил, как смеялся Шолохов, читая «Стремя». А скорее всего, и читать не стал: если не Шолохов написал «Тихий Дон», если на самом деле существуют эти огромные рюкзаки — архив Федора Крюкова, так что же не разобрать бы этот архив сразу, переправив его на Запад? И увидят все: «Шолохов не просто взял чужое, но — испортил: переставил, изрезал, скрыл…»
Да и существует ли она, та заветная тетрадочка? Когда эпопея, одной только тетрадочкой не обойтись, это годы работы, «тысячи тонн» бумажной руды, по тридцать раз приходится черкать-перечеркивать…
В самом деле: если «места отдельные рассыпаны у Крюкова… просто гениальные…», — что ж не показать их, эти гениальные места? А тут вдруг Лев Колодный, журналист-ищейка, нашел все черновики
«Тихого Дона»: в них столько не вошедшего в роман материала (целые главы на самом деле), что можно только диву даваться…
И — все тот же вопрос, самый главный: коль скоро советский режим — преступный, значит все, кто служил Ленину и Сталину верой и правдой (от Курчатова и Ландау до Эйзенштейна, Улановой, Лемешева, Александрова и Орловой…), — все заслуживают разве что вервяного бича. — Но именно в таком трендеработает — сегодня — и радиостанция «Свобода». Очень смягченно — против коммунизма, но всем своим острием — по великим русским традициям, по старой русской культуре и (даже!) по православию…
Солженицын терпеть не может «Свободу» — но он же… он же сам совпадает во многом с ними, — разве нет?!
Да, в 1917-м (да и позже, в 30-е) Советы и Россию можно было еще как-то разделить. Но Великая Отечественная навсегда сплотила нацию. Победа была общей. Она была общей для всех, общим праздником: и для Сталина, и для воров-карманников?.. С тех лет, с войны, они уже неразделимы: страна и ее люди, ее режим. Только из вчерашних политруков Россия получила сейчас самых радикальных демократов. Больше всего Александра Исаевича поразил некто Кох — «правая рука» Чубайса, как он сам отрекомендовал себя в эфире американской радиостанции WMNB, предложив (во время беседы) журналисту Михаилу Бузукашвили называть его «просто Алик»:
— Все кричат сегодня (коммунисты — особенно) об «ограблении народа». Нет, эти заводы никогда народу не принадлежали. Что касается того, что заводы уходят сейчас «по дешевке»… какие, например?
— «Норильский никель». Вы, Алик, оценили его в сто миллионов, а он стоит несколько миллиардов.






