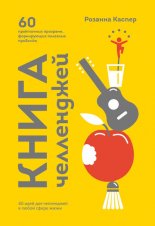По велению Чингисхана Лугинов Николай

Открывай направления святых деяний,
Будь умен и мудр, силен и терпелив.
Благословение по-якутски
Утренние барабаны числом более тридцати зарокотали так, что вспугнули окрестных птиц, а всадники, одновременно пущенные, как стрелы, на восток, север и юг, переполошили стада сайгаков. Одинокие зайцы вскидывались едва ли не из-под копыт лошадей.
Берег Онона высветило солнце, и из отверстия суртов, усеявших этот берег накануне курултая, к солнцу потянулись отвесные дымовые столбы.
А на курултай съехались почитаемые люди всех родов, вошедших в ил Чингисхана, и каждому роду во избежание тесноты и путаницы были отведены заранее уготованное место, дрова для костров, посуда и утварь. Ждали часа своего заклания сотни молодых бычков, табуны лошадей и овечьи отары, определенные для угощения. Тревожно метались, клубились, сбивались в горстки и бесполезно звали они покровителей своих судеб на помощь. Лишь бараны и овцы с доверчивыми глазами жевали жвачку.
И все это – в день, когда щедрое солнце играло на золотых ярлыках, полученных великими тойонами для обозначения их мест в главном круге. Но какими бы заслугами они ни обладали, первым вышел в круг ужасный шаман Тэб-Тэнгри, которого тайно боялись или ненавидели многие. Он рухнул на колени так, словно ушел по колено в землю, и воздел руки к синему чистому небу, и людям показалось, что небо затмилось.
Шаман испрашивал у высоких божеств позволения приступить к делу. Ему оставалось еще бросить в огонь костра пучок конских волос, чтобы дать всем почувствовать бодрящий запах жженого, а потом произнести слова простого алгыса[11] и отстраниться от действа. Однако шаман, сотворив обряд, громко возопил:
– Достопочтенные мои! Я, шаман Тэб-Тэнгри, несущий в себе земное доверие высших божеств, сегодня перед великим нашим курултаем имел видение! Слышите меня?
Нечто похожее на овечье блеяние было ответом на столь непривычное поведение шамана. Но он словно и не нуждался в ясном ответе на свой вопрос и продолжал:
– В этом видении верхние доверительно сказали мне, своему детищу: «Вы, монголы, собрали много родов воедино и тем положили исток великому илу. Мы, Верховные божества, назначаем вашим хаганом до поры до времени Тэмучина, известного под славным именем Чингисхан. Передай это», – сказали они!..
Люди еще больше стали похожи на овец – они смотрели один на другого и в оцепенении не видели ничего, кроме такого же тихого оцепенения на знакомых лицах. Не все поклонялись одному Богу, но любому из них полномочия шамана Тэб-Тэнгри, якобы полученные им, как кусок сушеного мяса от хозяйки, прямо от «верхних», казались сомнительными, а речь его – предосудительной. Сообразительный Джэлмэ широким шагом выбрался в центр круга и, высоко подняв правой рукой бунчужное знамя, левой рванул шамана к себе за спину и оттеснил в сторону. И внимание людей было приковано уже к новому штандарту – они указывали на него корявыми пальцами, шумели, цокали, сосредоточив на священном бунчуке всю страсть к походам и битвам, все надежды и опасения, свое прошлое, настоящее и будущее. Джэлмэ же, как китайский чревовещатель – не открывая рта, прошипел на ухо шаману:
– У-у, гадина линючая! От имени Бога, говоришь? Погоди, верхние перешибут тебе хребет за такую болтовню! Вон отсюда, мерин! – и шаман, придав лицу спесивое выражение, но испугавшись нешуточной ярости Джэлмэ, раздвинул толпу и отступил к ближнему сурту, где хранились его бубны и погремушки для камлания.
Все это длилось несколько мгновений, и Джэлмэ уже улыбался, еще выше подняв древко бунчужного знамени своей сильной рукой. Он выкрикнул:
– Тойоны! Здесь, на этом счастливом тюсюлгэ[12], нет посторонних – мы связаны единым ремнем. Смотрите на ваше новое знамя – оно будет вести нас к великим победам, если мы останемся в связке, если будем всегда о девяти ногах, как древко этого белокошного знамени, на котором вечно будет парить серый сокол батыра Бодончора!
Люди радовались. Лавина одобрительных возгласов и хлопков ладонями о колени только утяжелилась, когда в круг вышел Боорчу и с ленцой повел богатырскими плечами как бы в предощущении непременных сражений.
– Мы – свободные дети бескрайних степей! – слова его полетели, как брошенные катапультой камни. – Есть ли среди всех ста двадцати родов, которые собрались сегодня здесь, хоть один, кого принудили это сделать? Отвечайте мне!
Толпа смеялась, давая понять, что он говорит невообразимое, что все собрались по доброй воле. Люди выкрикивали что-то одобрительное, бодрящее. Восторг единения и ясность цели – все это рвалось из упрятанных во тьму душ тайников и сливалось в рев, способный испугать глубинную рыбу в Ононе.
Боорчу говорил:
– Все мы помним бессмысленные междоусобные сражения в этой нашей степи – кто выигрывал в них? Хищники, поедающие падаль! Мы только взаимно ослабляли друг друга, ибо всякой силе противостоит другая, более сильная. Но сильнее единой силы, заостренной для общего блага, нет. И мы, главы всех ста двадцати родов, собравшиеся здесь, воссоединяемся в общий ил. С этого дня кто бы ни пришел на нас со стороны – встретим так, что неповадно станет! Мы примем закон – джасак, единый для всех. Перед ним не будет ни великих, ни малых племен, ни прошлых заслуг, если пойдешь против, ни знатных родственников! А другие сами потянутся к нам, и мы будем прирастать день ото дня!
Но и он постарался умягчить выходку Тэб-Тэнгри, а потому жестом остановил возгласы одобрения и сказал:
– Вот только что шаман сказал, что воля Всевышнего Белого Аар-тойона велит нам избрать хаганом над нами Тэмучина, подтвердив имя Чингисхан. Так ли это, я не знаю, я не знаком с божествами. Но великие тойоны и без того посоветовались о грядущем. Мы решили то же самое. Согласны ли остальные?
Рев курултая говорил о согласии. Нового хана можно было возводить на престол. Повернувшись в сторону белого сурта, Боорчу воздел руку.
И под покров синего бездонного неба, где жили славные пращуры, в сверкающем боевом одеянии вышел Тэмучин, а за ним, словно невесомые тени, мудрая Ожулун, преданная Борте, ласковая Усуй, добродетельная Усуйхан и по-детски очаровательная Хулан.
Всем казалось, что вслед за Тэмучином шествуют его громкие победы, которые увенчаны золотой шапкой и увязаны золотым поясом на тонком стане человека, которого сейчас усадят княжить на белый священный войлок.
«Мы вознесли тебя на белом войлоке над собой и под Богом, присвоили тебе имя Чингисхан, посадили на великий помост. Мы отдали в твои руки свои земные и небесные судьбы. Преклонив колена пред твоим величием, мы клянемся тебе священной клятвой верности, говоря, что ни одно слово твое не упадет впустую, что каждый твой указ будет неукоснительно исполнен! Когда поразим противника, то самых прекрасных дочерей чужих племен и самых горячих скакунов будем приводить к тебе, а в мирное время из чащоб черной тайги, из гладких степей мы пригоним тебе лучшую дичь – правь нами! Если в кровавой сече мы не сможем стать твоим щитом и обороной – усеки нам головы, чтоб они упали с позором! Если в мирное время ослушаемся тебя, прогони нас из куреней наших в голые песчаные пустыни, где живет одноногий глиняный великан, пожирающий людей, как куропаток!» – твердил про себя юноша Элий Чусай, восхищенно глядя на происходящее и боясь поднять глаза на Чингисхана, казавшегося ему спустившимся с небес божеством. И когда Чингисхан заговорил, юноша едва не утратил дыхания, затаив его в груди.
Густой, как смола, и хрипловатый, как клекот старого сокола, голос хагана пронизывал людей, стоящих на малых и большом тюсюлгэ.
Он сказал:
– Монголы! Мы собрались по доброй воле во имя прекращения распрей, во имя обустройства великой державы, подобной которой еще не было. Но не будем отбрасывать наши копья, наши пальмы, наши луки и стрелы, не будем превращать в унылых кляч наших боевых коней. Великие народы, окружающие нас, не потерпят нашего усиления – мы нужны им слабыми и разобщенными. С востока – нучи, джирджены, с юга – кара-китаи, с запада – сартыалы и сарацины, а с севера – мохнатые таежные люди зорко выглядывают каждый наш шаг. И уцелеем мы лишь тогда, когда не станем ждать беды, а сами дадим событиям нужное нам направление, когда будем упреждать наших недругов в их помыслах. Тойоны! Один Господь знает, сколько до нас родилось и прожило в этих бескрайних степях замечательных по уму и деяниям людей! Что осталось от них? Каменные истуканы да курганы… Но вот вам слово человека, которого вы только что вознесли на белом войлоке, на которого надели золотую шапку, сделанную кузнецом Джаргытаем, и которому присвоили священное звание хагана: мы объединяемся не для наживы или господства над другими! Степь велика, в ее лоне пока еще всем хватает места, а мы люди не привередливые, нам требуется только пища да сочный воздух для дыхания, славящего Господа. Но все трудней стало в степи спокойно преклонять голову, не рискуя быть убитым, ограбленным, угнанным в неволю! И мы должны стать народом, а не сухим кизяком в топке времен! Так я говорю?
– Мы едины навеки-ы-ы! – рвалось из сотен глоток.
– Слава-а-а!.. Илу-у-у! – кричали люди с блестящими глазами и красными от волнения лицами. И что-то было во всем этом не только от бурного половодья, но и от черной распутицы: многие тойоны чувствовали, что приходит предел их тиранической власти над родичами, но как без нее жить? Власть даже над малым стадом дает человеку радость всемогущества и вседозволенности… Если это болезнь, то болезнь неизлечимая без вмешательства грубой силы. А хаган еще усиливал ясность своей речи, и воля его подавляла высокое собрание степняков. Он говорил:
– Пусть никто из вас не думает, что мы намерены ломать привычное течение ваших обычаев и порядков. Нет. Я буду делать все, чтобы каждый род делался богаче и множился числом. Но надо выжигать все глупое и враждебное. Какому тыквоголовому может быть по душе привычка бэситов постоянно дробиться на маленькие враждующие меж собой орды? или татарская скорая поножовщина? или кражи, убийства своих единоплеменников? Всем будет единый суд, Верховный суд, и его поводья я вручаю ученому Сиги-Кутуку. Я сказал!
– Ты сказал – мы услышали-и-ы-ы!.. – отозвались монголы.
– Завтра девяноста пяти выдающимся полководцам будут присвоены звания мэгэней-тойонов. А сегодня я, Чингисхан, угощаю всех вас и зову вас радоваться! Радуйтесь и торжествуйте!
– О-о-о-о! – охнуло в живом лесу, к которому обращался хан.
– У-у-у! – взвыло в его дебрях.
– А-а-а-а! – прокатилось эхо, словно отраженное от высокого синего неба.
Через многие годы и земли несли оставшиеся в живых память об этом…
С какой-то озаренностью на лицах вспоминали: «Вот тогда, на Великом курултае…»
А пока гости, приглашенные издалека, чтобы смогли удовлетворить свое любопытство к быту и настроениям монголов, чтобы разнести большую новость по миру, не могли не почувствовать всю скрытую мощь свершившегося объединения. Разведчики великих и сильных стран, привыкшие видеть в степняках полудикарей, были заметно озадачены. К тому же эти разнородные полудикари, назвавшие себя отныне монголами, приняли своих гостей с невиданным размахом, начиная от богатых даров и невольниц до облавных охот и диковинных рыбалок. Чингисхан рассчитывал, что, разъехавшись по своим царствам и государствам, эти люди разнесут молву о гостеприимстве, миролюбии и предсказуемости нового народа. Однако хан не мог не предполагать, что, рассказав чужим владыкам правду, они не расскажут ее народам, ибо зачем смущать народы? Но Джэлмэ, по чьему замыслу и были приглашены послы, внес ясность в мысли хана, заявив, что истинные вести по земле разносят не послы, а купцы.
– Увидишь, хан, так и будет! – сказал он, назначенный к службе по ведомству связей с внешним миром. – Наиболее смелые и угнетенные люди потянутся к нам, как воробьи на свежий навоз! А уже из них мы соберем черное войско, но лучших из них будем отбирать и приближать, доверять и возвышать.
– Да, Джэлмэ… нам не лишний и десяток воинов… Но дойдут ли вести?
– И вести дойдут, и люди придут, – уверял Джэлмэ. – Верь моему лисьему чутью…
И хан уже по-иному посмотрел на сотни веселящихся у костров нукеров, во взгляде его читалось спокойствие сытого тигра, который наблюдает за играми детенышей.
А люди пировали до утра у костров и засыпали кто где, но в полдень, когда тени стали ложиться в сторону севера, их сон нарушили бой кимвалов и со стороны главного тюсюлгэ – заунывная песнь нескольких хуров, цоканье копыт коней под порученцами, посланными Чингисханом. Они мчались с приглашением к главам родов, к почтенным и почитаемым старцам, ко всем тойонам, кто чином выше сюняя, прибыть на главный тюсюлгэ.
И вскоре в воронку тюсюлгэ были втянуты столько верноподданных, что Чингисхан не мог скрыть своего чувства: он улыбался, когда выходил в круг, и тщетно пытался спрятать это выражение, пощипывая усы. А воины уже притихли, ожидая слов повелителя. Он начал:
– Тойоны! Сегодня я, Чингисхан, присваиваю девяноста пяти тойонам чины мэгэнеев!
Каждое произнесенное им слово передавали из уст в уста, чтобы они дошли до последних рядов без искажений.
– Звание это я присваиваю старику Мунгулуку… Боорчу… Му-хулаю-Ке-Вану… Хорчу… Илигэю… Джиргедею… Хунану… Хубулаю… Джэлмэ…
Они выходили разные, чтобы стать равными по чину, и становились слева и справа от хагана или прямо за его спиной. Их ряды уплотнялись.
Хаган открылил правую руку:
– Командовать войском правого крыла назначаю тойона Боорчу – оно расположится вдоль подошвы горы Алтай! Я сказал!
– Ты сказал – мы услышали!
– Командовать левым крылом войск, – хаган открылил левую руку, – будет Мухулай-Ке-Ван! Его войско будет стоять в стороне гор Харайар! Я сказал!
– ы-ы-ы – ша-ли-ы-ы!
– Основное центральное войско возглавит Най-тойон! Хубулай будет главенствовать над всеми военачальниками и всем военным делом! Я сказал!
– а-а-а-а-ли-и-ы-ы-ы!
Хаган обводил взглядом своих черных псов, своих бьющих соколов, своих испытанных вояк, с которыми ему придется идти по грани между жизнью и смертью, славой и позором, честью и бесчестьем, – глаза тойонов выражали преданность, сопряженную с молчаливым достоинством. Хаган опустил глаза долу, потом возвел их горе, будто раздумывая, говорить ли самое важное или не говорить. Потом пощипал кончик уса, в котором еще не проблескивали серебряные жилки седины, и сказал:
– У нас есть четыре глубокочтимых старца… Всей жизнью их была война. Вы знаете их имена: это Хунан, это Кех-Джос, Дэгэй и это старик Усун-Туруун. И вы, великие тойоны, прислушайтесь к моим словам: любое свое важное решение принимайте только после обговора с нашими старцами… Ибо только глупцы и гордецы не признают опыта уходящих… Я сказал!
– Ты сказал – мы услышали!
– И еще одно! – продолжил хаган. – Джучи – мой старший сын, моя первая надежда! Потому тебе, почтенный Хунан, я велю подчиниться Джучи, приняв на себя звание тойона-тумэнея кэнигэсов. Я сказал!
– Ты сказал, я услышал!
– Да будут уши твои открытыми и сердце готово принять мое решение. Я продолжу. У нас с давних времен существовал обычай, который недобрым не назовешь. Сын нашего далекого предка Бодончора именем Баардый положил ему начало. А обычай был таковым: из его потомков выбирали самого почитаемого старца, присваивали имя «Бэки» и надевали на него белые одежды. Потом усаживали на белого коня и он благословлял рождение каждого нового месяца, смену каждого времени года. Этот обряд делал простые жизни наших предков исполненными высокого смысла. Так давайте же выберем старика Усуна нашим бэки, ведь мы все преклоняемся перед ясностью его ума и простотой его души. Я сказал!
Люди закричали, приветствуя нового бэки, когда он, ведомый под руки юными нукерами, выходил в круг, где на него надели белые одежды и усадили на белого коня. И люди, готовые идти путем доблести, еще вчера говорившие по каждому случаю «я», в тот день и час не заметили даже, как стали говорить «мы», радуясь этому и обнадеживаясь этим новым, еще неведомым ощущением свободы в подчинении воле сильного.
И когда хаган одарил особо отличившихся тойонов дорогими подарками и освободил каждого из них от ответственности за девять тяжких проступков, то эти достойные люди подумали каждый про себя, что никогда и не совершат их во имя оправдания своей свободы и ханского доверия. Эти незаурядные люди подобно столбам и стропилам понесли на своих плечах кровлю великого ила, под которой нашли свое пристанище народы и люди.
Элий Чусай сам напросился в отряд, который Алтан-хан снарядил на курултай. Он услышал, что требуется толмач, и предложил себя. А шел ему, худющему и длинному, как деревце в густолесье, семнадцатый год. Его, потомка верхушки древнего и почитаемого китайского рода хань, с младенчества приохочивали к разным научным премудростям, учеником Элий Чусай оказался благодарным. Из древних книг он узнал о разнообразии видимого мира и зажегся желанием повидать этот мир.
На его счастье, отец работал в те времена в посольской службе Алтан-хана и время от времени отсылался в дальние земли для исполнения важных поручений. Тогда Элий побывал с отцом в землях хоро-туматов, корейцев, в Южном Китае, что назывался страной Сун, и у тангутов. Шесть лет тому назад они приехали к татарам. Он легко запоминал вязь чужого языка и диковинные обычаи чужеземцев. Но только впоследствии отец узнал, что привезли они с сыном угрожающее татарам письмо Алтан-хана. Оскорбленные содержащимися в письме указаниями на некое нарушение договоров, горячие и необузданные в гневе татары схватили тогда все посольство Алтан-хана числом двенадцать и всем надели на шеи деревянные колодки. Разгневался и Алтан-хан, узнав о таком обхождении со своими людьми – он тут же отправил на татар лавину огромной китайской армии во главе с беспощадными джирдженами. Татары остыли и дрогнули, отступив на запад. Тут встретил их старинный враг Тэмучин-хан и запер в ущелье меж двух гор, а потом и разгромил наголову.
Люди Алтан-хана возликовали, когда освободились от позорных колодок и восседали на победной тризне Тэмучина дорогими гостями-мучениками, принявшими муки от общих ненавистников. Они чувствовали себя сопричастными к этой победе монголов, и в их сердцах осталась память о чудесном избавлении от рабства, а сами монголы стали казаться людьми особого склада ума, совести, мощи. И вот прошло будто бы не шесть, а все шестьдесят лет – так стали они могущественны и богаты, эти монголы. И строй их новой жизни был не похож ни на один известный. Посланники Алтан-хана, люди бывалые и неглупые, не могли не заметить этой особицы. Иное дело их нынешние цари – потомки немногочисленного, но могучего духом рода джирдженов, которые сто лет назад завоевали Китай, но до сих пор не дали ни одному из народов поднять к небу глаза.
Джирджены – воины. Люди умудренные, они не снисходили до мелочей жизни покоренных народов. Стоило одной голове подняться – она слетала, поднимались десять голов – слетали, так и не донесши до властей причины своего неповиновения. Джирджены всякое неповиновение топили в обильной крови. Люди радовались самому виду восходящего светила, потому лишь что дожили до утра.
Джирдженов местные народы Китая называют нучами. На самом деле за сто лет эти нучи давно кровно смешались с китайцами, приняли их язык и постигли науки, но все равно считали себя высокородными, а всех остальных – подлыми людьми. Почти в каждой семье уже несколько поколений или отец, или мать были из местных народов, но рядом с китайским начальником, какими бы выдающимися способностями тот ни обладал, непременно ставили нучу. В принятии решений даже пустое слово нучи всегда перевешивало золотое слово китайца, а суд нучи был быстр и жесток. Так можно ли, не будучи рыбой, дышать в этой мутной воде? Можно ли, не будучи птицей, улететь из клетки подхалимства, доносов, мелких подлостей? Можно ли равнодушно слышать, как нучи говорят: «Китайцев много, и чем больше мы казним неверных, тем чище будут наши ряды?»
И взрослеющий Элий Чусай был покорен миролюбием монголов, их равным отношением ко всем людям разных племен и наречий, а ведь он, Элий Чусай, прочел уже немало книг, повествующих о живших прежде него народах. Ничего похожего на устройство великого монгольского ила он в этих книгах не встречал. Он читал о римлянах, которые завоевывали много стран и учреждали свои колонии, и покровительствовали слабым, но не смешивались с ними и не давали войти в силу, чтобы не нажить себе врага, не вскормить змею на своей груди. Римляне умели обуздывать сильных и не допускали проникновения чужих влияний в завоеванные ими страны. Монголы же, признав всех равными перед единым джасаком, словно бы делились сухой лепешкой, а не заслугами и силой. «Странные люди, – думал о них Элий Чусай. – Даже у хуннов и тюрков, которые славны своими мудростью и выдержкой, пришлый человек получал полное воинское снаряжение только после многолетней службы, доказывающей его преданность новым царям. Первое время такого приблудного держат на заготовке дров, он собирает кизяки для костров, работает кожемякой, чтоб выбиться в помощники кострового или повара, потом он работает помощником при черном войске или посыльным, и этим ему уже оказана определенная степень доверия. Только лет через пять черных трудов ему дают копье, затем – пальму, а уж лук-то со стрелами – добудь в бою… Лет семь он не имеет права садиться на коня. И стать простым нукером, свободным воином по прошествии времени – предел мечтаний пришлого человека…»
Элий Чусай, обладающий для подобного рода размышлений хорошим запасом книжных и житейских знаний, не мог не отдать дань восхищения Чингисхану за его отличие от иных завоевателей хотя бы в том, что он провел грань между военной и мирной жизнью своего народа. Окончание всякой войны подтверждается особым указом, и тогда никто уже не смеет обнажить саблю и всуе размахивать ею – оружие зачехляется и вместе с этим изменяется норов людей: они становятся более открытыми и спокойными. Ведь замечено, что люди, которые вчера еще бились меж собой, по прошествии времени садятся за один стол с улыбками на лицах. Они могут со смехом вспоминать дни минувшей войны, как праздничное соревнование силачей или соперничество из-за девчонки. Злоба и месть засыхают, как засыхает пролитая кровь. Юноша отметил и то, что после войны монголы особо чествовали не тех военачальников, которые держались молодцом и являли чудеса владения оружием, а тех, кто, полагаясь на свою голову, без потерь мог хитро и неожиданно провести боевой маневр. Еще удивительней то, что монголы после войны собирали в круг противоборствовавших недавно тойонов и расчленяли сражения на составные, чтобы указать каждому на его ошибки и промахи, с каким бы самодовольным видом он ни кичился. Смывались слои на картине боя, и многое уже виделось иначе тем, кто остался в живых. Так выяснилось, что в самом лютом бою нельзя расстраивать свои ряды, а каждый нукер обязан знать свое место, как на облавной охоте, только тогда бой становится управляемым, как дамасский клинок в умелой руке. Выяснилось и узаконилось, что приказы тойонов-сюняев нужно всем выполнять одновременно и четко, не раньше и не позже других – тогда любое, самое многоглавое войско становится змеей, всегда готовой ужалить. По команде это войско поворачивает влево или вправо, вперед или вспять во время самой бешеной скачки, чтобы первым оказаться на возвышенности или с наветренной стороны – там, где выгодно, там, где победа. И у монголов уже все получалось. Успех окрылял всех от мала до велика, объединял разноязыких и разноплеменных в единую необоримую силу.
На второй день курултая Чингисхан послал за людьми Алтан-хана, которыми водительствовал тойон по имени Сюйкэ.
– Мы польщены, что из всех подданных Поднебесной империи именно нам выпал жребий, который позволил принять посильное участие в столь великом собрании, – после долгих церемоний сказал Сюйкэ, толстый нуча, чья упитанность говорила о знатности, – мы собственными недостойными глазами видели, как под вашей могучей дланью, о Чингисхан! – родился ил, равных которому не знали живущие в Поднебесной!..
Хаган терпеливо выслушивал множество подобного славословия, давая переводчику возможность не спешить, задавал вопросы, далекие, казалось бы, от происходящей церемонии. Когда пришло время ответного слова, оно прозвучало на удивление скромно, что поразило толмача Элия Чусая скрытым достоинством, которое присуще, может быть, богам. И звучало это так:
– Передайте повелителю великой Поднебесной империи, что мы только начали сливаться воедино и что рано еще возносить до заоблачных высот ил, еще не окрепший и не вставший на ноги. Четыре года назад мы с досточтимым Алтан-ханом победили супротивных татар и заручились обещанием взаимной выручки и помощи. Так пусть же Алтан-хан считает, что со стороны заката еще защищает надежная стена наших копий, наших пик и стрел. Я горжусь тем, что имею такого друга и союзника, как великий Алтан-хан!
Низко поклонился Сюйге, прежде чем ответить:
– Мы передадим нашему повелителю добрую весть о том, что вождем могущественного ила стал брат из братьев Алтан-хана – Чингисхан и что он стремится только к добру и миру!
Сразу же после этих церемоний нучей повели на угощение.
Элий Чусая повел, держа за руку, однолеток его младшего брата – третий сын хагана по имени Угэдэй. Рослый, с намечающимся мощным разворотом плечей и живыми глазами юноша спросил толмача:
– Ты не помнишь меня? – И глаза его хитро поблескивали. Видя смущение и замешательство Элий Чусая, он не стал длить муку и объяснил, что они встречались во время освобождения отца и сына из татарского полона.
– Я бы не узнал тебя, – еще больше смутился юный толмач. – Ты ведь тогда был не выше бараньего курдюка! Уж не сочти за невежливость, но я говорю правду! Теперь-то ты выше меня, а я не маленького роста!
Угэдэй тихонько и счастливо заулыбался и сказал словно бы невпопад:
– А я ведь свободно говорю на языке хань! – И продолжил на родном языке Элий Чусая: – Старуха Хаохчинь просила привести тебя, хочет повидаться и поговорить с тобой. Мы называем ее бабушкой Хайахсын. Она всех нас вынянчила и рассказывала много о старине…
– Да, парень, с языком у тебя лучше некуда, – похвалил Угэдэя опытный толмач и не удержался от дружелюбной улыбки.
Тот принял похвалу с ответной улыбкой и поспешил поинтересоваться:
– А сколько языков знаешь ты, Элий Чусай?
– Я говорю и на языке нучи…
– То есть на языке джирдженов?
– Верно. А еще могу говорить и понимать по-тюркски и по-монгольски.
Зеленые глаза Угэдэя округлились, в них погас отсвет улыбки:
– Как же ты, а?.. – растерянно и удивленно спросил он, замедлив шаг, а через миг и вовсе останавливаясь. – Как же ты смог?
Элий тоже остановился и сказал:
– Но ведь и ты смог… А к тому же у нас сызмальства обучают языкам, как у вас выездке. Чему же тут удивляться? В детстве кажется, что все это ни к чему, а потом понимаешь, что знание за плечами не носишь, оно само впереди тебя бежит.
Элию понравилось в пареньке то, что он думал, прежде чем говорить. Вот и сейчас он помолчал над сказанным, а потом согласился.
– Да, – сказал он. – Это, похоже, так… Ты умный. Вас учили, однако, не только языкам?
– Нас учили многому. Рассказывали о том, как жили наши предки, об учениях древних философов, о секретах воинской науки, об азах строительства, о жизни растений. Время от времени наши знания испытывали, чтобы проверить, может быть, способности каждого к наукам… Но знания не есть ум. Ум – это умение приложить знания и вырастить их, как полезное дерево. Ведь плоды знаний часто бывают ядовитыми…
Угэдэй, не удержавшись от бурного проявления чувств, ударил ладонью о стегно:
– Ух-се! Как ты рассуждаешь! Пошли скорее к бабушке Хоахчинь, пусть она обрадуется такому сородичу! – И, схватив Элия за руку, поволок его, и вскоре старая Хайахсын поспешила ему навстречу, понюхала лоб, говоря:
– Вот так вымахал, дитятко! И всего-то за четыре года. Вы только посмотрите!.. Ну и ну!..
Под ее ласковое бормотание Элий думал о том, что речь ее на языке хань такова, словно она лишь вчера покинула родину, а не полвека назад. Он и не заметил, как выскользнул из сурта Угэдэй, стараясь не мешать разговору сородичей. А Хайахсын дотошно расспрашивала о знакомых местах, о том, не изменились ли обычаи, так ли идут дожди и растут овощи, как это было в ее розовом сне, называемом девичеством.
– Да-да-а… И меня считать учили, – говорила она, держа в своих пергаментно поблескивающих ладонях руку юноши. – Вот я и считаю: весной истекло ровно пятьдесят два года с тех пор, как я рассталась с родиной… Половина моего сердца там, половина здесь, а болят обе… Бедная моя земля! Неужели чужаки будут веки вечные править в Китае, а, сынок? Всем распоряжаются нучи: и жизнь ваша и смерть ваша в их кулаке… Так?
Элий Чусаю отчего-то было стыдно перед старухой. Словно это он сам впустил нучей на родину и словно в его силах изменить ход времен, а он, Элий, не хочет или ленится.
– Да, бабушка, всем распоряжаются нучи. А если кого заподозрят в непослушании, истребляют весь род, бабушка… Это так.
В лице старухи проступили мужские черты – так показалось Элию в какое-то мгновение, так падали отсветы очагового огня на ее лицо. Она сказала:
– И раньше было так… Живы ли мои родные? Ведь у меня несколько младших братцев и сестер… Мы, китайцы, помалу не плодимся…
– А где же вы жили?
– Город Джунду знаешь? Недалеко от него на берегу реки стояла наша фанза. Рис выращивали, чумизу выращивали, гаолян выращивали, – кому мешали? Тем и кормились… Как только моя косица до пояса отросла – отдали учиться на царский двор. Я, сынок, смышленой девчуркой была. Вышла в служанки, поставили меня приглядывать за одеждой хотун… Все мне нравилось. Потом царь вызвал нашего тойона и отправил наместником своим к татарам. Звали нашего тойона Чунхаем, добрый он был человек, хороший хозяин. Тогда ученому нуче совсем не хотелось ехать на жительство к дикому степному народцу, но царское слово – закон. И взял он жену с детишками, горстку слуг да и поехали все мы на север. Прожили у татар семь лет, и тогда схватили они монгольского хана Амбагая. Ты знаешь, что с ним сделали?..
Элий знал, что Амбагая отправили на казнь Алтан-хану, тем самым подкинув хворосту в огонь вражды. Хворост заполыхал – вражда превратилась в войну. А Хайахсын рассказывала:
– …Однажды войско монгольского батыра Джэсэгэя прорвалось в ставку татар, началась рубка, пошла сеча, головы летят, все горит, не поймешь, кто кого ломит… Да… вот тогда начальник татарского войска Тэмучин-батыр попал в плен…
– А что стало с Чунхаем? Его убили?
– Этого я уже не знаю, деточка. Слышала стороной, что отпустили, как человека Алтан-хана. Монголы уже тогда не трогали чужестранцев во время войн.
– Как же ты-то к ним попала?
– Судьба… Нас, то есть всю челядь, пригнали куда-то, потом приспособили к делу. Меня приставили к жене Джэсэгэй-батыра Ожулун-хотун. И что ты думаешь? На третий день моей службы она родила сына, который зажал в правом кулачишке сгусток крови! Это и был Чингисхан. Как тут все озарились! По приметам выходило, что родился человек, способный нас всех оградить и защитить, ведь шаманы и прорицатели за много лет предсказали рождение этого человека, равного которому не было и не будет в веках.
– О-о! – уважительно покачал головой Элий. – Слух об этом коснулся ушей каждого… И все же удивление не проходит. Все предсказано, все написано в книге человеческих судеб!
И Хайахсын взволнованно закивала: да-да… там на небе все известно наперед… И после молчания произнесла:
– Оказывается, у монголов издавна рождаются большие, очень большие шаманы… Да-а-а, деточка… Очень-очень могущественные шаманы у них рождаются от обычных женщин…
– А тот, кто говорил слово на тюсюлгэ курултая, он верховный, да? Глаза у него, как у рыси ночной, бабушка… Глянешь в них – и смерть увидишь, да-а-а!
– Э, нет… Есть и поболе этого… Большого шамана сразу не заметишь… Это черная лошадь в ночной степи… А этот больше кривляется. Наверно, он себе кажется настоящим шаманом. Но я его мальчишкой помню – все норовил к себе внимание привлечь, что ему ни дурно – то и хорошо… и на курултае он лукавил, показывал всем свою близость к Богам. Однако когда я перевела его слова нучам, у них аж лица повело, как от лимона!
Хайахсын утерла слезу и улыбнулась устало:
– Есть нерушимые обычаи. Ханом становится только тот, кого признали добровольно вожди всех племен и поклялись ему в верности и покорности. Они поднимают хана над собой, но под Богом – понятно? Шаман, как и все остальные, знал наверняка, кого признают ханом. Старайся вникать в подобные хитрости, у тебя ума хватает, как я вижу. Наверное, и твои нучи тут находятся не напрасно, а вникают. Так?
– Да уж они-то сами считают, что своей выгоды не упустят. Они ведь уверены, что соль Вселенной – земля Цзинь, а сами нучи избранный Богом народ, сошедший с небес, чтобы устроить мир, бабушка… Они уверены, что истинный порядок жизни в Китае начался девяносто шесть лет назад, со дня основания династии Цинь. Народ же хань жил, по их разумению, как стадо неразумных тварей… Они горы бумаги исписали. Все о том, что они главный народ земли… Ох, бабушка, бабушка! Язык не поворачивается, сердце изнывает, глаза их видеть не хотят!
– Молодые увидят другую жизнь, – сказала Хайахсын и легко, молодо вздохнула, облегчив душу беседой с земляком. – Мы потомки великих народов хань и кидань. Не нужно испускать дух прежде времени…
– Но посмотрите, посмотрите! – загорячился Элий. – Здесь, за сотни ли от ушей и глаз нучей, мы с вами, эджиэй, разговариваем шепотом… Насколько же мы пали духом!
На это эджиэй ответила:
– Все проходит, как дождь… Дитя, которое я нянчила на своих руках и кормила жамками, стал властелином многих земель. Мы знали нужду и ели тарбаганов, лесные коренья, рыбу, которую ловили в озерах мальчишки… Но последние станут первыми, если у них есть цель… И если они не пьют много архи… Ты пьешь архи?
Элий Чусай смешался, не зная, что ответить: он как раз сегодня собирался отведать этого бодрящего напитка по уговору с Угэдэем. Но тут за пологом сурта кто-то кашлянул, обозначая присутствие, и этим человеком оказался сам Угэдэй.
– Иди-ка, иди-ка сюда, – поманила стоящего у порога, как слуга, отпрыска Чингисхана. – Иди-ка сюда, мой быстрый мышонок, мой глупый осленок, мое незакатное солнышко! Скажи мне, мой неразговорчивый каменный истукан, куда вы собрались с Элием?
– На рыбалку, сети осмотреть… – смущенно отвечал Угэдэй. – А ты что подумала, эджиэй?
Старуха погрозила ему пальцем.
– Смотрите! Не такие деревья валились! Выпейте, да понемногу!
– Да мы понемногу, эджиэй! – подхватил Угэдэй. – Для радости и веселья!
– Зайди ко мне прежде, чем тронешься обратно, – сказала старуха Элий Чусаю и махнула рукой, отпуская юношей восвояси.
Элий с Угэдэем поели жареной на рожнах жирной нельмы у рыбаков, у охотников – свежего косульего мяса и выпили архи столько, что поутру их подняли не лучи жаркого солнца, а незнакомый парень с каким-то странно сверкающим железным щитом.
– Вставайте, эй! Всех зовет к себе хан! Вставайте, медведи!
Но встать было не так-то просто.
Элий едва добрался до заднего войлока сурта – в голове его плавилось некое неведомое вещество. Предсмертно стонал Угэдэй, но добрался до большого чана, наполовину вкопанного в землю, и, зачерпнув фарфоровой чашкой ымдана, нашел в себе силы дать напитка вначале Элий Чусаю, а потом уже полную чашку выпил и сам. Через какое-то время полегчало и тому, и другому.
…Когда пришли в стан хана, многие из нучей еще не сыскались, а на лица отысканных было больно смотреть – на месте глаз светились узкие щелочки и распухшие носы казались искусанными дикими пчелами.
Полегоньку собрались все тяжелобольные и непонятно где ночевавшие гости белого сурта Чингисхана. Он встретил этот сбор вместе с Джэлмэ и Мухулаем.
– Я хочу послать Алтан-хану тайное донесение, – начал хан, вопросительно глядя на главного из нучей – толстого, лысого, как арбуз, мужчину, который часто икал и прикрывал рот пухлой ладонью. – Слушайте и запоминайте! «Великий правитель величайшей страны Алтан-хан! После нашего похода на племя шести татар, забывших исполнять твой указ, с целью их укрощения, мы с твоим полководцем тойоном Чинсаном обменялись обещаниями всегда быть заедино. Придерживаясь данного слова, я крепко наказал тангутов – твоих, а значит, и моих заклятых врагов. Теперь же, услышав, что жители северных земель хоро-туматы, нарушив данное тебе слово, решили отделиться от тебя окончательно, я разгневался и решил, не откладывая надолго, усмирить отщепенцев. Я буду твоей бьющей рукой, но и буду рад получить от тебя муки, круп для питания моих людей и тканей для одежды…»
Глава четырнадцатая
Эллэй
Завоевывая какую-либо область, он не обижал населения, не нарушал его прав собственности, а только сажал среди них несколько своих людей, уходя с остальными на дальнейшие завоевания. И когда люди покоренной страны убеждались, что он надежно защищает их от всех соседей и что они не терпят никакого зла под его властью, а также когда они видели его благородство как государя, они тогда становились его преданными слугами. Создав себе таким образом огромную массу верных людей – массу, которая, казалось, могла бы покрыть все лицо земли, он стал думать о всемирном завоевании.
Марко Поло. XIII век
Усуйхан, неугомонная Усуйхан – ты ли это валишься с ног от одуряющей усталости? Устало не только тело, но и нечто скрытое в сосуде тела – вино, называемое душой. Несметные богатства крепости Лигили, какие и во сне не могли присниться, так и стоят перед глазами, как от долгого созерцания речной воды, когда смеживаешь веки. Девушки-служанки двигаются как осенние мухи, они тоже устали, но голоса их еще полны серебра и взоры сверкают самоцветами. Им нравится разбирать несчетное богатство и кто знает, о чем мечтают они за этим занятием? И Усуйхан не намерена обделить оставшихся в ставке хотун подарками. Она запасла для каждой пусть небольшой, но дорогой подарок: или украшение из драгоценных лалов, или алый коралл, или золотую подвеску, или серебряный кубок с тонкой, как стан девицы, ножкой, с оправленным в скань искрометным рубином. Для перевозки подарков для каждой из хотун понадобилось по два верблюда и по три двухосных арбы. И еще смышленая Усуйхан разделила между хотун слуг – девушек и парней, которые умели готовить диковинные яства.
Для матери-хотун Ожулун она отыскала двух искушенных знахарей и отправила в ставку вместе с женами и отпрысками, вместе с запасами бальзамов и снадобий, серебряных игл, целебных камешков.
Для хотун Борте и ее многочисленного окружения Усуйхан плотно набила мелкими украшениями из индийского жемчуга, из золотых монет четыре дорожные котомки – пусть у той будет всегда под рукой гостинец для любого, кого она захочет одарить. Но особый чайник с двойным днищем Усуйхан повезет с собой: чайник таков, что кипяток в нем долго не остывает, если между первым и вторым днищами заложить горячие угли. То-то диво, подумают, а ведь на самом деле все просто!
Но что делать с Ыбахой-хотун, которую хан подарил Джаргытаю? Что делать с хотун Гурбесу, которая взята лишь потому, что нужно было приручить найманов? Если одаришь подарком, который как бы приравняет их к другим хотун, – обидятся эти другие. Если вызовешь недовольство малостью дара, то возможная обида будет тлеть тайно и неизвестно еще – не сожжет ли этот уголек все более значительное вокруг себя? Подумав, Усуйхан решила приготовить все, как считает нужным, а в ставке посоветоваться с Ожулун-хотун. Она возликовала, восторженная простотой решения. Оставаясь одна, она позволяла себе быть подростком. Ее утомляла необходимость на людях казаться строгой хотун, ей трудно было скрывать живость взгляда и яркую лучистость глаз. Она хоть и пыталась во всем подражать старшей сестре Усуй, но иногда забывалась и впадала в ребячество. Да ведь они с Усуй даром что сестры, а нрав – разный. Усуй – прирожденная хотун и умом, и статью. Усуйхан – былинка в сравнении с сестрой, собранная родителями из каких-то остатков. Одно, может быть, хорошо, что сообразительная и смешливая. Но и при всей своей смешливости Усуйхан, как и ее сестра, ни на миг не забывает, что несет в себе надежду шести татарских родов с того самого момента, когда возлегла на высокое ложе хотун. Хоть и строго запрещена всяческая распря между родами и племенами, но на всех выходцев из татарских племен все же некоторые смотрят словно говоря: «А-а! Так ты из того самого татарского племени, которое не нашло себе прибежища во всем огромном мире!» Поменьше бы за ножи хватались, но ведь своя кровь-то, и кто их, глупых, защитит, кроме Усуйхан– хотун? Кто их, горячих, остудит кроме легкого смешка Усуй-хотун? Что с этим поделаешь? Как бы то ни было, а все-таки и она, Усуй, избранница высших Айыы, потому-то Бог-отец Тэнгри определил ей путь избранных…
Надо стараться. И Усуйхан старалась.
Ожулун-хотун-хан не побоялась возложить на узенькие угловатые плечики Усуйхан-хотун заботу обо всем внутреннем строе жизни стана в военное время. Малая мошка громче звенит и больней кусает. И Усуйхан – крутой кипяток, не болотная жижа – забурлила, к ней потянулись, как к горячему и чистому ключу, к целебной воде, но силы ее еще не окрепли – она могла и надорваться. Но сообразила: на всех направлениях своих забот поставила джасабылов-распорядителей, и сразу же жизнь пошла, как спокойная речка меж пологих берегов. Вот тебе и татарская дочь! А восьмидесятилетний старец Алгыдай стал ее главным советчиком и главным же над всеми джасабылами стана. Напрасно говорят, что старость глупа. Глупость – подруга всех возрастов. Это верно, как и то, что возраст ума не прибавляет, а вот мудрость – это возрастное. Этот Алгыдай, казалось, мог предвидеть течение жизни, со многими ее воротами, перекатами и шиверами. Он выручал юную хотун и был безгранично предан ей, словно благодаря за наполнившуюся смыслом жизнь.
Примчавшись из Лигили и спешившись, он стряхнул пыль с подоткнутых за кушак пол дорожного халата, привязал коня к коновязному столбу и постоял с закрытыми глазами, словно бы прокручивая в мыслях то, что предстоит сказать хотун. Потом вошел в сурт и после недолгих церемоний и радостных возгласов женщины сказал:
– В Лигили обнаружили еще два богатых схрона. В одном – двести пятьдесят тюков китайского шелка, к радости нашей: из них сто двадцать два – чесуча! Будут нам подкольчужные чесучовые рубашки!
– Надеюсь, ты отдал распоряжение, чтобы чесучу положили отдельно? – спросила Усуйхан-хотун, подавая старику чашу кумыса. – Выпей с дороги, Алгыдай… Я спросила, зная наверняка, что ты все сделал, как подобает мудрому хозяину…
– Да, моя хотун… Твое дело спросить, а мое…
– А твое – выпить кумыса… – постаралась смягчить свою невесть откуда прорвавшуюся подозрительность юная хотун. – Пей, а потом расскажешь…
Кадык Алгыдая заработал, как хорошо смазанный жиром – ни одна капля кумыса не пролилась на его грудь. Хотун взяла из его рук порожнюю чашу и поторопила:
– Ну-ну!..
– Во втором схроне, моя хотун, оказались маленькие серебряные котелки, и я подумал, что они будут полезны для наших доблестных арбанов! Все же остальное – это щиты, боевые доспехи, разные копья и копейца, луки, колчаны! Такие щиты и пальмы, что глаз не оторвешь! Но копья нужно укорачивать – они чересчур длинные для нашего пешего воинства, слишком неуклюжие.
– Раздадим черному войску, – сказала Усуй-хотун.
– И то справедливо! – согласился Алгыдай.
– Скажи: могут быть еще необнаруженные схроны?
– Мне кажется, что из съестного мы обнаружили не больше трети, – прищурился Алгыдай и как бы показал свое истинное лицо – лицо не глупого человека. – Они ведь рассчитывали на долгое сидение в крепости.
– Ищите!
– Хорошо, – сказал старик и глазами показал хотун, что у него есть недосказанное тайное. – Ты сказала, я услышал…
Усуй-хотун не стала отсылать из сурта челядь, чтобы не было разговоров о ее тайнах с Алгыдаем. Она поняла старого лиса.
– Мне бы хотелось осмотреть добычу… Поеду сама, – заявила она.
Старик Алгыдай по мелочам не стал бы строить глазки хотун и намекать на важность недоговоренного, которое на поверку оказалось бы верблюжьей жвачкой.
– Хотун-хан, – шепнул он, когда вышли из сурта, – я приготовил одну арбу сушеного мяса для Тайман-батыра… А кроме того, простую, но теплую одежду… Мы-то будем в теплых рубашках из чесучи даже под кольчугами, а ему-то сейчас снег да буран – страшней шайтана с шайтаненком! На обратном пути заедем к нему… – И громко добавил: – И никакое золото не заменит хорошего боевого коня!
– А как же конюхи? – шепотом же спросила хотун. – Попадем в подозрение! – и громко добавила: – Вам, воинам, видней!
Старик округлил глаза и, сдерживая улыбку, поджал губы – игра забавляла его, но он справился с внезапным приступом смеха и шепнул успокаивающе:
– Конюхи все спрячут в горах в приметном месте. Это мы делаем запас на всякий черный день. Что в этом плохого? А уж запас-то и медведь может разорить, и бурундук потратить! Понятно? – И громко добавил для приближающихся конюших: – Есть кони поумней людей! Мой такой!
Хотун заторопилась, зашептала горячо:
– Тогда увезем еще и мешочек золота! – И добавила: – Может, он у тебя не конь, а лис?
– А вчера привели ко мне отборных скакунов, – зашептал старик. – Их привели с подножия горы Аласа, а выращивали по-особому! О, хотун, какие это кони! Тут уж не до шуток, когда увидишь серого жеребца! Он похож на того, который носил на хребте нашего командующего, хотун! Не могу забыть, как он обнимал голову серого, когда тот пал от стрелы-ангыбал! Пусть хоть порадуется, глядя на его близнеца!
– Тихо… Остынь! – не разжимая губ, приказала хотун и громко добавила: – Чего ты все молчишь, Алгыдай? Расскажи что-нибудь! Дорога не близкая!
– Да что уж я помню? – усмехнулся Алгыдай, оглядывая свиту. – Старая память, как рваная сеть: зайдет рыба, потянул, ан рыбы-то и нету!.. Так, нукеры?
Кто-то из незнакомых Усуй-хотун конюших ответил вежливо:
– Ты большой человек – тебе видней!
– Мне-то видней, да тебе-то вкусней! – рассмеялся, уже не таясь, Алгыдай и тронул коня: – Впере-о-о-д!
«Даже жалость и доброта на земле, оказывается, должны иметь меру…» – покачиваясь на рысистом ходу жеребчика, грустно думала Усуйхан, губы ее подрагивали. «Если жалость затмит рассудок, то недолго и до большой беды… Иногда большой сухой ветер менее опасен, чем ползучий сквознячок… Ведь сколько мы помним себя с сестрой Усуй, всегда мы гордились славой Тайман-батыра. А сейчас только вспомним про его изгнание – и солнце меркнет, о брат! Не понять нашим умом волю Господа, нет, не понять – только это и утешает! Только сияние славы его одного – командующего всеми татарскими войсками озарило величием весь род Алчы и возвысило над другими родами! Только поэтому мы стали хотун-хан, а не другие – и на то воля Господа! Надо выдержать все, о брат, даже в личине черного раба, и настанет день светлого торжества! Но кроме нас с сестрой нет защиты у шести татарских родов и тебе наш махтал, о брат наш батыр… Пойми нас!..»
В тот кровавый и скорбный для татар год, когда была вырублена лучшая их людская поросль, Эллэю исполнилось семь лет и семь зим.
Мать пала, сраженная стрелой хойгур, а отец – командующий объединенными войсками всех татарских родов, пропал без вести. Его останков не нашли ни татары, ни монголы, и стало ясно, что он утонул при переправе через реку в своих тяжелых доспехах.
Так и стал Эллэй круглым сиротой. Не оттого ли, что никого из родителей не сыщешь, когда хочется понюхать их запахи и уронить голову в растворенные, как лоно, руки, которые помнишь, как солнце и как воздух – отродясь. И сестры баловали его, но скрепа это слабая, и цена этим баловствам могла упасть сама и уронить человека, который ни в чем не знал ограничений и привык, что его походя и по привычке жалеют.
В девять лет Эллэй отправился на войну в числе конников. Хотели было тойоны не брать его, боясь за жизнь отпрыска благородного семейства, но старшая сестра Усуй была тверда:
– Он мужчина, и его место в строю! – сказала она. – Пусть служит хану копьем и пальмой – и хан отметит его почестями!
Закон крови дал себя знать – в любом бою мальчик оставался хладнокровным и невозмутимым, мужественным и стойким. Вдобавок к этому, в нем проявилась удивительная способность запоминать картину и ход боя с яркими и важными подробностями. Он умел пересказать увиденное так, что это увиденное выглядело стройным и цельным. Этот маленький лопоухий мальчуган, стоя перед стариками, вещал о минувшем сражении так, словно сидел на облаке прямо сейчас, а перед ним разворачивалось боевое действо. И его стали приглашать, чтобы разрубить узлы путаницы и разночтений. Ему удивлялись, как удивляются редкому дереву в саду, и предрекали славу крупного военачальника.
– Нашему хану не важно, из какого рода человек – важно то, какую пользу он несет илу! – говорили старые мудрецы. – Джэбэ, Най – возьмите хоть их! Кем они были? А они были мэгэнэями у наших супротивных! Но Чингисхан сохранил за ними чины и дал им волю! Не тронул он никого и из найманских тойонов. И пусть Эллэй будет хоть сыном шайтана, а великие тени его теток, да еще дар, которым он обладает, выведут мальчишку на великий путь.
Эллэй слышал эти разговоры, так как беседы шли при нем, но не понимал их смысла, ибо для него самого жизнь была такой, какой она ему казалась. Он еще не понимал, чем отличается от других, кроме возраста. Едва вставало солнце – вставал и он и находил себе заделье наравне со взрослыми, чтобы вечером замертво свалиться от усталости и не видеть снов. Это было его детской игрой – взрослая жизнь. Но ни с чем не сравнимый пыл войны уже овладел навсегда его существом. Два-три мальчика под крылом какого-нибудь старика или смелой женщины содержали во время боя сменных коней для десятка нукеров одного арбана. Примчавшись из самого пекла сечи во весь опор, нукеры бросали поводья в руки мальчишек и сходу перескакивали на свежего коня, чтобы вновь рвануть туда, где горячо. А взмыленных, храпящих от страха и возбуждения коней тут же нужно было мыть, вытирать, вычесывать – готовить к продолжению службы. Эллэй понял, что нужно знать норов каждого из коней и помнить его. Он ухватил и закономерности маневрирования с лошадьми во время сражений, в соответствии с которыми то нужно было следовать за своими, то отступать подальше, то укрываться в каком-нибудь овражке или в расщелине, или под завесой дымокуров. Так, еще не зная жизни, он свыкся с картинами смерти в страшных рубках и сечах, когда людская и конская кровь смешиваются воедино. Просто ему казалось, что все это он уже где-то и когда-то видел. А что касается сиротства, то он сразу поверил в россказни теток Усуй и Усуйхан о том, что его отец с матерью уехали далеко-далеко за высокие горы и живут в глухом лесу под названием тайга. И никогда он не расставался с мыслью, что станет взрослым, сильным, могущественным и поедет в ту родительскую даль, и понюхает их – своих отца и мать.
Эллэй с утра до полудня стоял в карауле. Он ослабил постромки своего рыжего и пустил его пастись на приколе. Похоже, что коню в радость было хрупать траву, и он занимался этим упоенно, закрыв от удовольствия лиловые глаза. Когда солнце стало западать за линию горизонта, с востока задул свежий ветерок и слегка полыхнул стоячую жарынь.
Эллэй бдительно исполнял службу и все смотрел в пустынную степь, пока с удивлением не заметил, что давно уже смотрит на маленькую фигурку одинокого всадника, которая все увеличивалась с приближением. Для смены караула еще не наступило время, да к тому же караульный всегда прибывал с сопровождением и имел приказ ехать мелкой рысью, а не в намет. Что же это могло значить? Война?
Быстро подтянув подпруги и свернув длинную бечеву, которой привязывают коня, Эллэй вскочил в седло. Кто бы ни прибыл, а караульный обязан встретить его верхом на коне, прямо выставив копье с привязанным пучком конского хвоста. Так и сделал Эллэй, встречая всадника из степи. Им оказался Морой – верный заединщик и друг.
– Эй, Эллэй! – начал тот, еще не уняв коня. – Твоя тетя Усуйхан прислала за тобой! Ты зачем-то понадобился древнему джасабылу по имени Алгыдай!
И хоть в степи некому было видеть их, но по уставу ребята приняли серьезный вид, чтоб выполнить обряд в передаче караула.
– Я вручил, – сказал Эллэй.
– Я принял, – ответил Морой, взяв из рук товарища копье и завидуя пути Эллэя в ставку. – Хорошо тебе с такими тетками! Мне бы таких, так уж я бы… Да где уж… Все лето тут, однако, простоим! Уж хоть бы к горам поближе перевели, а?
– Уж – не змея, да иной раз кусает, – посмеялся Эллэй и дал коню ходу.
«Где уж он этих прибауток наслушался?» – подумал Морой, глядя вслед удаляющемуся юному нукеру. «Да такая уж у него память…»
Старик Алгыдай готов был увезти мальчика тут же, по его приезду. Голому-то собраться – только подпоясаться: побросал в котомку нехитрый скарб и готов. С коня на конь скакали всю ночь и к рассвету въехали в главную ставку-орду.
Эллэй устал так, что уснул прямо за едой, и старик отнес его на подушки.
А вечером в большом белом сурте собралось множество важных персон. На груди некоторых из них сияли ярлыки высших чинов ила. Эллэя поставили в строй вместе с десятком других малых, но и те были выше его ростом и старше возрастом. Но когда вошла хотун в сопровождении вельмож, то равно все упали пред госпожой на одно колено. Вскоре выяснилось, что люди собрались, чтобы чествовать юношей, показавших себя в последних сражениях мужчинами и воинами.