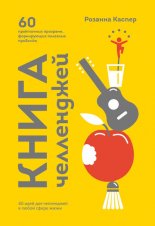По велению Чингисхана Лугинов Николай

Кто ожидал такого? Вот она, новая жизнь. Алгыдай-джасабыл поведал всем о поведении юношей в боях и ставил их имена рядом с именами тойонов-арбанаев и сюняев, многие из которых были овеяны славой. Потом хотун одарила каждого из мальчиков. Глаза ее горели гордостью, когда она подходила с подарком к Эллэю – она не ждала увидеть его здесь, это было еще одной тайной старика Алгыдая. Тойоны тоже не поскупились на памятные подарки, и каждый гордился своим молодым бойцом. После шумных здравиц и взаимных славословий стали расходиться, и тогда старик Алгыдай тихонько дернул Эллэя за рукав и сказал:
– Останься, сынок. Я отведу тебя в сурт твоей тетки.
Дальше все происходило для невыспавшегося Эллэя как продолжение сна: он предстал на обозрение всех старцев рода алчы-татар, восседающих в сурте Усуй.
– Посмотрите, – обратилась она к старцам и кивнула на племянника. – Вот то единственное, что смогли мы сохранить от нашего старшего брата Тайман-батыра. Сегодня я, никак не ожидая того, увидела его среди доблестных юношей ила. – Усуй обняла племянника и поцеловала, отчего тот едва не заплакал, противясь проявлению нежности. – Не вздумай захлюпать! – шепнула она на ухо Эллэю и обвела старцев взглядом: – Не хочет ли кто из почтенных сказать свое мудрое слово в назидание безусому герою?
Старики загомонили, закряхтели, завозились, переглядываясь меж собой, и, наконец, тяжело поднялся один из них с лицом печеночного цвета, обрамленный серебряной жидкой бородкой, и сказал:
– Не мог Господь Бог прервать течение великой крови рода! Это нас, простых смертных, как травы в степи, и что бы ни случилось с каждой травинкой в стогу сена – это не повлияет на прожорливость овцы-судьбы… Но стог не стоит без шеста, и каждую осень вокруг того шеста – я видел у оседлых – собирается новый стог… Дитя мое! Будь нашим солнцем и луной! И даже когда тебя закрутит водоворот войн и молодости, когда заплутаешь в ночной безлунной мгле душевного одиночества – не забывай, что ты один несешь в себе светлое упование всех шести татарских родов! Благословляю тебя, пусть хранит тебя всемилостивый Господь!
Эллэю не по силам было ответить старикам, он не был обучен словопрениям, и тетя зашептала ему на ухо то, что он вслух повторил:
– Почтенные старцы шести татарских родов! Я, сын татарского Тайман-батыра именем Эр Соготох[13] Эллэй, принимаю ваши слова с благодарностью. Даю вам твердое и нерушимое слово служить в оправдание ваших надежд и упований. Вы сказали, я услышал!
Тетушка дернула его за кушак и шепнула, чтобы встал перед стариками на колено. И это у него получилось. Он встал на одно колено и склонил голову, а когда поднял ее, то увидел перед собой белоснежного скакуна с великолепной статью и в серебряночеканном уборе. Думая, что уснул, Эллэй ущипнул себя, но тетушка уже отдала ему повод и напутственно шлепнула по спине. Мальчик прыгнул в седло и иноходью понесся в предутреннюю степь, а тетка взглядом позвала к себе Алгыдая-джасабыла.
– Эллэй поедет с тобой. Все ли готово?
– Все готово, хотун.
– Пусть почувствует свободу, порыбачит, поохотится по пути. Покажешь его отцу, но, как и договорились, мальчику не говори, что Тайман-батыр – его отец. А брат пусть укрепится духом, видя свое продолжение… Пусть видит, какой у него сын растет…
Алгыдай отобрал табун более чем в три сюна, двести восемьдесят презрительно жующих верблюдов и, свернув к северу, пошел со своими подопечными по нетронутым пастбищам и нехоженым степным увалам, которых все больше становилось по мере приближения к предгорьям. Сам старик ехал то лежа в крытой арбе, давая отдых спине, то скакал впереди всех к путевому знаку, который ведом лишь одному ему. В арбу запряжен тот самый серый скакун, которого хотун-хан снарядила брату. Скакун побелел от дорожной пыли, он укрыт рваным, тронутым плесенью чепраком и, словно подавленный оскорблением собственной сути, идет, понурив черногубую голову. Идет не спеша. Да никто и не торопит его, поскольку гурты скота по пути должны щипать траву и спешить им ни к чему. Так и шли, верстая в день по два – два с половиной кес. Оторвавшись с гуртами на приличное расстояние к северу, старик Алгыдай и Эллэй стали уходить вперед каравана на расстояние двух-трех дней пути и становились на отдых в ожидании гуртоправов. Серого скакуна и белого иноходца брали в пристяжку и не навьючивали. Эллэй берег своего иноходца, глаз с жеребца не спускал и просыпался ночью, чтобы свистом призвать того, и вскоре жеребец стал отзываться на свист тихим ржанием. Мальчику постоянно хотелось говорить со стариком об иноходце. И старик понимал, что в мальчике вызревает воин, а потому терпеливо сносил эти разговоры.
– А я смогу на нем догнать оленя? – спрашивал мальчик.
– Да на нем кулана догнать можно и за хвост ухватить! – отвечал старик. – Такой войдет в пору и вровень со стрелой лететь будет, вот увидишь сам! А может, и не увидишь…
– Как это не увижу? – испуганно смотрел на старика мальчик.
– Так ты же будешь на нем верхом! Будешь видеть только встречные стрелы!
– А-а… – спохватывался Эллэй и смущенно улыбался своему недоумению.
Однажды вечером они уткнулись в рваный тордох двух пастухов там, где уже начинался подъем в горы и откуда видны были островки леса вдали. Все в тордохе – и утварь, и одежда, и остатки съестного – говорило о бедности пастухов. Обычно Алгыдай сторонился людей нужды, но на этот раз решил обустроиться неподалеку. Эллэй с удивлением отметил, что обычно грозный старец, понукающий простыми людьми, вдруг словно бы обмяк.
Один из пастухов оказался глух и нем. Второй был выбрит наголо и череп его напоминал черный речной валун, до глянца оглаженный водами. Он был широкоплеч, высок, ладен и собран в движениях. Нос его с горбинкой, казалось, готов был рвать живое мясо, а холодные, выбеленные и опустошенные глаза смотрели на окружающий мир с гибельным спокойствием.
Немой пребывал в непрестанных трудах, мычал что-то барашку, которого забил. Но и второй мало чем отличался от немого и даже больше был похож на немого, поскольку тот хоть мычал, а этот все стоял, молча опершись на батог, и смотрел на дальние лесные острова. Эллэю показалось, что один из пастухов – раб, а второй господин. Немой раб ловко отвалил ножом куски мякоти от бараньей туши и варил в казане, а на рожне уже запекались сердце и печень, завернутые в лоскуты сала. Он был большим искусником – Эллэй понял сие, когда ел потроха, набитые в бараний желудок: вкуснее он не едал ничего даже на пиру у тетушки. Ели все, кроме лысого – он молчал, не отрывая глаз от костра, а старого Алгыдая словно подменили: он и говорил вполголоса, и часто оглядывался, и дышать, казалось, боялся, кидая на лысого то ли виноватый, то ли заискивающий взгляд. Эллэй сразу невзлюбил лысого и проникся теплом к немтырю, с которым, как с равным себе, Алгыдай оживленно общался с помощью жестов. Когда поспела еда, лысый сместился ближе к гостям, налил в деревянную чашу кумысу, но первому сделать глоток предоставил почему-то Эллэю. Удивленный мальчуган не посмел отказаться – кто знает: какие здесь обычаи? – и взял чашу. Алгыдай-джасабыл, человек высокого чина, будто сделал вид, что ничего особенного не происходит и отвернулся, прислушиваясь к звукам степи. Но это не укрылось от пытливого Эллэя, и он решил, что полудикие люди таковы, как и полудикие животные – их нельзя винить в том, что они не знали другой жизни. Глотнув пенного кумыса, Эллэй передал чашу немому, чтоб тот налил еще, но лысый перехватил сосуд и сам наполнил его и протянул Эллэю, а потом внес постель путников в тордох, где расстелил ее поверх лошадиных шкур. И тут вдруг сонливость навалилась на юного воина с такой мягкой и теплой силой, будто добрая толстая старуха взяла его в охапку и стала баюкать и бормотать сказку… Он не помнил, как уснул. Он не видел, как стоял над ним лысый, и не чувствовал, как тот гладил его жесткие волосы. Он не слышал, как коленопреклоненный Алгыдай-джасабыл говорил своему командующему:
– Господин мой Тайман-батыр! Позволь сперва выполнить высокое поручение и исполнить обряд! Потом поговорим, хорошо?
– Слушаю.
– Называя твое высокое имя, младшая из твоих сестер Усуйхан-хотун-хан передала такие слова: «Лучший из братьев Тойон-батыр! С помощью Господа Бога мы живем в благополучии и благоденствии. Усуй осталась в ставке. Мы с Эллэем, победно завершив войну, возвращаемся домой с радостью, с поклажей, имея что гнать впереди себя и чему – следовать за нами. Эллэй обрадовал меня, получив похвалу военачальников. Велико наше желание, чтобы мальчик стал заметным людскому глазу человеком, способным возглавить шесть татарских родов. И хоть кости его еще не окрепли, мы все же намерены отправлять его в дальние походы и опасные путешествия, ибо сироте приходится мужать и познавать горькое раньше сверстников. Но о твоей тяжкой судьбе мы ему пока не говорим, чтобы не раздирать на части цельную детскую душу.
Брат мой! Мы ничего не забыли, помним все. И марево прошлого нет-нет да и затянет победное золотое сияние сегодняшнего дня. Мы не забываем пролитую кровь нашего рода, но вся прошлая жизнь канула в пропасть времен и настали другие времена. Мы свидетельствуем величие нашего мужа Чингисхана. У него неслыханно добрая воля и намерения укрепить в мире добро. Он стремится к тому, чтобы никто не творил произвол и беззаконие, чтобы никто никого не порабощал, не обижал несправедливо, не убивал вероломно, чтобы все спорное решалось Верховным судом и общим советом. Быть рядом с ним в такие времена – счастливая доля. Я понимаю, что такие слова о твоем кровном враге бередят твою душевную боль, но правда – выше обиды. Подумай об этом сидя и лежа, в пути и в покое. Мы – простые смертные. Наши ошибки с удачами – родные сестры. И один Бог знает, где истина, сокрытая от наших глаз нашим неведеньем.
Не думай, что сестры забыли о тебе, когда стали хотун-хан. Сегодня не только мы – все шесть татарских родов гордятся твоим именем и верят, что испытания не сломят твой дух. Теперь, когда перед их глазами пример Чингисхана, они поняли всю жалкую бесполезность своих былых склок и жалеют, что не сподобились признать своим хаганом тебя – Тайман-батыра, и потому приняли вековой позор на свои головы. Теперь они грезят о таком, как ты, вожде.
Недавно Тэмучин-хан спросил меня о тебе, и я едва не обмерла от страха, что кто-то донес на меня и указал на нашу с тобой связь. Но оказалось, что он любопытствует по причине иной. Он учится на опыте великих полководцев и хочет учить их опыту своих военачальников. Он сказал: «Ваш брат Тайман-батыр – человек, подобный богам. Такие приходят в наш мир нечасто. Родись он в другом, более удачливом на умных людей роду – и многих войн удалось бы избежать, много смертей предупредить. И я потерял великого полководца, потеряв Тайман-хана». Брат мой! После этих его слов я поверила, что наши мольбы достигают слуха Господа Бога, что ты вернешься к достойной тебя жизни! У монголов решения, принятые Верховным советом, – нерушимы, а сейчас старая вражда с татарами забыта, они стали неотъемлемой частью монгольского войска, а во главе Верховного суда стоит Сиги-Кутук, родом из татар. Это ли не указывает на безграничное великодушие нашего мужа? И приказ об уничтожении всех военачальников татар когда-нибудь станет прахом, поскольку все понимают, что мир лучше вражды.
Брат мой дорогой татар Тайман-батыр! Я, твоя младшая сестра Усуйхан-хотун-хан, отгоняю к тебе жеребца по прозвищу Серый скакун, чтобы ты мог свободно скакать степью и дышать хоть вечерним, хоть ночным настоем воли. Не отдай себя тоске, и твое славное имя выведет тебя на свет. Этот день наступит. Пусть поможет тебе Бог! Я сказала».
Наступило молчание. Где-то в степи тявкнул лис. И тогда угрюмый Тайман-батыр, который все время сидел, зажав в тиски могучих рук постыдно голую голову, глубоко вздохнул, задержал дыхание, словно собирался нырнуть в речную воронку, и, резко выдохнув, спросил:
– Так она и сказала? Ты ничего не напутал?
– Вот моя голова, – поклонился Алгыдай. Потом с трудом поднялся с колен и, чуть подволакивая занемевшую ногу, зашагал в сторону пристяжных.
Он сбросил со спины Серого скакуна рваный чепрак и потертое бедное седло, а из дорожной своей сумы достал другое, оправленное золотыми бляшками и позументом, оседлал коня и, подведя его к своему тойону, вложил поводья во властные руки. Что-то живое высветилось во взгляде Тайман-батыра, когда он гладил Скакуна, когда тот весело заржал, принимая умелую ласку. Через мгновение его новый хозяин кинулся в тордох и вышел оттуда в черных сафьяновых сапогах и гладких портах, в лисьем малахае и просторной чесучовой рубашке. Одним прыжком вскочил он в седло, и конь, подобно ветру, полетел в сторону закатного солнца, багрецом окрасившего легкие перышки облаков.
Там, на холме, стоял каменный истукан.
А второй истукан – едва не окаменевший в изгнании человек – валялся у его изножия, и тяжко стонала оживающая в груди человека душа и по-звериному вопила, не веря в свою живучесть.
Косил огненным глазом конь и всхрапывал, улавливая ноздрями душистые потоки степной жизни. Он мотнул головой. Звякнули золотые бляшки уздечки. Золотые звезды проступили на фиолетовом, как знамя Чингисхана, небе.
Вот и все свидетели рождения молодой души немолодого уже человека – Тайман-батыра.
Глава пятнадцатая
На Север
Только нравственная власть пользуется уважением.
Бедность – корень беспорядков в стране.
Сила обязательно приводит к мирному правлению, а отсутствие силы обязательно приводит к беспорядкам; сила обязательно приводит к знатности, а отсутствие силы обязательно приводит к низкому положению, нищете и голоду.
Мо-цзы. V век до н. э.
Когда Чингисхан услышал послание царю народа нуча Алтан-хану, то подумал, что его печень лопнет от ярости – слова этого творения Джэлмэ с Мухулаем показались ему раболепными, а люди, донесшие эти слова до его слуха, жалкими побитыми псами.
– Ответьте мне – что вы за людишки? – в сердцах выкрикнул он. – Какая вам приспела нужда выказывать Алтан-хану этакую покорность, а? Я просил вас об этом, дети верблюдицы и зайца? Вы бросили тень на мое имя! И это теперь, когда мы стали владычить в Великой степи! Я никогда не лизал нучам лица, я, еще не будучи ханом, уводил из-под их плоских носов добычу! Кем же вы меня выставляете?!
Тойоны уставили взоры в землю, словно бы впервые видели ее – они ждали, когда гнев хана достигнет своего пика и перевалит через него. Они знали, о чем идет речь.
… Однажды Тэмучин и Джамуха, еще не окрепшие и безвластные, уговорились угнать горную дичь из-под каменных стен Тайбея – крепости нучей. По всем обычаям дичь становилась добычей тех, на чьи угодья она забрела, и бить ее можно только с соизволения тамошних жителей или делиться с ними добытым. Но Тэмучин с Джамухой оказались не из тех, кто просит. Они схватили бедного землероба и отправили с ним в крепость такое издевательское послание: «Мы, вольные вожди бескрайних степей, великие Джамуха и Тэмучин, извещаем вас о том, что соизволили прибыть на охоту в окрестности Тайбея».
Облава была в самом разгаре, когда примчался всадник из крепости и устно передал послание управителя. Звучало оно так: «Сейчас же убирайтесь восвояси! Если поймаем, будем судить как разбойников и воров! Все, что добыли, немедленно свезите в крепость и сдайте управителю, а потом повинитесь перед ним!»
Юноши продолжили церемонию обмена любезностями, которыми любили щеголять нучи. Они передали с посыльным: «Сперва найдите, потом догоните, потом схватите ветра в поле, а потом и добычу делите!» Посыльный поскакал в крепость, дрожа от ужасающих душу грубостей, кои ему придется произносить перед лицом высокого начальства.
Так они и вернулись к Ожулун-хотун с богатой добычей. Все помнили этот случай. Помнил и Джэлмэ. И он сказал, подняв взор от земли:
– Хан, остынь! Тогда ты был песчинкой в бархане, а теперь о тебе не слышали только глухие и не говорят только безъязыкие!
– Чем богаче и многочисленнее мы становимся, тем медлительней и неуклюжей, – высказался и Мухулай. – Вот возьми Алтан-хан да и нагрянь прямо сейчас со своим громадным войском, которое громадней песчаной бури – и что мы станем делать? А ему ведь нужен только повод. Не думаю, что ему по нутру наше усиление!
– Ух-се-э-э! – хан хищно прищурился и побуравил своих советников острым прищуром. – Какая морока-а-а! Что же нам, бедным кочевникам, делать? Как бы штаны сменить? А я, сколько помню себя, все пытался угодить своим могущественным сородичам, все подлаживался под них: что взять с сироты! Но этому должен быть положен предел – все! Сколько еще ждать до поры, когда мы сможем открыто изъявлять свою волю? Ну-ка, расскажите мне, разжуйте! Скажи, Джэлмэ!
Джэлмэ отчего-то улыбался.
– А-а! – понимающе сказал хан. – У тебя сегодня пра-а-здник! Тебе ве-е-село!
– Мне весело оттого, что мы уже можем громко разговаривать со всем миром, – поспешил объясниться Джэлмэ, боясь, что хан разгорячится и его трудно будет образумить. – Но я не пойму: что ты имеешь в виду, когда говоришь про прямоту и правдивость… Жизнь – это переход над пропастью, да еще и по скользкой веревке…
– Может быть и так! – умягчился хан. – Но когда же мы станем жить по-своему? Скажи мне ты, Мухулай! Ну?
– Но что мы можем? Все устали от походов… А ведь вспомни – некогда нашим заклятым супротивником был один лишь Таргытай Кирилтэй и мы думали: вот расправимся с этим кровопийцей и сразу настанет благоденствие… Но мы становимся как камень-тягун, который притягивает боевое железо! Чем он больше, тем сильней к нему это железо льнет! Еще рано, мой хан, уподобляться верблюду во время гона, когда он становится…
Хан устало поморщился и отмахнулся от слов Мухулая:
– Знаю… Знаю, каким становится у тебя ядовитый язык…
– Он становится чванливым и плюется на все стороны света, на людей и на ветер, – несло Мухулая. – Надо, чтобы никто не сомневался в нашем миролюбии.
– Замолчи! – прорычал хан, но, видно, доводы тойонов были ему небезразличны. – В конечном-то счете все решается войной! Все едино никто не верит в наше миролюбие!
– Таковыми созданы люди, – кивал головой Джэлмэ. – Возьми кэрэитов: ведь мы их не стали истреблять, приняли как своих… И что? Они восстали и могли бы наворочать вьюков, если б не наша сторожкость… Те же найманы – чем отличаются? Верхней одежкой да говорком, а копье да пальма – говор общий для всех, все его понимают… Слаб человек, думая что он всесилен, если вооружен… А с другой стороны – без оружия человек боязливей мыши… Я думаю, что людей покоренных нужно либо все время или по шерстке гладить, или искоренять!
– Вот тебе на-а-а! – округлил рысьи глаза хан. – А я о чем говорю? В чем же я не прав, по-вашему, говоря, что нечего лизать лицо Алтан-хана!
Джэлмэ посмотрел на хана с недоумением и поднял руку, как бы предлагая всем помолчать, и сказал:
– Если судить по мэркитским племенам, то, несмотря на их злопамятство, о котором известно всем, они ни разу не восстали против нас. Не потому ли, что племена, которые были нами обезглавлены и выкошены, тихи и покорны до сих пор! А те, с кем мы сюсюкали, готовы взъежиться, как только их укусит шальная муха!.. Но это не значит, что нужно вырезать всех поголовно!
– А что это значит? – едко спросил хан. – Как же тебя, умника, понимать?
– А понимать меня надо так, что каждый случай решается особо и взвешенно, хан. Купец Сархай рассказывал мне как-то ночью во время осады про больших завоевателей и говорил, что удержать в повиновении большую страну со своими обычаями и порядками можно, лишь переселившись туда на жительство, – так сделал турецкий султан с одной из приморских стран. Ты хочешь осесть в Китае? Не хочешь, я знаю… можно посадить наместника, но людей, подобных тебе самому, ты вряд ли найдешь во всей Поднебесной…
– Ну-ну!.. – поторопил его хан. – Продолжай, Джэлмэ!
– … Можно разместить там большое количество конников и пеших, но их содержание будет разорять жителей покоренной страны, а если мы будем содержать это войско, то оно обойдется нам дороже, чем приобретение новых земель! Правы были римляне, которые, завоевывая страну, потакали слабым, которых все больше, и обретали в этом большинстве союзников, но в силу им войти не давали!.. О-о, хан! Много было до нас войн и походов, но всегда проигрывал тот, кто не думал о завтрашнем дне и шел на поводу у сильных чувств!..
– Если будешь по пустякам гневаться, – ввернул Мухулай, – а особенно когда тебе говорят правду, то правда все меньше будет достигать твоих ушей, хан. Вот успокоишься, обдумаешь все в тишине – тогда и примешь решение…
Хан вдруг расхохотался и, глядя на замешательство советников, сказал, отерев усы:
– Устаю… Могу же я хоть с вами покукситься, покричать, поговорить открыто? У меня нет людей ближе. Понятно? Как мало сливок на поверхности молока, так мало людей, с которыми я откровенен. Хорошо, что вы у меня есть.
– Хорошо, что ты есть у нас, – едва ли не разом ответили тойоны.
А Джэлмэ продолжил:
– Будем жить, как жили: умным – совет, а непослушным – камча… Не придавай особого значения тону своего послания к нучам, если он кажется тебе чуточку подобострастным… Владыки сильных стран от вседозволенности глупеют и понимают только лесть. А нам еще нужно выиграть время и окрепнуть…
Тэмучин знал порядок своих действий внутри ставки дней на десять вперед – все вплоть до мест его ночлега согласовывалось с большими тойонами, с Ожулун и Борте.
Очень хорошо думалось ему в сурте Усуй. И беседы с ней, как хороший ветерок с озера, легко разгоняли угарный чад сиюминутных дел. Когда хан пересказал ей суть своего давешнего спора с Джэлмэ и Мухулаем, она осталась сидеть в раздумье, но глаз с лица Тэмучина не сводила, словно по писаному читая недосказанное, словно смывая пыль с лошадиной шкуры, чтобы определить ее истинную масть.
– Нелегко, – не то спросила, не то подтвердила Усуй. – Последствия блага, будто свалившегося с неба – масло… Оно хоть и вкусное, но может прогоркнуть, может растаять, на нем можно поскользнуться и дающему и берущему… Его помнишь, когда оно кончается, а когда есть – привыкаешь и хочешь чего-нибудь иного, диковинного… Так я по-женски, по-хозяйски думаю.
– И каков же твой совет? – спросил Тэмучин, радуясь и удивляясь тому, с какой простотой она отвечает на вопрос, который изматывает все его силы: что ждет ил под пологом новых джасаков.
– Людей так же много, как птицы в лесах или рыбы в озерных глубинах… И, несмотря на внешнюю похожесть, все они разные. У птиц есть вожаки, и у рыб есть вожаки, есть они и у людей – так устроен мир, – говорила Усуй, словно сказку. – Но среди животных достаточно силы, чтобы стать вожаком, среди людей важен еще и ум и разум. А ум и разум – не двойняшки, нет… Ум можно купить лестью и развратом, разум – это от Бога и его не купишь за деньги… Вот ханы шести татарских племен были умны и сильны, они держали себя по-царски, но кто их окружал? Их окружали люди, умеющие сказать и посоветовать то, что желают слышать уши ханов. Даже высокопоставленный тойон не мог бы пробиться к их слуху через колючий кустарник, которым окружили ханов подлые и корыстные люди… Даже когда они метались в поисках выхода для своего народа и самих себя, на глазах у них были шоры, надетые приближенными, а уши уже перестали быть чувствительными к незнакомым голосам, какие бы здравые слова ни были произнесены этими голосами… Твои советники – любящие тебя и верные тебе люди, им не откажешь и в уме, и в разуме. Но умей слушать и дальних. Верить или не верить им – твое ханское право, но умей слушать, хан. Как умел слушать, не будучи еще Чингисханом.
– Какая ты умница! Что тебе подарить? – восхитился Тэмучин, взяв Усуй к себе на колени.
– Подари мне сына-сокола, – шепнула она.
И они возлегли, и Тэмучину казалось, что это случилось с ним впервые…
Кто на запад, кто на восток разъехались званые на курултай.
Тэмучин приступил к отбору войска для отправки на север. А чтобы гости на обратном пути не отвлекались на то, что не положено, на всем протяжении пути каждого Тэмучин приказал держать наготове сменных лошадей.
На севере проживали во множестве мелкие племена, перебивающиеся охотой и рыбной ловлей, но среди них заметно выделялись окрепшие хоро-туматы со своим вождем Дойдухул Соххором. Он ухитрился объединить в один ил два старинных племени хоро и туматов, которые за время многовекового соседства накопили столько вражды и злобы одно на другое, сколько запаршивевшая собака не имеет блох. Сам же Дойдухул Соххор, сын хана племени хоро, женился на дочери туматского хана, которую звали Суон Ботохой.
Дойдухул Соххор изловчился поставить торговлю пушниной с Алтан-ханом и корейцами, что заметно обогатило его ил, где люди зажили сытнее, а оттого и разобщенней. Если хоро издревле были известны своим долгим дыханием и упорством, то туматы славились заносчивостью и несговорчивостью. Разноцветные китайские и корейские ткани, сладкая мука и батат – сладкий китайский картофель – это внезапное изобилие стало точить людей изнутри, каждый заглядывал в рот каждого и пускал слюну уже не голода, а вожделения и чревоугодия, жадности и ненасытности. Это внезапное изобилие стало растлевать людей изнутри, неутолимая жадность вела только к зависти, которая продолжала разъедать как зараза, стало корнем возникающих распрей. И они, ранее никому не угрожавшие силой, сподобились устроить в горах засаду на тюсюмэлов[14], что направлялись к ним на переговоры от самого Алтан-хана. С дикими воплями они накинулись на послов, ссадили их с лошадей и, деля скарб тюсюмэлов, передрались между собой с таким шумом и яростью, какого не стоит и весь скарб мира. Алтан-хан взъярился и собрался направить карательное войско в земли хоро-туматов, когда получил весть от Чингисхана и понял, что чужими руками расправиться с безмозглыми куда как хорошо. Он передал Чингисхану свое согласие и помог одеждой, лошадьми и провизией, а тот без затяжек решил двинуть войско в северные горы.
Командовать войском предназначалось старшему сыну его – Джучи. Ему нужен был боевой опыт, в этом-то, пожалуй, и заключался тайный смысл готовности Чингисхана к защите интересов вождя нучей.
Сыновья подрастали незаметно, но заметно удлинялись их пути, захочешь найти кого-либо из них в ставке – посыльные с ног собьются, языки вывалят, прежде чем найдут. И Чингисхан оповестил сыновей загодя. Вечером они собрались в сурте Борте, где нашлось место и для дочери Алтынай. Она помогала матери в приготовлении разносолов с пряностями и многообразными китайскими специями, в которых разбиралась получше Борте и приготовить которые было дано не каждому повару так, чтобы понравилось неприхотливым монголам.
«Ничего», – думал Чингисхан, оглядывая застольное изобилие. «Прищучит, так и траву жевать будете…» – и снова вспоминал ветки да коренья, которые довелось есть в детстве. Он видел четырех своих сынов, что сидели рядком, и Угэдэй, как всегда, уже подтрунивал над старшим братом Чагатаем. Тому хоть и не занимать железа для начинки духа, но и простодушия в сердце – тоже. Самый старший из братьев Джучи, хоть и стал уже отцом, но с младшими ладит и снисходит к ним, часто поощряя их проделки понимающей улыбкой. А самый малый – Тулуй – уже жует. Последовали его примеру и старшие, а когда насытились, то Борте разлила архи по малым пиалам.
Отец сказал:
– Дети, вы так быстро становитесь взрослыми. Растете так, что отцовский глаз не замечает – все кажетесь детьми. Но приходит время мужать, и сегодня я возлагаю на Джучи – старшего моего сына, о котором слышал от людей много хорошего, часть своей боевой ноши… Знаю, что он хороший воин и вожак, а потому назначаю тебя, Джучи, главой войска, которое пойдет на север. Верю, что ты не только силен, но и умен. Я сказал!
– Ты сказал, я услышал!
– Вижу, что вы завидуете Джучи, – усмехнулся отец, видя, как заблестели глаза младших, – но придет и ваш черед, если будете учиться у вашего брата собранности и терпению, обуздаете свои дурные наклонности, которых нет, может быть, лишь у каменного валуна. У всех людей они есть, да не каждый может сжечь их в огне походных костров и в тяжелой работе ума, желающего понять законы этого мира. А Джучи еще послушает, что я ему скажу: помогай своим воинам личным поведением, заботься о еде и спокойном сне нукеров, но держись с ними на расстоянии удара камчи… Ты понимаешь, о чем я говорю?
– Мне понятно, отец. А Угэдэя ты отпустишь со мной?
– Нет. Никому из братьев ехать не нужно… Опасна не столько сама битва, сколько путь через высокие горы и горные реки… Угэдэй еще слаб для таких переходов.
Угэдэй не удержался:
– А вот и нет!
– «И это я?» – спросила змея, когда ее располовинили мотыгой, – засмеялся хан. – Повремени. Придет и твой час.
– И мой, и мой! – заявил Тулуй, и хан подумал, что младшой не в меру избалован. Его ласкают все: и братья, и матери, и бабушка, но старики с самого млечного возраста стали угадывать в Тулуе только им понятные приметы великого полководца и воина. А вот Чагатай излишне холоден и суров – не скрывается ли за этим нерешительность и слабость? Надо бы присмотреться к нему, но когда? Лучше всего человек познается в бою, там Чагатай был на высоте. Стало быть, он таков и есть – холоден и суров, а мягок только с младшими, от которых не так далеко и ушел…
Вот Алтынай приютилась поближе к матери и делает вид, что слушает молву мужчин, а сама так и поглядывает: у всех ли горяча еда, не полить ли махан горячей луковой подливой, не подать ли кому чаю – молодец Алтынай. Видно, правильно люди говорят, что девчонки взрослеют быстрее пареньков. Не заметишь, Алтынай, как пролетит времечко и повезут тебя в белой арбе к вождю какого-нибудь народа, и будешь ты ему женой, а монголам – заступницей и ходатаем в трудные, не дай Бог, времена…
«Как хорошо, что я еще молод! – подумал хан. – И я еще смогу поднять их на крыло, если на то будет воля Всевышнего…»
После назначения Джучи главнокомандующий Хубулай пришел к хану со своими соображениями:
– Северные земли простираются широко до самых вечных льдов. Там нашли прибежище много племен. Есть там люди, называющие своих батыров – мергенами и уверенные, что их мергены могут превращаться в ястребов. Не пустить ли нам на этих ястребов наших соколов-балабанов? Не направить ли на север не одно войско, а два.
– Что за нужда? – Поначалу хану не хотелось вникать в умозаключения Хубулая, а его слова показались сказанными от скуки и бездействия, которые одолевают воина вне войны.
– Так я же говорю: земля на севере обширная, к тому же дорога измотает наших нукеров и на все эти горы, леса, переправы – знаешь, сколько сил уйдет? Земли там трудные, и одно войско может кануть в них, как в трясину – ищи-свищи! А туматов ты знаешь – они легко не уступят, будут жрать кизяки и твердить, что ничего вкусней отродясь не ели!
Что-то в его напоре было такое, чем хан не мог пренебречь, и поторопил:
– Так-так! И зачем ты все это мне талдычишь?
– Зачем нам толмачи, великий хан? Сдается мне, что нужно бы направить на север и еще одно войско из бывалых бойцов, которым нипочем долгое противостояние в горах и в лесах! Вот смотри! – Хубулай кончиком камчи стал чертить на войлоке невидимые линии. – Готовый к выступлению тумэн Джучи правым крылом направим по левому берегу озера Байхал на запад. Там обретаются два больших племени ойуратов и кыргызов, кроме того мелочь – буряты, борохуты, урусуты, хапханасы, хакасы, тюбэ. А хоро-туматы владеют почти всем побережьем Байхала. Вот туда и направим Хорчу и Хордоя-Бэки во главе с Борохулом! Они выходцы из тех мест и привычны к горам, как архары! И пока мы будем препираться с хоро-туматами, войско Джучи не должно привлекать к себе внимания нучей, и они обо всем узнают, когда будет уже поздно из дохлой овцы варить похлебку!
Хан оценил доводы Хубулая.
– Надо посоветоваться с большими тойонами, – сказал он, хотя знал, что предложенному Хубулаем нет цены.
Борохул остался доволен тем, что хан дает ему войско в поход на север. Ему пришлось всего только раз, и то во главе небольшого отряда, да еще вместе с Мухулаем, Боорчу и Чилау, принять посильное участие в спасении людей Тогрул-хана из смертельных объятий Кехсэй-Сабараха. А нынешнее дело уже настоящее, и Борохул собрался быстро и, заскочив к приемной матери на чай, двинулся к Хорчу и Хордою-Бэки, готовым выступить в северный поход. Ожулун огорчилась тем, что названый сын не останется у нее на ночлег, но смирилась, зная, что мужчина может устоять перед красивой негодницей, но не перед войной, и, прижавшись носом ко лбу Борохула, шлепнула его легонько: иди.
Двигаясь без привала два дня и две ночи, Борохул нагнал войско Джучи, вставшее лагерем у подножья лесистых гор, и заметил, что у людей Джучи прыти поубавилось. Хордой-Бэки махнул рукой в сторону гор:
– Как большому войску перевалить их? Втянемся в ущелье – попадем в засаду… Будем стоять тут – достоимся до окружения… А другой-то дороги нет – перевал один… И это – гибель, если мы на него сунемся!
Наутро Борохул с двумя сюнами пошел на разведку перевала и понял всю справедливость опасений своего тощего друга Хордоя-Бэки, налетев на низко натянутую веревку с шумящими подвесками. Значит, где-то рядом в скрадке хоро-туматские караулы. Если даже их нет и все эти ловушки сооружены охотниками, не говорит ли это о том, что местность не настолько дика и пустынна, как им казалось в теплой ставке. И он отправил людей на восток и на запад на поиски другого пути через горы.
Глава шестнадцатая
Покорение непокорных
Если же какие-нибудь татары будут на войне сброшены со своих лошадей, то их тотчас же следует брать в плен, потому что, будучи на земле, они сильно стреляют, ранят и убивают лошадей и людей. И если их сохранить, они могут оказаться такими, что из-за них можно получить, так сказать, вечный мир и взять за них большие деньги, так как они любят друг друга.
Джованни дель Плано Карпини. История монголов. XIII век
В те времена, когда шаман Тэб-Тэнгри был еще мальчиком по имени Хохочой, одногодки смотрели сквозь него, как сквозь степное марево: они не замечали его – до того тот был болезнен, худ и золотушен. Он привык к одиночеству и обидам, и если б не Тэмучин, которого по причине великодушия, присущего истинной силе, тянуло на защиту слабых, то кто знает, дожил бы будущий шаман до зрелых лет. Но одинокий камень заметней груды камней. Так и угрюмый, тощий, надменный Хохочой возвысился над муравьиным кишением людей, даже не участвуя в походах и набегах. Вечно полеживающий в своем сурте, он прослыл тем не менее человеком, могущим общаться с высшими небесными силами, могущественным знахарем, и когда облачился в шаманские одежды, то люди приняли его воплощение с готовностью. Теперь Хохочой только и успевал перепрыгивать с коня на коня, чтобы поспеть к больному или к несчастной роженице, или к беспечному охотнику, которого помял зверь. Он не отказывался камлать, но, бывало, и отказывался, если видел, что тьма уже намертво ухватила страдальца. Шаман был весьма не глуп. А когда – бывало и так – человека уже заживо похоронили, но он вдруг ухитрялся перепрыгнуть в седло жизни и продолжить свой земной путь, – слава Хохочоя пересаживалась в сотни седел и скакала впереди него в разные стороны. Слов нет: Хохочой знал слабые людские души и, предсказывая кому-то будущее, умел сказать то, чего человек ждал от жизни, подавая этим надежду и убивая тревоги.
Все это Ожулун знала, и ее не озадачили слова, сказанные Хохочоем на курултае под белым знаменем Чингисхана. Она сомневалась, что хан верит в чудеса, как и сам Хохочой, но и не находила похвальным поведение великих тойонов, едва не заклевавших шамана своим осуждением, которое чуть не дошло до пинков и тумаков. Только слепой, с выеденными черной оспой глазами, мог не видеть влияния Хохочоя на умы многоязыкого народа. Понятно, что тойонов задело вмешательство шамана в земные их дела и обычай провозглашать хана с согласия вождей всех племен, а вовсе не по предвидению колдуна с бубном. Но почему бы не использовать объединяющее влияние шамана впредь, когда ил будет разрастаться и становиться все менее управляемым? Ожулун еще не знала, какую оплеуху закатил шаману Тэб-Тэнгри тойон Боорчу и как сунул тому, сбитому оплеухой наземь, под нос кулачище размером с его голову. Она не слышала как шаман, закатив глаза, взывал к небесам: «Хой, хой! Где вы, предшествующие мне и следующие за мной?! Если вы далеко – приблизьтесь!..» Она не видела, что Боорчу зажал рот шамана и тот едва не отлетел в верхний мир, суча ногами, но благородный Джэлмэ отнял бессильное тело Хохочоя и, бросив его поперек седла парня-вестового, отправил в стан. Она знала лишь, что после курултая шаман долго болел и не поднимался с постели. И что находясь в излюбленном своем положении на боку, Хохочой крепко призадумался над новыми законами, которые запрещали строго-настрого насилие друг над другом. Осознав это, он стал жаловаться на поругание закона и самоуправство Боорчу своим многочисленным посетителям. Люди сострадали ему и шли жаловаться хану на рукоприкладство Боорчу, унижающее божьего человека Тэб-Тэнгри. «Как гибкое тело дерева точит наглый червь, так и самый хороший закон может быть источен толкователями и обращен к торжеству зла». Так думала Ожулун, советуя Тэмучину пригласить шамана к себе и напомнить ему о том, кто защищал его в детстве – не будущий ли Чингисхан?
– Он не должен наваливать на твои плечи поклажу чужих склок! – сказала она. – Успокой его, пообещай разобраться с грубияном Боорчу… А еще лучше – дай ему какие-нибудь земли во владение, но пода-а-а-льше от караванных троп!
– Ты знаешь: я на него сердца не имею, даже думаю, что он полезен мне, но мучаюсь оттого, что не могу предвидеть его вывертов… Смотрю ему в глаза – там глухая стена. И я думаю, что при разговоре с ним тоже надо выстроить стену внутри себя, сделать вид, что ничего особенного не произошло – люди не сразу привыкают к ярму закона…
– Вот-вот! – одобрила Ожулун. – Пригласи его к себе, и одного этого ему хватит, чтобы показать всем свою сановитость. Он из одного этого будет иметь свою выгоду…
Само приглашение к Чингисхану – знак особого почтения. И Хохочой взял от этого приглашения и мясо и перо, как охотник от рябчика. День встречи, предложенный ханом, он отверг, сославшись на дурной сон, где ему явились черные волки с лошадиными хвостами. Но на следующий день явился в сопровождении более чем сотни всадников. Однако Чингисхан уже предвидел увертки и уловки шамана, поскольку понял все возрастающую силу не самого Хохочоя, а и любого другого посредника между земным и небесным мирами, но все же турхаты встретили кавалькаду шамана у внешнего кольца охраны ставки и никого из всадников, кроме самого Хохочоя, дальше не пропустили.
Когда он размашистым шагом и с отчаянной решимостью труса влетел в сурт Чингисхана, то прямо-таки возопил:
– Так-то вы принимаете человека, ниспосланного самим Всевышним владыкой?! Может быть, вы решили заточить меня в колодки? Я не удивлюсь! Кто мне объяснит: что все это значит?
На что Джэлмэ незамедлительно ответил:
– А ты у владыки небесного спроси, ведь вы с ним, по твоим наглым словам, неразлучны, как паут с коровой! А еще испроси у него вразумления! Может быть, он раскроет тебе твои наглые глаза и ты увидишь – где ты стоишь! А стоишь ты перед Чингисханом, щенок, тявкающий от страха!
Но, видно, Хохочой накрепко вбил себе в голову понятие о своем небесном покровителе, а потому, не снижая голоса, понесся дальше и ткнул пальцем в тойона Джэлмэ:
– Ты кто такой?! Ты – сорная трава на пути глупого ветра! Я ведь не к тебе обращаю свой вопрос, а к равному себе! Ты должен молчать, как пустая изнутри тыква, пока по ней не стукнут палкой!
Охнули почтенные старцы, сидящие на мягких войлочных подушках. Старик Усун-Туруун не дал тишине перерасти в ссору и попытался усовестить шамана:
– Что это с твоей головой, парнишка Хохочой? Я старше твоего отца, Мунгкулук-Хонгхотоя, но, сколько помню, тот даже после бурдюка кумыса никогда прилюдно не опорожнялся! Иди, подойди к воде, глянь на свое отражение с высунутым языком: может, он у тебя слишком длинен?
– Гром небесный на ваши гордые головы! – не унимался Хохочой. – Вы забыли обычай, но чаша грехов скоро переполнится – это вам не в альчики[15] играть, это с небом шутки шутить – играть таким человеком, как я!..
– Молчи, болван! – побледнел обычно сдержанный Джэлмэ. – Прикуси свой язык, тень сухого дерева! – Но вдруг не выдержал и расхохотался.
Смех, как степной пал, охватил всех, кто был в сурте. Люди смеялись, икали, плакали, прятали лица в одежды друг друга. Чингисхан напряг всю свою выдержку, чтобы не впасть в это наваждение, он понимал, что нужно предпринять нечто, позволяющее всем выйти из наваждения без потери лица.
– Что ж, – сказал он, успокаивая жестом. – Ты показал свою силу, Хохочой, напустив на нас чары повального смеха. Не смеялись лишь двое: ты и я. Значит, мы сильнее чар, напомнить об этом здесь присутствующим нелишне… – Он со значением глянул на тойона Джэлмэ, и тот с пониманием покивал: да-да-да. – А пригласил я тебя, чтобы наделить прекрасными пастбищами, Хохочой, брат мой… Чтобы дать тебе богатые дичью горы на левом берегу реки Селенга, там, к западу от степи, где когда-то жили мэркиты…
Что-то детски беспомощное на миг проглянуло в лице шамана, но тут же исчезло под покровом маски угрюмого отшельника. Он сказал, отмахиваясь:
– Я – божий человек: где хочу, там и живу! Ты хочешь отправить меня в опалу – так и скажи!
– Мы все божьи люди, – доброжелательно продолжал хан. – Но у всех у нас есть свои земли, где можно пасти скот и содержать челядь. А у тебя стало в последнее время многовато и того и другого – или это не так, божий человек? Одних нукеров с тобой прискакало больше сотни…
И тут уж Хохочой поспешил повернуть развитие разговора:
– Если хочешь мне добра, то прикажи наказать сурово одного тойона, – и его колени задрожали от ненависти. – Ты знаешь, о ком я веду речь?..
– Ах, ты про тойона Боорчу, однако? Я отправлю его на войну, туда… – махнул указующе хан, – на север!
То, что для воина является наградой, из уст хана звучало как обещание кары. Только трус Хохочой мог воспринять и воспринял эти слова Чингисхана на свой лад. Он знал, что на войне убивают, хотел гибели Боорчу и раскрылся в словах:
– А если его не убьют?
– Так ведь и он тебя не убил!
– Хотя надо было… – сказал Джэлмэ, не удержавшись, но Чингисхан гневно глянул на него, и Джэлмэ поправился: – Я говорю: надо было шаману просить небо о вразумлении Боорчу – вот и все… Чего стоит по-дружески попросить Бога? – и при этом лицо тойона был столь простодушно невинным, что Хохочой скривился лицом и вышел вон из сурта.
Старики переглянулись между собой.
– Вы только поглядите на этого тюфяка! – сказал кто-то. – Кто ему позволил уйти?
– Да-а… Этот малый превзойдет всех шаманов вместе взятых.
Хан чувствовал, что если все оставить как есть, то надо ждать беды.
Раньше говорили, что у человека тем короче век, чем длиннее его язык, и с пустобрехами дело решали простым усекновением главы. Противостояние с Хохочоем не сулило судьбе ила ничего хорошего, и, слушая ропот старцев, Чингисхан не мог найти решения, которое устроило бы всех: в голову шли мысли о самом простом и надежном – о казни Хохочоя. А тут и Джэлмэ плеснул масла в огонь:
– Прикажи, о великий хан, и мы с Боорчу найдем способ отправить его к небесным товарищам!
И таким искушением явились эти слова тойона, что Чингисхан аж челюсти стиснул, чтобы не высказать скоропалительного согласия. Он чувствовал, как высох язык во рту, как высохла глотка. И, помолчав, в каменной тишине, он сказал ожидающим его решения тойонам:
– Кто же после этого будет верить мне, о мои верные псы… Такие дела должен решать Верховный суд. Не будем пачкать чистое дело своей неправедностью… Пусть бы лягушка квакала, а цапля открывала клюв! Но не получится ли так, что слава о силе Хохочоя возрастет среди черни стократ и он станет для нас недосягаем?
– Уж и так, – прорычал гневно Усун-Туруун, – сколько людей к нему от тойонов перебежало! Этак можно и войско собрать!
– Войско не войско, а с теми, от кого ушли люди к Хохочою, поговорить бы надо! – сказал Джэлмэ, уже пришедший к своей обычной рассудительности. – Никто не знает о пропаже лучше бывшего хозяина. Что за люди уходят к Хохочою? Не больные ли? Не сумасшедшие ли? Какой достойный человек предпочтет Богу – шамана с его духами и абасы-чертяками? Может быть, это такие же дармоеды, как и сам Хохочой: гной всегда собирается вокруг занозы! Может быть, надо дождаться, когда нарыв созреет, и чикнуть его ножичком!
– Не было бы поздно чикать, – тихо сказал старец, сидевший рядом с ханом, и как бы только для ушей хана. И хан понял, что опасения его не напрасны.
Через наблюдателей и слухачей, снаряженных в стан Хохочоя, стали поступать тревожные известия. Там образовалось какое-то подобие школы шаманов: более четырехсот людей сбежали к Хохо-чою, все ночи напролет в нескольких суртах камлают шаманы, вызывают духов и говорят пророчества о черной болезни и засухах, о великом голоде и гибели младенцев. Эти отщепенцы ловят для жертвоприношений любое приглянувшееся животное из чужого стада, а владельцы этих животных помалкивают, боясь проклятий. Хохочой был не глуп и разбил стан у единственного в степи озера. А куда идти скоту на водопой, известно – к озеру. Тут кому-то из рогатых и карачун.
Тогда Джэлмэ своим именем приказал, чтобы все главы родов пригнали обратно из стана Хохочоя тех, кто самовольно ушел туда. Но Хохочой осыпал изощренной бранью тех, кто явился за своими людьми, а некоторых велел бить плетьми. Некоторые из ищущих схватились было за оружие и могли посечь всю хохочоевскую рать, но джасак Чингисхана строго-настрого запрещал применение силы оружия внутри ила. Нарушение запрета грозило смертью. И большие тойоны возвращались с позором восвояси, а в сердцах их копились обида и гнев, что не сулило ничего хорошего в ближайшем будущем…
В это же время с севера пришли вести.
Весть от Борохула, что направился через реку Амыр к хоро-туматам, не могла считаться хорошей. Он доносил, что внезапно отошел к праотцам Дойдухул Сохор и власть прибрала к рукам сама Суон Ботохой, а на предложение о единении родов она оскорбилась, говоря, что до них не дошли руки даже великого владыки Поднебесной Алтан-хана, а что говорить о каком-то Тэмучине? Она сказала дословно: «Если вы решили испугать одинокую вдову и показать свою силу, то и на вас у меня имеются копья да пальмы. Пусть будет сражение!»
Отправив весть об этом в ставку, Борохул вновь стал искать проход через горные хребты, но уже понимая, что без потерь провести огромное войско не получится. Хоро-туматы, которые знали эти места не хуже лесных зверушек, на всех больших тропах понаставили засад. Выходило, что на пробивание нового перевала может уйти не один месяц, да и останется ли эта суета тайной для хоро-туматских разведчиков? Войско монголов встало, упершись в стену гор.
Борохул отощал и усох от тревог, объезжая места возможного броска через горы, а часть войска спрятал в лесах, выставив усиленные караулы. Он подумывал и об отвлекающей перестрелке на одном из горных перевалов, куда можно было бы стянуть немногочисленные, но занимающие выгодные вершины, силы противника. Чтобы не приковывать к себе внимания лазутчиков, Борохул разъезжал без охраны, и это стоило ему и двум его тойонам жизни – они попали в засаду и были убиты.
Только на третьи сутки эта тяжкая весть пришла в ставку.
Чингисхан был оглушен скорбью и разгневан неудачей: сам он был трижды ранен в походах, Хасар с Бэлгитэем по два раза мечены и саблей и стрелой, но гибельная чаша пока обходила их стороной. Чингисхан не знал твердо: что делал бы он на месте павшего Борохула. Возможно, то же самое, и лежал бы теперь под могильными камнями в чужих горах, но кровь от жажды мести прихлынула к его глазам – он приказал готовить пять мэгэнов, которые вознамерился повести сам, чтобы воздать должное хоро-туматам. Ярость туманила рассудок, и он едва не изгнал из сурта Сиги-Кутука, который вещал здравое:
– Тебе не обязательно ехать самому, хан. Негоже кречету гонять воробья. Вспомни: за осень и зиму мы потеряли двух знатных военачальников из-за того, что они утратили страх и разъезжали без охраны! Так погиб Чимбай в самом цвете своего мужества! И тебе надо не на коня прыгать и скакать, размахивая саблей, а издать указ об охране военачальников, обязательный к исполнению! Обезглавленное войско – стадо баранов, один вожак стоит мэгэна таких баранов!..
Хан зашипел, как раскаленное железо, если плеснуть на него водой, но постепенно остыл. Он думал, как сказать матери о гибели Борохула. И Сиги-Кутук, словно читая мысли своего властелина, сказал:
– Не ходи один. Пойдем вместе.
Молча поднялся и встал рядом старик Усун. В его молчании угадывалось полное согласие со словами Сиги-Кутука. И хан почувствовал, как отлегло от сердца нечто, не зависящее от его ханской воли. Издревле считалось, что павший на боле брани принадлежит Богу как лучший из людей, но почему же, почему так невыносимо трудно терять близких, и каково сердцу матери, если она, перенесшая столько сердечной боли, рухнула на руки Тэмучина, когда он еще не успел сказать ни слова? Как она почувствовала скорбную весть? Каким ветром ее принесло? Какая звезда мигнула матери бессонной ночью перед тем, как навсегда угаснуть?
– …Бурджун, бурджун, побереги себя. Что поделаешь: погиб воин… – то по-китайски, то по-монгольски щебетала Хайахсын. – На все Божья воля, бурджун…
– Внуки заменят его тебе, мать… – говорил Тэмучин, прижимая к своей груди седую, как летний ковыль, голову матери. – Ты нужна им… Не надкусывай своего теплого сердца…
Но Ожулун вдруг завыла, как не выла даже в полной лишений юности. Она не знала в себе этого воя, подобного волчьему, и в нем были не только печаль со скорбью, но и неукротимая ненависть…
Место Борохула во главе северного войска занял тойон Дорбо-Дохсун из рода джурбенов – так решили на военном совете. Ему было позволено взять на поддержку пять отборных сюнов из числа джурбенов, а все люди этого рода были рослыми и привычными к походам, они знали любую известную в степи работу, и она, казалось, никогда не была им в тягость.
Чингисхан так напутствовал его, когда они остались наедине:
– С помощью Всевышнего старайся не забивать миролюбивых хоро, а клади побольше туматов – они колобродят и множат своею спесью непокорство остальных. Не забывай о строгом порядке в войске: леса на севере – гуще, чем шерсть на собаке, и враги могут прятаться в них, как блохи в собачьей шерсти, как клещи на горле лесных птиц. Они будут кусать и жалить отбившихся. Береги людей и за каждого убитого из засады руби безжалостно десяток вражьих голов. Ты знаешь, чтобы попасть в дальнюю цель из лука, нужно брать много выше. Чем круче первый кипяток, тем легче ощипывается перо. Проявишь жесткость сразу – меньше крови будет литься потом… Купец Сархай рассказывал мне, что все вооруженные пророки побеждали, а невооруженные – гибли. Пусть поможет тебе всевышний Бог!
…Когда Дорбо-Дохсун прибыл в ставку северян, войско встретило его в полной растерянности по той причине, что потеряло всех своих крупных тойонов. А случилось так, что после гибели Борохула тойоны Хорчу и Хордой-Бэки решились на переговоры с возгордившимися туматами. Начало этих переговоров не предвещало тревоги и было вполне обыденным, но до тех пор, пока Хорчу не стал перемывать имена своих тридцати жен и путаться в них. Довольно простодушные туматы косяками повели к Хорчу своих девственных дочерей, спеша не упустить возможности вот так быстро и надежно породниться с великими монголами. Тут польщенный и распустившийся подобно дикому подсолнуху Хорчу закапризничал и отказался от двух дочерей двух весьма влиятельных тойонов, которые показались ему лишенными некоего перчика. А объяснить свой отказ Хорчу не сумел потому, что не хотел. Тойоны возмутились, и лица их стали печеночного цвета. Недолго думая, а лишь переглянувшись меж собой, они приказали своим холуям схватить и Хорчу, и Хордой-Бэки, привязать их к деревьям сыромятными ремнями с душком, который привлекал к себе мух-кровожорок и тучно клубящийся гнус. Все шло к неутолимому побоищу, но по приказу самого Хорчу-тойона сюны-алгымчы отвели своих нукеров за ограду и избежали потерь, оставив своих военачальников в руках разъяренных туматов.
Оглядевшись на месте и поговорив с умными людьми, Дорбо-Дохсун уразумел, что вести расстроенное войско по торным тропам значило потерять его большей частью, а долгая война мрачно отразится на участи тойонов, которых порядочно изъели лесные насекомые и которые теперь находились заложниками-аманатами у туматов.
В строжайшей тайне он приказал рубить новую дорогу через отвесные скалы, по звериным тропам, усеянным колючими кустарниками и заваленным буреломом, где даже гаду земному протиснуться непросто. Люди быстро уставали, толстые худели на глазах, у тощих вваливались животы и глаза, ленивые мечтали о смерти, а выносливые – о воде, но усталые сюны быстро сменялись свежими. Сородичи Дорбо-Дохсуна безропотно и бессменно отдавались черной работе, чтобы не дать повода к ропоту. Сам военачальник предпринимал попытки переговоров, но ни одна из сторон уже не верила другой и подозревала ее в коварстве.
Несмотря на свою молодость, а Дорбо-Дохсун не пропустил ни одной заварухи в последние десять лет, он достаточно изучил норов многих племен, с которыми ему приходилось вступать в дело. Он знал, что самый упрямый из верблюдов не сравнится в силе упрямства с обычным туматом. И если нар еще может пойти на уступки при виде остола или суковатой палки, то тумата не образумят никакие доводы, если он вбил себе в голову, что его намерены обмануть. Однако вот и о шести татарских родах рассказывали, что по самому ничтожному поводу они устраивали кровавую поножовщину, а при ближайшем рассмотрении оказались довольно добродушными людьми. И Дорбо-Дохсун, который и сам по молодости мог вспыхнуть, как сухая трава, глушил в себе гнев и обиду и вел переговоры, чтобы тянуть время, не торопить рубщиков, ибо они в спешке могли стать менее осторожными и поставить под угрозу срыва весь маневр. И переговоры приносили свои плоды: выяснилось, что Хорчу и Хордой-Бэки живы. А на всякий случай он сказал туматам, что оба пленника являются близкими родичами самого Чингисхана. «Может быть, все и обойдется», – думал Дорбо. «Ну, придется Хорчу иметь не тридцать жен, а вдвое больше – это ли беда?» А однажды после привычных пустых разговоров один из туматских тойонов объявил, что их приглашает на курултай сама Суон Ботохой-хотун и они доведут до ее слуха всю явную и тайную суть переговоров, а ее ответ передадут по возвращении. Словно поклажа свалилась с могучих плеч Дорбо, когда топот туматских коней сменился топотом копыт кобылицы вестового с порубок.
Просека была готова.
Лес для степняка враждебен и притягателен.
Любопытство порой осиливало осторожность, но путь не приносил коварных неожиданностей и люди широко раскрытыми глазами взирали на ветхие развалины землянки-карамо, вырытой в склоне горы. Они трогали толстые, источенные жуком бревна стен и лоскуты покрытия из бересты, вываренной до шелковистой податливости в рыбьей ухе, как говорил проводник, и сшитой нитками из оленьих сухожилий.
– Тиски называется, – говорил, подслеповато щурясь, старый таежник, тыча пальцем в мягкую бересту, которая была подвешена на палке над полуразвалившимся входом в жилище. – Тут жили люди мось – дети медведя…
Нукеры переглядывались, посмеивались, цокали языками.
– Мось… Хе-хе! – удивлялись непонятно чему. – Мось так мось! А где ж они теперь?
Проводник говорил, жуя какую-то траву и сплевывая жвачку в матерчатый лоскуток:
– Улетели, однако… – и махал рукой.
Снова смеялись нукеры, говоря, что человек не может летать вверх, а только вниз. Тогда проводник осуждающе замотал головой:
– Они могли оборачиваться птицами!.. У них был лымбель-куп – мог летать орлом… У них был хозель-куп – мог порхать, как кедрушка, сэнгиль-куп – становился глухарем… А оземь ударится – человеком шагает! Мурсисне-хум мог становиться гусем!
– Ух-се! – удивлялись нукеры и с почтением озирались вокруг. – Из такого гуся похлебку не сваришь!
– Так, однако… – соглашался проводник, жующий какую-то траву.
Шли дальше через подпираемые стрежневыми водами протоки, в которых трудно было определить направление течения, но которые говорили о том, что перевал преодолен и войско вышло на равнину.
Одним броском смяв благодушествующие туматские сюны в караулах, войско Дорбо-Дохсуна застало врасплох и полонило собранных на курултай всех значительных людей этого племени. Не оказав никакого сопротивления, они оказались в мешке, и нукеры их были спущены в овраг с отвесными склонами. Руки нукеров были привязаны к лежащим на шеях палкам, как раскинутые крылья.
– Глядите-ка, – смеялись покорители, – они тоже превратились в птиц!
– Вон глухарь!
– А вон и петел!
Однако Суон Ботохой-хотун вместе с другими великими туматскими тойонами содержали в отдельных белых суртах. Первое же, что сказал Боорчу, когда его развязали, звучало так:
– Уж лучше вообще никогда не жениться, чем пережить такое!..
На что Дорбо-Дохсун ответил: