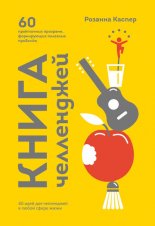По велению Чингисхана Лугинов Николай

– Как же легко ты отказался от своего заветного желания! Поздно! хан вряд ли отменит свой указ и быть тебе еще тридцать раз женатым!
Через пять дней вернулся посыльный из ставки Чингисхана и передал, чтоб туматов не унижали ни казнями, ни битьем, ни поборами, а оставили их на родовых землях, заручившись крепким согласием войти в состав нового ила. Хорчу же было велено взять в жены тридцать девушек из лучших туматских родов. Дорбо-Дохсун получил приказ переправиться с основным войском обратно и встать на ключевых высотах, не приближаясь к укрепленным рубежам владений Алтан-хана.
Старые воины понимали – зреет большая война.
Глава семнадцатая
На Запад
В высоких горах направляйся к переходу;
В широком море направляйся к переправе.
Не тревожься, что далеко: пойдешь – доберешься;
Не тревожься, что тяжело: станешь поднимать – поднимешь.
Зубы, чтобы есть мясо, – во рту,
Зубы, чтобы грызть человека, – в душе.
Силою тела можно победить одного,
Силою духа можно превзойти многих.
Из завещания Чингисхана своим сыновьям.
Лубсан Данзан, «Алтан Тобчи» («Золотое сказание»)
За все время после ухода войска Джучи на северо-запад лишь раз присылал он сообщение о благополучной переправе через реку, да еще раз – о прибытии к подножию Алтайских гор. И уже больше месяца от него не было известий.
– Сердце ребенка – в камне горы, – сокрушалась Ожулун, слепнущими глазами высматривая что-то за чертой небосвода. – Ничего не меняется в людях, когда бы они ни жили. Пока за юбку бабкину цеплялся – бабка нужна, а как сел в седло да опоясался сабелькой – все, бабка: чихни и забудь!
– Бестолковая голова у твоего внука! – говорил и Тэмучин. – В кого он такой, шайтан знает! – говорил не в сердцах, а для поддержки Ожулун. Сам-то он отчетливо понимал всю тяжесть управления огромным войском в первом большом походе, а потому пояснял Ожулун: – Ты не убивайся так. Подумай, ведь края, куда снарядился Джучи, не близкие и живут там десятки незнакомых племен… Искать с ними единства – мудрому старику не всегда по силам! Вот и тянется время, как остывающая смола… Дурные вести без крыльев летят быстрей птицы, без ног обгоняют иноходца, так? И если их нет, значит, все ладом! И, может быть, Джучи будет молчать все лето.
Он был прав. Оказалось, что Джучи встретился с ойуратами и после долгих бесед с их ханом Худухай-Бэки уговорил того добровольно войти в ил. А ойураты были племенем крупным и уважаемым. Одного конного войска насчитывали почти тумэн. Племена мелкие, что таились в складках и распадках Алтайских гор, потянулись вслед за ойуратами – и это означало, что цель похода достигнута. Но слиянию малых рек часто предшествует половодье. И на сей раз все произошло не с бухты-барахты.
Джучи разделил войско на три крыла и стремительно объял подножие Алтайских гор. Когда разбили полевой стан, то даже бестолковые поняли, что продвижение это не осталось не замеченным ойуратами. Джучи подумал, что вскоре с той стороны прискачут гонцы или его люди начнут гибнуть от стрел, пущенных из укромных засад, что означало бы войну безо всяких церемоний. И вот дождались: от ойуратов явился человек с непроницаемым лицом, похожим на личину из красной глины и, переведя тяжелое кислое дыхание, озвучил послание своего вождя. Он сказал:
– Худухай-Бэки хочет говорить с начальником вашего войска, чтобы знать, каким ветром вас принесло и по какому умыслу вы разворошили наш муравейник – тихую и спокойную жизнь этих великих мест.
Джучи не замедлил с ответом:
– Лошади общаются ржанием, коровы – мычанием, птицы пересвистом, а люди находят понимание в разговоре. Я готов к разговору.
Худухай-Бэки был похож на двухлетнего тарбагана с глазами столетнего старика. Снизу вверх он смотрел на долгошееего Джучи так, что казалось, шапка из огненной лисицы вот-вот упадет с его умной головы и прожжет кошму на полу сурта, и лицо его не могло найти нужного ему выражения. Но, наконец, он придал ему вид мрачного удивления.
– Откуда родом? Какой крови? Какого племени? – спросил он по праву старшего по возрасту.
– Приветствую тебя, вождь, – отвечал Джучи, вежливо и спокойно глядя в напряженно прищуренные глаза Худухая-Бэки. – Может, слышал ты, а может, и нет, что все мы, многоязыкие племена с берегов Селенги, Керулена, Онона, из песков пустыни Гоби – мы объединились в могучий ил и стали зваться монголами. У нас нет намерений никого теснить и применять силу, которой у нас теперь в избытке.
– Не знаю, чего у вас в избытке, – напряженным голосом произнес ойуратский вождь. – …Не знаю, не видел… Может, хитрости и коварства у вас в избытке. Говоришь про мир, а явился с войском… А войско ощетинилось пиками да пальмами. Выходит, сначала припугнуть нас вознамерились, а уж потом мозолить языки в переговорах.
– Чужая страна – чужие обычаи, – усмехнулся Джучи. – Мы едем, никого не трогаем, но, согласись, с оружием как-то поспособней!
Худухай-Бэки рассмеялся на усмешку Джучи и не без душевного труда придал лицу глуповатое выражение:
– А-а-а! – понятливо закивал он. – Так вы любители покататься на спинах вьючных животных по имени боевые кони?.. А пиками вы рыбу добываете, а стрелами дырявите тучи, когда вам хочется дождя!
– Приятно поговорить с неглупым человеком, – сказал Джучи и осмотрел приближенных ойуратского князя: те стояли, каменно уставившись в пол, будто ждали решения своей участи. Что ж, может быть, так оно и было. – Отдаю должное твоей рассудительности. Так рассуди до конца: мы, конечно, не купцы, которые спят на горбах своих верблюдов, как на руках кормилиц. И чего ждать от неведомой дороги безоружному, кроме постоянной опасности?
– Говори правду, воин, – посоветовал Худухай-Бэки. – Ночуйте здесь, а утром, когда солнце взойдет, снова встретимся здесь же и сравним твою правду с моей. Согласен?
Джучи слегка поклонился в знак согласия.
Солнце едва подрумянило небо над чертой горизонта, и первые лесные пичуги, словно не веря в ежедневно свершающееся чудо, робко нарушили тишину, чтобы через несколько мгновений грянуть во все многоголосье. Джучи уже встал и разбудил советников.
Не спал и Худухай-Бэки. Он, может быть, не спал и ночь, поскольку у его сурта догорал костер, и кипящая вода из большого черного казана выплескивалась через край и шипела на головнях костра. Худухай-Бэки ждал чая, сидя на подстилке из драгоценных собольих шкурок.
Джучи не стал доставать из торбы привычную свою подстилку, которая была куда скромней собольей, и уселся на гостевую, что приготовили для него челядинцы хозяина. Она была лисьей, но вполне устраивала пока Джучи, который уже смотрел на самого Худухая-Бэки как на своего подчиненного, чье имущество и сама жизнь принадлежат или будут принадлежать Чингисхану.
Начал тот, кто старше:
– Как обитатель этих благословенных мест, я спрашиваю у тебя, пришлого человека, первым: как это ваше ничтожно малое племя так быстро овладело всеми людьми бескрайних степей? Я слышал, что вы развеяли великие племена найманов, мэркитов, тангутов, что вы бросили их лицом вниз и отняли у них все богатства, а самих превратили в челядь, как такое могло случиться?
– Такое случилось, – сдержанно отвечал Джучи. – Можно продолжать?
– Конечно, конечно, – заволновался собеседник. – Но как?
– Тогда я продолжу. – Джучи посмотрел на него так, словно хотел запомнить каждую морщинку, и глубоко вздохнул, предвидя долгий разговор. – Мне кажется, что дерево не может сразу давать тень – оно произрастает из семечка и само дает семена. Ты говоришь, что мы – ничтожно малое племя, и это заблуждение мутит тебе рассудок. А ведь на знамени моего отца Чингисхана – серый кречет Бодончора, нашего великого предка. Ты слышал о таком?
– Да, я слышал… – с неохотой признал Худухай-Бэки. – Этот кречет позволил выжить вашему роду…
– И не это главное! – повысил голос Джучи. – Эхо искажает звуки, люди искажают суть. А она в том, что первые – станут последними, а последние – первыми. Пойми попробуй, что идет за чем – рассвет за ночью или ночь за рассветом? Но когда я говорил о дереве, то хотел сказать, что доброе семя даст только доброе дерево. Вот что хотел я сказать тебе о нашем роде: пришло наше время – время Чингисхана, сердце которого вмещает в себя весь подлунный мир, а ум которого вмещает всю мудрость предыдущих колен степняков! И он решил объединить сорные племена в один народ и прекратить мелкие междоусобицы, которые размечут этот сор по ветру времени, понятно?
– Хэй! – с деланным недоверием воскликнул в ответ Худухай-Бэки. – Ты говоришь так, что нужен ученый китаец, чтоб за тобой записывать все премудрости! А ты мне лучше ответь попросту: на каких это безгрешных людей вы рассчитываете? Как истребить в нас крысиную алчность, глупую обидчивость, слюнотечение перед чужим добром и еще тьму пакостей? Чем?
– Силой закона, общего для больших и малых, – отвечал Джучи. – И мы приняли такой закон.
– Хэй! – горячился Ходухай-Бэки. – Страхом вы только загоните эти пороки внутрь людских утроб, и они будут вечно там, как жалкие овцы в горящей степи! А этим объединением вы сольете всю людскую низость в одну лохань, только и всего-то! Именно в силу этой неистребимой низости в таком краю, как наш Алтай, где дичь кишит, как черви в черноземе, где трава на пастбищах – хоть людей паси и сыты будут, где даже ненасытная саранча, обожравшись, падает замертво – даже здесь люди не могут жить миром! Они так и силятся искусаться вусмерть и обокрасть нищего! Ну, что: где-то есть другие люди? Ответь мне!
И тогда Джучи сказал главное. Его собеседник не мог возразить ни слова, а лишь открыл в удивлении рот и не собрался скрывать этого своего удивления. Джучи сказал:
– Если людей одного ила начинает портить мир, значит, им нужна объединительная и большая война. Тогда перед многими из них открываются ранее недоступные возможности, тогда в составе большого ила они могут идти в походы на изумрудный юг, на бирюзовый запад, на соболиный север и на золотой восток…
Не сразу после сказанного Худухай-Бэки закрыл рот и не сразу вспомнил о выражении своего лица. Он глядел то на Джучи, прищурив глаз, чтобы мысль не покинула его, то поглядывал на своих советников, прищурив другой глаз, из которого исходил свет легкого презрения. Он словно хотел сказать им: куда вам до нас с Джучи, до людей большого ума. Потом сказал Джучи:
– С этого и надо было начинать! – и приказал слугам: – Несите кумыс! – и обратился к Джучи: – Но мы с тобой, сынок, ни о чем не договорились.
Два войска так и остались в противостоянии и тревожном ожидании боевого боя барабанов. И если монгольские воины могли знать о предстоящем ходе событий и были готовы к кровавому их повороту, то и ойураты, видя, как их вождь проскользнул тенью в свой сурт, рассудили, что мира не получается, что надежды на согласие между ними и монголами стали еще более призрачными. Многим предстоящие сражения были не по нутру: ойураты давно не воевали и начальники их стали жирными, как каплуны.
Худухай-Бэки в предчувствии опасности смотрел на них новыми глазами и думал: могут ли его сыновья сравниться с Джучи, сыном Чингисхана? От двух первых жен он имел двух дочерей, и в страхе, что у него не останется наследника, Худухай-Бэки подыскал себе третью, которая и родила двух сынов. Ыналчай жил уже двадцать лет и на пять лет меньше жил Терелчюн. Он в росте обогнал старшего брата на целый кулак, будто они не одну пищу ели и не одно молоко пили. Мать говорила про него, что на губе уже взошло, а в голове – еще не сеяно. И все же отец позвал к себе обоих. Оба молча и бесшумно возникли перед ним, стараясь не выдать своей тревоги, с деланным равнодушием шмыгали носами. А был ли кто-то, кто не тревожился в эту ночь в стане ойуратов?
Раздражаясь на это шмыганье, отец произнес:
– Главе монгольского войска, похоже, лет не больше, чем тебе, Ыналчай! А мне казалось, что я говорю с мудрым и ученым старичком… В чем загадка? Он – как лук! Силен, гибок, а мысли его, как стрелы, улучают цель без промаха! Как я ни петлял, как ни путал след – он идет к моему логову, к моей норе, и я чувствую себя толстым ленивым барсуком, с которого могут вот-вот спустить шкуру! Да! Я уже не волк – мои клыки притупились, мои полководцы отвыкли от войн и тоже обарсучились! А ты, ты, Ыналчай, ты мог бы возглавить войско и привести его к победе, скажи, сын мой!
– Я готов погибнуть за тебя, отец, – ответил юноша с легким оттенком обиды в голосе. И обида эта не была надуманной. – Ты ведь до сих пор не давал мне командовать даже сюном… Ты все считаешь меня несмышленышем…
– Даже на посредничество между хабханасами и тюбя, когда между ними была война, ты его не отпустил! – встрял младшой, и отец тут же прервал его: – Цыц! – Однако Ыналчай был по-своему прав и Худухай-Бэки понимал это. Он как бы смягчился, говоря:
– Пахай[16], разве можно назвать войной кутерьму, эту возню между хабханасами и тюбя, имеющими каждый по полтора ничтожных сюна? Так мальчишки возятся и пыхтят и пукают, а потом подерутся и размажут кровь по рубахам, чтоб пострашнее выглядеть! А настоящая война… – отец поджал и без того тонкие губы, меченные морщинами. – Настоящее дело такое, что нам нынче его не одолеть…
Юноши переглянулись, а Терелчюн стал грызть ногти, чтобы не дать воли языку, кончик которого уже щекотали вопросы, могущие показаться отцу неуместными. Молчал, предчувствуя хрупкую кость будущего, и Ыналчай. Отец сказал:
– Я решил присоединиться к монголам, глядя на вас. Благодарю вас за это. При нашем жизнеустройстве все пути, кроме этого, ведут в тупик… Из вольных птиц мы превращаемся в домашних индюков, которых хозяин волен зарезать, как только ему захочется. Монголы сегодня – это вольные птицы, выбирающие путь по звездам, и влиться в их стаю – это освежить и взбодрить кровь. И тем из тойонов, кто будет противиться единению, я самолично сломаю хребты вот этими вот руками! У нас с монголами одна праматерь Алан-Куо. У нас один язык. Они сильнее нас, но пришли с открытой ладонью. С ними и вы, мои сыновья, станете настоящими багатурами в битвах на юге и на севере.
И старший не выдержал:
– А как же наша свобода?
– Свободен только сильный, – произнес отец давно выношенное, – а сильны единые, которыми повелевает лучший. Так я скажу моим тойонам.
– Понятно, отец! – сказал повеселевший Ыналчай.
А младший добавил:
– Ок-се! Как просто!
– Просто – это когда на заднице короста, – одернул его отец. И дети, не сговариваясь, смущенно прыснули, а потом стали уже открыто смеяться, указывая пальцами друг на друга.
Улыбался и отец, завидуя невольно юношеской отзывчивости на шутку.
Но шутки кончились.
Джучи отправил людей в тыловые мэгэны, чтобы растолковать начальникам план боя в случае удара ойуратов и повеление пока не приближаться к передовым отрядам, чтоб не вызвать у противника тревоги, а просто хранить боеготовность. Потому же он велел выдвинутым вперед конным ослабить подпруги у лошадей, а самим изобразить картину отдыха, не снимая, впрочем, кольчуг. И ойураты приняли игру – их ряды, сверкавшие щитами, тоже стали ломаться, уставшие от напряжения нукеры ложились на траву и давали отдых затекшим спинам. Похоже было, что туго натянутая тетива ослабла.
Дозорные монголов блаженно и сонно созерцали работу крупных лесных шмелей на разнотравье, когда со стороны лагеря ойуратов показалась летящая во весь опор горстка всадников.
– Три… четыре… пять… – считал Джучи. – Это послы. Надо ехать им навстречу. Эй, Боорчу! Эй, Беге! Хунан! В седло – и за мной!
Монголы и ойураты встретились, но не сшиблись, хотя и те и другие были готовы к этой сшибке. Худухай-Бэки спешился, и вслед за ним спешились его люди. Это обозначало, что грядет мирный разговор, а то, что всадники сошли с лошадей, – приглашение к нему.
– Идемте на вершину кургана, – предложил Худухай-Бэки. – Оттуда хорошо видно во все стороны…
– И что же там видно? – спросил Джучи, ведя коня в поводу и следуя плечом к плечу с ойуратом. – Дымку мира или копоть войны?..
– Хм… хм… – кашлянул Худухай-Бэки. – Надо хорошо сесть, чтобы хорошо съесть, а чтобы хорошо поговорить, надо мяса наварить. Согласен?
Джучи похлопал своего жеребчика:
– Скажи мне, мой быстрый сокол, ты не против, чтоб я дал отдых твоей спине? Нет, он не против…
– Ок-се! – притворно возмутился Худухай-Бэки. – Видно, тебе все же иногда своя голова кажется меньше мышиной, раз ты советуешься с большой головой коня:
– Не гневайся, хан! – улыбнулся Джучи. – Но иногда лучше сидеть на мягкой траве, чем на спине любимого коня… И я согласен, как ты сам уже понял. Тебе-то ума, я вижу, не занимать…
Взошли на вершину кургана и церемонно сели.
Помолчав в ожидании чего-то важного, глядели друг на друга не ставшие врагами Джучи и Худухай-Бэки, все казалось и без слов понятным, однако слова должны быть произнесены, как клятва. И ойурат сказал на понятном всем языке:
– Мы, как люди одной крови, имеющие одних с вами предков, хотим делить с монголами их путь и судьбу…
– Уруй![17] – закричали старые Беге и Хунан. Они вскочили с мест и воздели руки к небу. – Пусть будет уруй!
– Я привел с собой своих тойонов, – сдержанно и монотонно продолжал вождь ойуратов. – Вот глава нашего войска Хайгас-сегун[18] и наш домовитый тюсюмэл Ойуун-Кюн.
Оба названные опустились перед Джучи на колено. А их вождь все так же неспешно и смиренно говорил:
– С этого дня мои сыновья – твои братья. Взгляни на них!..
Оба сына опустились перед Джучи и наклонили лобастые головы, но широкие плечи обоих были напряжены, как крылья на отлете. Боорчу крякнул от удовольствия созерцания богатырей – он питал благорасположение к людям крупного раскроя, под стать самому себе.
– У меня им будет тесновато, как ты думаешь? – с нескрываемой грустью спросил отец. – Их зовут Ынылчай и Терелчюн. Первый – старший.
И Джучи сказал громко, чтобы все слышали и знали, как он ценит в молодых – будущее, а в старых – прошлое:
– Для того, чтобы братья подучились править войском, я отдаю их тойону Боорчу – для ума. А потом они пройдут обучение в мэгэне тойона Аргаса – для доблести. Я сказал!
– Ты сказал, мы услышали! – ответили братья.
«Этот самого Чингисхана превзойдет!» – довольно думал тойон Боорчу, слыша распоряжения молодого Джучи и видя двух крепышей-ойуратов, которых ему предстоит наставлять на путь истинный. Он махнул им рукой и по-медвежьи косолапо направился к лошадям. Юноши молча пошли за ним.
Южные тьмы монгольских войск стояли перед громадой Великой китайской стены, восточные – на границе с владениями нучей, северные – выдвинулись за озеро Байхал.
Монголы прирастали землями и народами.
Несколько последующих ночей на Худухая-Бэки навалилась бессонница. Да и сам он не то чтобы постарел, но эту ярую до ломоты в висках и с чувством отставания мяса от полых костей бессонницу он уже не мог повалить на кошму вместе с женщиной, насытившись которой, западал в небытие. И то забытое счастье тоже можно было назвать бессонницей потому, что раньше Худухай-Бэки не помнил снов, а лишь иногда догадывался о них, как слепой догадывается о внешнем мире. Эта медведица все же не изломала его – он кормил ее плотью своих новых мыслей. Мысли он помнил, и они бурными ручейками сходились в одну спокойную, но еще неведомую реку, куда предстояло добровольно броситься вождю ойуратов, чтобы объединить малые лесные племена под крыло монголов. Только ему это было по силам. Только так можно обойти, обтечь резню, размахивание булатом и пиками, обагренными кровью людей. Он думал разослать по отдаленным родичам множество своих людей с щедрыми подарками, пусть невестки и зятья, сестры и братья, дочери и сыновья скачут по всем станам и кибиткам, проясняя цель Джучиева прихода в леса. И начать надо с кыргызов, способных выставить против монголов полный тумэн войска и погибнуть только потому, что кто-то вознамерился порушить их привычный, застоявшийся быт. Надо рассказывать им, что сила монголов – в их ясном законе обустройства жизни. А кыргызов не напрасно побаиваются все мелкие племена в пределах звучания их имени, которое произошло от слова «кырт» – истреблять, воевать, уничтожать. Если они взбунтуются, то десятки местных племен, тысячи людей прислонятся к ним, а что от них останется и что они будут отстаивать? Медленное угасание огня в крови… И хорошо, что он, Худухай-Бэки, каким-то озарением понял эту по сути своей простую истину: в большом лесу – больше корма, в большом озере – всякой рыбе вольно, у большого ила – большой путь, если в нем заведен один для всех порядок. И хорошо еще, что троих своих дочерей он выдал замуж за кыргызских свирепых тойонов. Есть надежда на благополучный исход переговоров с ними. Ведь известно, что кровная узда – самая крепкая.
Войска монголов и ойуратов начали готовиться к броску на запад.
Худухай-Бэки в который раз уже осознал, что все гладко в замыслах, а на деле – ухаб на ухабе. Ведь он может выглядеть предателем в глазах пограничных соседей, если его войско, как хорошо знающее местность, пошлют передовым. А какой же он предатель, когда хочет соседям добра и процветания? И когда мудрый и проницательный не по годам Джучи сказал ему, что пока нуждается только в проводниках и посредниках с его стороны, то ойуратского хана даже пот прошиб от горького напитка стыда, смешанного с гордостью: не зря он, Худухай-Бэки, уже разослал своих верных по самым затерянным в тайге племенам. Их языки должны были сеять добрые слухи о монголах, а в головах вождей – восходить надежды на мир и согласие. Поверят ли его людям? Но как бы то ни было, а в черепе каждого зародится мысль о том, что война с монголами хуже, чем мир.
И Худухай-Бэки посоветовал Джучи малыми силами, опережающими основное войско, двинуться к борохотам и бурятам, а потом уже к тюбэ и урсутам.
– Если привьются к тебе эти крепкие племена – за ними, как овцы, пойдут и бесчисленные малые… Хорошо, если бы так оно и стало! – сказал Худухай-Бэки, когда они с Джучи уже сидели на конях. – Однако я шибко стар, чтобы бестрепетно лить чужую кровь…
– Может быть, она и не такая уж чужая, – с пониманием ответил на это Джучи. – Никто не знает, с чьей кровью сольется кровь наших детей… И все же я не хочу, чтобы моя голова болела от подобных мыслей. Они не нужны воину… И ты до времени оставь их – не так уж ты и стар, хан.
От этих слов Худухай-Бэки почувствовал облегчение, словно перевалил тяжелую поклажу на покатые плечи этого монгольского юноши в сверкающих доспехах.
Худухай-Бэки взял в поход только трех знатных военачальников, десять мэгэнеев и одного тюсюмэла – сыновья ушли с людьми Аргаса. Ойуратский хан неустанно восхищался вслух боевой выучкой и порядком, властвовавшими в монгольском войске будто бы сами по себе, без расчета на охрипшие глотки старших. Достаточно было устного приказа командующего, чтобы через день в час выступления вся эта кишащая прорва суровых людей неуклонно, собранно и едино сжалась, как тело змеи, и по-змеиному же волнообразно, текуче двинулась в путь. С этого часа война считается начатой и законы мирного времени теряют силу, а все проступки становятся преступлениями и жестоко караются.
Он поглядывал на своих псов, стараясь понять: видят ли они то, что видит их хан, замечают ли, оценивают ли? Ведь у ойуратов считалось, что раз на войне бунтует кровь и кипит мозг в голове, то от нукера требуется лишь одно – быть беспощадным к противнику. Все же остальное – мелочи. Видят ли они, как стремительно течет монгольская лавина, не останавливаясь по двое суток и меняя лошадей на ходу? Замечают ли, как на места предполагаемых привалов заранее наряжаются люди и готовят горячую похлебку с мясом, а облавная охота – у них рядовое походное дело?
Когда они проходят пастбища, рассредоточившись на мелкие отряды, то в обозначенное место сбора прибывают с таинственной точностью одновременно и не трогают по пути ни единой головы из нагулявших жирок стад домашней живности. Они не считают их добычей воина. По следу же ойуратского войска и трава не растет. От него спасаются резвым безоглядным бегством, от него прячут скот, и глаза воинов наливаются кровью голодной слепой жестокости. Ну и дела!
Примечают ли его тойоны эту великую разницу?
Не потому ли она возникла, что война для монголов – долгий бег за черту небосвода, становой хребет их жизненного уклада, а для ойуратов всего лишь редкая и бесшабашная вылазка? Не потому ли, что ойураты выбирают для этих вылазок удобное время, а монголам все равно – зима в степи или лето?
В каждом арбане – нукер, в сюне – арбан, в мэгэне – сюн знают свое место.
Наблюдая за стройными рядами двигавшихся между бараньих отар монголов, Худухай-Бэки вспоминал слова Боорчу: «Неразумие людей таково, что они считают человека войны самым свободным, что войско грязью не забросаешь. Такие мысли – змеиный яд и колдовское обаяние: мы – люди порядка и цели…»
С одним привалом в два броска они прошли расстояние почти в двадцать кес – виданное ли дело! И вот прибились к подножию большой горы – владычице мест, где обитали буряты, тюбэ и хабханасы, с которыми Худухай-Бэки намеревался найти согласие. Еще по дороге он объяснил Джучи, что с этими людьми не надо хитрить и мудрить, но слова, обращенные к ним, должны быть простыми и прямыми, а найти простые и недвусмысленные слова о мире трудней, чем жахнуть из лука-ангыбала по бегущему оленю и попасть. А после совета уже на привале решили, что Худухай-Бэки не следует все же идти в чужой стан в одиночку, что с ним пойдет Боорчу-тойон.
По пути в стойбище правителя бурят их даже не остановили караульные, видимо, посчитав, что от двух всадников беды ждать негоже. Однако это неприятно задело Худухай-Бэки, что-то родственное стыду за порядки бурят шевельнулось в его сердце. Но как бы то ни было, а прискакали прямо в ставку, где, к их вящему удивлению, их спокойненько поджидал Олдой-Сегун, ушей которого не миновали слухи о вторжении монголов. Худухай-Бэки подумал даже, что это его гонцы делают дело. Олдой-Сегун заметно удивился только, что эти двое явились без свиты, хотя, похоже, ему это пришлось по душе, и он лишь из вежливости спросил:
– Почему же столь великий вождь бродит по свету подобно ребенку-сироте? И усох ты как-то… Словно бы тебя вдвое меньше стало! Прибаливаешь никак?
– Какое там! – отмахнулся ойурат. – Нам ли с тобой болеть, когда такие невесты этой весной народились!
– Да-а-а уж! – поощряюще сказал бурятский вождь и тоже отшутился: – Старый конь все тропки знает!
– А помельчал-то я в сравнении с большим тойоном Чингисхана Боорчу! Вот он, – показал Худухай-Бэки. – А прибыли мы к тебе с одним важным делом… Надо посоветоваться, что ты на это скажешь?
– Скажу, что заяц спрятался, а хвост торчит! – отвечал Олдой-Сегун. – Скажу, что кукушка кукует, а эхо толкует! А еще скажу, что лучше видеть кречета, чем его тень! Тебе понятно?
Худухай-Бэки приступил к главному. Он сказал:
– Убай[19], я знаю тебя с десятилетнего возраста и не помню, чтоб мы враждовали или не умели, или не захотели понять друг друга… Так?
– Говори, говори, – кивал Олдой-Сегун, печально и по-доброму глядя на товарища.
– Прибыл я к тебе от имени людей, к которым примкнул по своей воле и которые способны открыть перед нашими народами новые пути. Свежий ветерок дорог – целебней душной норы, а…
Олдой-Сегун проявил нетерпение и сказал:
– Ты сам вызвался влиться в новый ил вместе со своим народом или монголы пришли и позвали тебя?
– Велика мудрость твоя, убай! – потупился Худухай-Бэки вежливо. – Ты сразу постигаешь суть головоломки! Вот сидит тойон Боорчу, как сопящая гора, могущая извергать дым и пламя, пусть скажет он, а ты послушай!
– Пусть, – согласился Олдой-Сегун. – Но огня не надо – нынче лето.
– Ты очень умный старец, – сказал Боорчу, и он не лгал: быстрота ума и простое достоинство старого вождя были ему по душе. Он уже знал, что переговоры будут окончены согласием, однако мысль об этом как бы освободила его язык от табу и он заговорил, обнаруживая в себе способного ученика премудрого Сиги-Кутука: – И наверное, у тебя бывают бессонные ночи потому, что на твою грудь давит груз людских судеб, вверенных тебе небом… И у тебя, наверное, бывают смутные дни при ясном солнце потому, что твои глаза не могут указать людям путь к размножению и благополучию, а вечные распри, от которых не защищает даже кровное родство, подтачивают корни дерева, а семена уносит черный ветер в зловещие пустыни смерти… Еще недавно и мы, монголы, грызли собственную плоть во взаимных распрях, еще недавно мы не видели им предела, пока не пришел Чингисхан и не сказал нам, чтобы объединялись под одну его твердую руку… Каждый, кто примкнул к нам, принимает не одни только заботы, запреты и ограничения в своеволии, но и избавляется от безделья потому, что круглый год занят в походах! – Боорчу внезапно умолк и, словно встревоженный своим красноречием, искательно глянул на Олдоя-Сегуна, который всем своим видом выражал полное доверие и понимание сказанного. Тогда подхватил, как припев стремянной песни, и Худухай-Бэки:
– Что скажешь, убай?
– Времена меняются, – качнулся, словно в седле, Олдой-Сегун. – Все меняется, и мы не можем быть столь беззаботны, как прежде… Не придете вы – придут другие, чужие, дерзкие… Наш путь – с вами, ибо прочная власть – подарок господа Бога и дается она, как милость. Я сказал!
– О, убай! – воскликнул, вскакивая на ноги, Худухай-Бэки. – Я знал, что мудрость твоя безгранична, как небеса! И мы сейчас же поскачем к сыну Чингисхана – Джучи-хану, чтобы скорей доставить ему такую добрую весть: буряты с нами!
Глаза старого вождя раскрылись удивленно и брови над ними заходили, как крылья летящей птицы. Он хотел просить гостей остаться на той, но Боорчу упредил его:
– Прости нас, хан, за спешку и не сочти за непочтение, но мы в походе и удовольствия пока не про нас. Я думаю, ты поймешь, как понял все остальное, – и тоже встал.
Олдой-Сегун кивнул:
– Скачите! Пусть ваши кони, как летучие мыши, и ночью найдут путь!
…И сердца молодых сладко трепетали в предвкушении походов в дальние страны и в мыслях о богатых сокровищницах, о гибких девичьих станах и диковинном оружии, о боевых почестях и шрамах – никто не думал о смерти.
…И душа бывалых воинов наполнилась новым ароматом воздуха с горчинкой полевых костров и запахами свежей человеческой крови, смешанной с лошадиной, – никто не думал о жизни.
…И кто-то, довольный тем, что имеет, засуетился, пакуя свой скарб, и откочевал подальше под покровом темной ночи, а кто-то, одолеваемый гордыней, звал к сопротивлению и хорохорился – никто не думал о своей малости.
…Четыре тойона кыргызов – Едей, Ынал, Элджер и Елбек-Тыгын шептались сутки напролет: они не знали, поддержат ли их в случае сопротивления племена хэстин, сибир, байат, тухас, тюнгкэлик, телес, таас и баяга. Без поддержки этих племен их выступление против войск Чингисхана, усиленных ойуратами и бурятами, было обречено на бесславный исход. Монголы уже стояли на том берегу реки Ийэ-Сай, потому, когда прибыл сват всех четырех тойонов Худухай-Бэки, то тойоны уже готовы были принять законы Чингисхана, о которых были наслышаны от проезжих людей.
Так оно и случилось. Худухай-Бэки сосватал им сначала дочерей, а теперь и монголов. Всем хотелось, чтоб их сыновья сидели на высоких подстилках нового ила.
Глава восемнадцатая
Думы о грядущем
Если огнем и мечом не загонишь вместе, эти безмозглые не скоро поймут необходимость спасительного объединения.
И впредь, видать, будут властвовать на земле распри, разделение, вражда между ближними, зависть.
В пустыне встретятся две сироты, два отщепенца, но и там они начнут тяжбу, соперничество.
А в небесах мириады звезд уживаются мирно, каждый имеет свое место, определенное Богом, каждый имеет свой путь.
Легенды о древних правителях
Время от времени Ожулун словно бы окунали в ледяную воду и озноб пробирал ее до костей – она предчувствовала уже холод земного вечного покоя. Это потусторонние сквозняки касались ее существа своими невидимыми крыльями, и сушили кожу натруженных рук до пергаментного глянца, и осыпали кожу лица коричневыми метками близкой кончины. Когда-то давно мать говорила маленькой Ожулун, что родинки на человеческом теле – это отпечаток звездного неба, под которым зачат человек, и что у вечности нет повторений. А по старческим родинкам, говорила мать, мудрые звездочеты могут узнать день и час ухода человека с земли… Нынче старая Ожулун пыталась прочесть по своим рукам свои сроки, но не в силах была угадать это, лишь чувствовала: ее курган не за горами. И не грядущая неизвестность тревожила ее, а судьбы детей, которые еще не знали жизни без материнского догляда и еще мнили о себе как об имеющих начало, но не имеющих конца. Они еще глупы, как подросшие щенки, которые нет-нет да ткнутся в материнскую грудь на призрак млечного запаха, но они уже клыкасты и в пустячной ссоре способны порвать и окровенить шкуры своих же братьев.
Так было на днях, когда по заведенному Ожулун правилу к ней поодиночке приходили невестки для беседы и вразумлений. И едва она разговорилась с Усуйхан о сокровенном, как увидела, что в сурт скользнула со двора старая Хайахсын. Такое своеволие не дозволялось даже ей, и хотун-хан прервала беседу с молодухой, догадавшись, что произошло нечто, вынудившее ее наперсницу к подобной срочности.
– Говори! – повернулась она к Хайахсын.
– Моя хотун, только что из ставки прискакал Кучу: требует, чтоб я немедленно устроила ему встречу с тобой!
– Куда спешить такому юнцу? Уж не жениться ли собрался? – пыталась шутить Ожулун, но встревожилась, побледнела, едва не положила правую руку на левую половину груди, где билась о ребра усталая вечная птица: она знала, что младший из ее приемных сынов Кучу, спокойный и молчаливый, как полуденный камыш, не станет суетиться из-за малого. – Ну, зови, зови…
Усуйхан, сидевшая сложив ноги калачиком, вскочила и, сказав, что придет завтра, исчезла, умница, едва не столкнувшись у полога с Кучу, который диковато глянул ей вслед и жевал губами, хмурился под материнским взором до тех пор, пока та не спросила тихонько:
– Ну? Покажи-ка язык! Скажи: ма-ма…
– Мама…
– Ну?!
– Мама! Хасара это… Ну…
– Ну же!
– Говорят, его увели в ставку хана под охраной! Вот услышал и сразу кинулся на коня – к тебе, мама! От своего пастуха услышал, мама!
– Перестань мамкать и говори вразумительно: как это случилось? – Ожулун ухватила сына за отвороты кожаной безрукавки и легонько тряхнула. Он округлил глаза и сказал «ой, мама», но продолжил уже без запинки:
– Конюх-то мой и говорит, что утром его, сонного, поднял Хасар с двумя нукерами и спросил дорогу к озеру. Вроде скакали на охоту, и у Хасара был на перчатке сокол-сапсан. Ну, пастух дорогу им указал, и они удалились далеконько уже, а тут им наперерез десять конных! Окружили, заставили спешиться, сняли с Хасара шапку, пояс и увели с собой… Тогда конюх ко мне, а я – к тебе, мама… Так вот… – Кучу грустно выпучил глаза, а Ожулун нагнула его лоб к своему носу и понюхала в знак благодарности.
– Все, сынок. Больше никому ни слова. Даже камню на дороге. Понял? Дождемся сумерек – и в путь…
Скакали всю ночь, взмокли даже заводные кони, а новенькая арба скрипела всеми сочленениями так, будто ей не дали умереть и она страстно молит о смерти.
К рассвету миновали несколько внешних кругов караула. Турхаты скрестили пики перед Ожулун у самого входа в ханский сурт. Она, не замедляя шага, отвела их ладонями и ворвалась в сурт, оставив турхатов в растерянности и смущении: они узнали ее.
– Плохо дело с твоей разведкой! – заявила Ожулун Тэмучину прямо в его широко раскрытые от удивления зеленые глаза. – Плохи твои тойоны! – И тойоны попытались втянуть головы в плечи, спрятаться от гнева матери хана.
К ней кинулся Сиги-Кутук, обнял за исхудавшие плечи, шепча: «Мама, мама», но и сына Ожулун оттолкнула от себя. Она выхватила из-за голенища нож и, шагнув к связанному Хасару, перерезала бечеву на его руках. Все следили за ней в полном замешательстве, а она подливала чадящее масло в огонь и, оборотясь к Тэмучину, словно хлыстом обожгла его вопросом:
– Чем это вы тут занимаетесь, детки? – вопрос поверг великих воинов в панику. Вслед за Тэмучином, спеша обогнать один другого на выходе, кинулись они в степь, и копыта их лошадей выбивали пыль из травяного ковра, удаляясь все дальше и дальше от гнева матери. А Ожулун упала на кошму и завыла в голос – запас ее мужества иссяк. Хасар бормотал:
– Мама… Матушка… Успокойся… Ведь мы помирились уже…
Однако ноги его все еще были связаны. Мать подползла к нему и разрезала путы все тем же ножом, не переставая выть.
– Мама, не сердись… – говорил Хасар, становясь перед матерью на колено. – Мы с Тэмучином поняли, что нам нечего делить и ни к чему враждовать! Нас снова стравил шаман Хохочой, мама! И мы окоротим этого зверька! Слышишь?
Ожулун привстала, опершись на руку.
– Знаешь, почему он играет вашими головами, как бычьими пузырями? Потому что умен, а вы глупы и чванливы! Он играет на ваших слабостях, на вашем недоверии друг к другу, на зависти, которая вцепилась в ваши сердца, как клещ в горло глухаря! Ты видел, как глупая собака лает на колесо едущей арбы, так и вы лаете на колесо судьбы, в котором каждая спица на своем месте! На том, куда поставила ее судьба, – и не вам менять эти спицы местами: у вас один обод, один след, одна тяга влечет вас, неужели непонятно? А Хохочой… Он умен своей подлостью, ему не нужно, чтобы вы были в одной упряжке…
Хасар вдруг вскинулся, губы его затряслись и побелели:
– Я отрублю голову Хохочою и мозг его выброшу собакам!
Ожулун стукнула сухим кулачком по голове сына:
– Сперва очисти свои мозги! Свои! Свои глупые мозги! – и увидела, что голова Хасара припорошена сединой. Это поразило ее: – Сыночек! – заплакала она тихонько. – Бедненький мой! Какие же страсти тебя сжигают!..
– Виноват, мама… Прости…
– Оба! Оба виноваты!
– Оба, мама, оба… Как хорошо, что ты приехала! Как хорошо, что у нас есть ты!.. – шептал Хасар, а Ожулун вдруг захотелось, чтоб ее пожалели, как малую девчонку, поранившуюся невзначай. И Хасар уложил ее голову на свою грудь, гладил ее волосы, и целовал их, и нюхал.
– А если б меня, старухи, не стало? Вы б что, глотки друг другу перегрызли?
– Мама, не надо… Не говори так… Ты будешь всегда… А этот Хохочой – ну что с ним делать, а?
– Не будет Хохочоя – будет другой. Так будет до тех пор, пока вы с братом не поймете, что ваша сила – в братстве, что судьба у вас – одна, как и та кровь, которая течет в ваших жилах… Скоро меня не станет, сынок. Но если подопрут вас чьи-то козни, если вы снова схватитесь за оружие друг против друга, то вспомни слова праматери нашей Алан-Куо, сказанные ею пяти сыновьям, – слышишь? И своим детям завещай их!
– Ты сказала! Я услышал!..
Она гладила жесткими ладонями седеющую голову сына и сердце ее сжималось в тисках тревоги: «Выходит, все мое благоденствие, плоды всей моей жизни могут обернуться горечью в один миг и отравить остатки дней! Надолго ли замирились мои дети, способные схватить один другого за глотку по наущению шамана, сила внушения которого особенно сильна осенью и по весне. Сегодня они испугались меня, старухи, эти люди, пред именем которых приходят в трепет сильнейшие из земных владык – они так и остались детьми, что ли? Может быть, пока жива мать, им не суждено стать взрослыми, так не пора ли мне уйти? Но что же, что будет с ними, зависящими от козней сумасшедших? Значит, нужно принять жесткий, даже жестокий джасак… Такой, чтобы впредь никто из живущих не осмеливался замахиваться на престол великого хана ни словом, ни делом, ни лжепророчеством, ни лжепредвидением. Предвидят мудрецы, а не шаманы».
Путь, который она проскакала всего в одну ночь, в обратную сторону тянулся три полных дня с ночевками. Когда Ожулун добралась до своего белого войлока, то казалось, что жизнь в ней нужно вздувать, как угли в угасающем костре.
Первые двое суток лежала, слившись с войлочной кошмой побледневшим лицом, изнуренным телом, не желающим принимать пищи. Казалось, что и мысли кончились, и вместе со слабыми ударами сердца в голове толчками мерцало, как надежда на выздоровление: Хайахсын… Хайахсын… Хайахсын…
Подруга не смыкала глаз и не отходила от Ожулун. Она известила о том, что примчались Тэмучин с Хасаром, что ждут облегчения в болезни свекрови и невестки, что Хасар добыл молоденьких куропаток и уже варится похлебка из их мяса, которую всегда любила хотун-хан. Ожулун впервые за несколько дней почувствовала голод и выпила взвар из куропаточьих крылышек, сознавая, что жизнь в ней снова затлела. Надолго ли?
Как запах дыма, почти невидимый, но ощутимый, втянулся в сурт Хасар. Жалобно смотрел под ноги, боясь поднять взгляд на мать. «О, чистая ты душа! Другой бы, пользуясь заступничеством матери, пытался еще больше заручиться ее поддержкой перед братьями, а этот виноватится… Его же всего насквозь видно, как прибрежную воду в ясную погоду. Как злым людям не воспользоваться этим и не замутить воду? Может, он таков из-за плоского затылка, из-за того, что седеющие волосы на этом затылке чуть мягче, чем у других сыновей? Он и в горячности своей простодушен, все меряет на свой аршин. Все, как недоросль, хвастает силой и меткостью, все норовит установить одному ему ведомую справедливость и не может отличить науськивания и подстрекательства от товарищеских жалоб».
– Сколько тебе лет, а ведешь себя, как глупый тарбаган, – слабым голосом молвила мать. – Дать бы тебе по лбу как следует, да вот сил нет, все силы вам отдала…
– Я, мама, уж и ночами не сплю: думаю…
– До чего же додумался, сынок?
– Обещаю больше никогда не…
Ожулун знала, что пытается сказать Хасар, и повелительным жестом прервала его: зачем говорить матери то, что не утешит ее. Она сказала:
– Ты думай не обо мне, а о судьбе ила, Хасар… Что мама? Мама поймет, простит и самого негодного из своих детей… Если дети глупы, то мать виновата… Ты вот над чем задумайся: твой брат старше тебя всего лишь на один год, а ведь он несет на загорбке не вязанку дров и не тушу улученной козы, на его плечах бремя потяжелей нашего с тобой! Кто ж ему поможет – китайский император? Нет. Шайтан из глухомани лесной? Нет. Брат Хасар? Тоже нет! Это как же так получилось? Не хватит ли соперничать с ним и открывать уши чужим шепоткам? А ты задумался над тем, как жестоко расправятся со всем нашим родом, если мы ослабеем в распрях?
Голова сына клонилась, как под ударами, на которые нельзя ответить. Ожулун поняла: хватит, многословие – враг смысла. И закончила так:
– Вспомни, сынок, как я отправляла людей на далекий Север, в недосягаемые края, чтобы, пока вы воюете с найманами, обустроить тайные ставки. Такие, о которых не знает ни зверь, ни птица. Для чего? Чтобы уйти туда в случае поражения и не быть вырезанными под корень! Думать надо наперед, Хасар, – она погладила сына по голове, понюхала его лоб. – Иди и помни.
И если в сурт Хасар втянулся как струйка дыма, то высвободился оттуда как клуб горячего пара, – он кинулся к своему вороному и, обняв его, спрятал в гриву пылающее лицо. Ближние старались не глядеть на него, однако это у них плохо получалось, и Тэмучин подошел с нарочито грубоватым вопросом:
– Ну как, не притупился мамин язычок?..
– Да уж, – прятал лицо брат. – Похлеще твоей камчи.
– Ох-ох… – перевел дыхание Тэмучин. – Ну что ж. Напакостили, надо ответ держать. Так, брат?
– Да уж, – покачал головой Хасар. – Иди, получи свое.
И Тэмучин, сделав несколько легких шагов, поднял лицо к небу, словно прося у него защиты, откинул полог сурта и нырнул в отверстие, но споткнулся о кошму у входа и показал родичам пятки ичиг. Невестки едва сдерживались от смеха, но глядя на вовсю смеющегося Хасара, дали себе волю. Смех омыл их чистые лица, и, отсмеявшись, они глядели друг на друга с новой надеждой и доверием.
А Ожулун уже не имела сил на внушение для Тэмучина. Она слышала веселый смех за пологом сурта, видела покрытое потом стыда лицо сына и сказала ему:
– Посиди со мной, сынок мой любимый. Все будет хорошо.