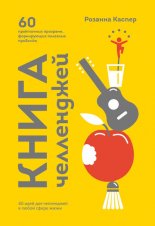По велению Чингисхана Лугинов Николай

Ребята, увидев, что бахсы отвлекся, уселись кучками, о чем-то тихо переговаривались.
Старик, увидев испуганное, горестное выражение лица порученца на пегом коне, еще до его слов догадался, что он привез из Верховного суда страшную весть. Сердце опять полоснула острая боль.
– Курбан… Мальчик… Мальчика моего бедного! Какого парня погубили изверги, звери, хищники… – прошептал одними губами старик и упал лицом на землю, только вздрагивала беззвучно его сгорбленная худая спина…
Глава двадцать восьмая
Хотун земли Сэргэнэ[42]
«Сам Чингис никогда не стремился к мировому господству. Его цель была совершенно очевидна и гораздо более узка. Он стремился к объединению под своей властью всех племен Великой Степи, дабы добиться мира, порядка и уверенности в завтрашнем дне. Все прочие его войны носили вынужденный характер. Другое дело, что политика объединения и, говоря современным языком, коллективной безопасности в Степи воспринималась его противниками как пролог к мировой экспансии, однако сказать, что такова была и внутренняя мотивация полководца, было бы, на наш взгляд, неправильно. Да и политика Чингис-хана в завоеванных странах мало напоминала тактику других завоевателей мира типа Наполеона или Гитлера. Сам Э.Хара-Даван приводит следующее высказывание Марко Поло: «Завоевывая какую-либо область, он не обижал население, не нарушал его прав собственности, а только сажал среди них нескольких своих людей, уходя с остальными на дальнейшие завоевания. И когда люди покоренной страны убеждались, что он надежно защищает их от всех соседей и что они не терпят никакого зла под его властью, а также когда они видели его благородство как государя, они тогда становились преданными ему телом и душой и из бывших врагов становились его преданными слугами». Все, что мы знаем фактически о монгольской политике в отношении других народов, подтверждает правоту наблюдения знаменитого путешественника. В самом деле, к 1227 г. Чингис разгромил только печенегов (канглы) в Средней Азии, тангутов и маньчжуров. Таким образом, при жизни Чингиса монголы воевали почти исключительно с такими же кочевниками или ближайшими евразийскими народами за гегемонию в Степи. Даже в позднейшее время во всем обширном монгольском улусе иль-ханы (т. е. ханы завоеванной страны) правили только в Персии. Все остальные страны считались не завоеванными, а присоединенными или союзными (такова была, например, Владимирская Русь)».
Лев Гумилев, Вячеслав Ермолаев. О книге доктора Эренжена Хара-Давана «Чингис-хан как полководец и его наследие»
Весть о смерти султана Мухаммета, нашедшего приют после того, как сбежал от монголов, на диком, незаселенном острове посреди Абескуна[43], куда не просто было добраться, привезли уйгурские купцы, снаряженные хотун Алтынай. Огромное войско Джалал-ад-дина, севшего на его место, было разгромлено окончательно, зажатое у излучины реки Синг. Молодой султан бился так упорно и ожесточенно, что в конце остался совсем один, и на глазах у монголов вместе с конем бросился с высокого крутого берега в бурное течение реки, с большим трудом переплыл на другой берег и скрылся из глаз.
В начале года Хой[44] прибыл с берегов далекого Восточного Байкала знаменитый буддийский монах Чанг-Чун, приняв приглашение хана. Уже обуреваемый новыми заботами о восстановлении разрушенной войной жизни, хан встречался со старым бахсы всего более десяти раз, и то больше ночами, поговорил от души. Хан пригласил почтенного старца ехать назад вместе, но Чанг-Чун заторопился, вернулся по тому же южному пути, по которому приехал сюда.
– Нам с тобой еще выпадет вместе ехать, – сказал он не совсем понятно по своей привычке обо всем говорить полузагадками, окольными путями.
Странный старец. Каждое его слово всегда имеет несколько значений, скрытый смысл, и их можно толковать совершенно по-разному.
Хан тогда принял его слова напрямик, обрадовался про себя, подумав, что тот выразил надежду «встретиться еще».
К началу большой жары с сыновьями собрались в степи Барыкан и провели лето вместе. Осенью, не спеша, перекочевали на восток. Передвигались спокойно, останавливаясь на самых лучших местностях, задерживаясь на особо понравившихся землях надолго, добрались до Кара-Корума к весне Года Утки (1225 г.).
Усталость теперь уже не проходила так быстро, как раньше, силы не восстанавливались полностью, все это заставляло задуматься, наводило на печальные мысли.
Порой без видимой причины такое раздражение накапливалось, будто гнев разрастался изнутри… В такие моменты даже мелочи, на которые раньше даже внимания не обратил бы, превращались в преграду, которую невозможно обойти, простое усложнялось, а ровное обрастало крючками. Но стоило пройти моменту, опять все становилось на свои места.
Хан сегодня проснулся в дурном настроении, все ему мешало: и свист осеннего ветра снаружи, и дождевые капли, стучащие по стене сурта. Понятно, что смена настроения, раздражительность, дурные мысли всегда связаны с переменой погоды. В такое время у всех пожилых людей воспаляются застарелые раны, обостряются болезни. И мысли принимают такое же болезненное направление.
Вчера своим указом он присвоил двум молодым сюняям чины тойонов-мэгэнэев. Один из них оказался поздним ребенком того самого старика Аргаса. Лично исполнив обряд присвоения чинов, хан своими руками надел ему на голову новую шапку с золотым ярлыком, подпоясал поясом с полным набором. После этого старик попросил о встрече, и хан не смог отказать, сказал, чтобы пришел завтра. Хан в последнее время, как мог, избегал встреч с ним. Понятно, что совсем обойтись без человека, в руках которого вся молодежь, невозможно. Поэтому хан, чтобы не встречаться со стариком, поручал это Джэлмэ или кому-нибудь другому.
А как он сейчас объяснит старому бахсы казнь Курбана, которого четыре года назад обещал обязательно спасти? Тогда после встречи с Аргасом он сразу же вызвал Сиги-Кутука и Чагатая, и, как ему показалось, достаточно ясно объяснил, что Курбан не виноват, что попал под подозрение по недоразумению, что его оклеветали. О том, что эти люди превратно истолковали его слова, вместо того, чтобы принять меры для освобождения парня, поспешили сделать обратное, узнал, услышал слишком поздно, когда Курбана уже казнили. Получилось почему-то точно так, как когда-то с Джамухой, которого тоже поспешили осудить и казнить в его отсутствие, против его воли. Но этих двоих никак нельзя ставить рядом, слишком уж они разные. Один поживший человек в возрасте, а второй – мальчишка, только поднимающийся на ноги. Если устранение Джамухи можно объяснить сведением счетов, местью, то кому помешал Курбан? В этом много непонятного.
Ясно только одно… Такие великие вещи, как Ил, Война, Джасак, хоть и придумал их ты собственными мозгами, организовал, создал из ничего, но, встав на ноги, возмужав, начинают жить собственной, независимой жизнью, как дети, выросшие и прочно ставшие на ноги. Обретают свою душу, другое дыхание…
Или для того, чтобы Джасак стал Джасаком, потребовалась жертва, такая, чтобы внесла смятение в души людей, неожиданная для них?.. Хан вздохнул… «На самом деле это не очень приглядное предположение правдиво… Я прекрасно это знаю, понимаю. Сперва я привлек к себе выдающихся, талантливых, исключительных людей, организовал лучшее на земле войско, затем покорил все соседние великие Илы, издревле грозившие нам, а нынче соперничающие. Основал свой великий Ил. И этот Ил бьет копытом, как необъезженный конь, хочет вырвать из рук поводья… Что мне с этим делать? Как будто хочет обрести собственное дыхание, пойти своим путем, будто имеет душу, мыслит по-своему… Что это значит?
А война… Война тоже в итоге начинает предъявлять какие-то особые требования, свои задачи, которые необходимо выполнять. И словно все это исходит из внутреннего состояния, из системы самой войны. Многое из этого понятно, хоть и кажется неприемлемым. Некоторые моменты не только не совпадают с темпом сегодняшней жизни, а будто толкают тебя совершенно в другую сторону, заставляют совершать неожиданные действия.
Большая организация, конечно же, имеет и многие издержки. Не просто так начинается большая, многолетняя война, имеющая несколько этапов, несколько направлений, и не может остановиться сама по себе, оказывается. Вот ты победил, разбил всех врагов, а куда должна уйти война? Куда она денет накопленную за все это время страшную энергию, стремление? Вот в чем, оказывается, сложность… Оказывается, войну невозможно остановить даже после того, как она выполнит свою основную задачу. Она требует все новых и новых свершений, ставит новые и новые задачи, стремится все дальше вперед. Если не будут продолжаться сражения за сражением, то могут забурлить ее внутренние противоречия, которые она все эти годы подавляла в себе: зависть, жадность, стычки опять могут всплыть, закипеть. А это очень опасно. И для них самих, и для окружающего мира…
Так что, оказывается, война должна куда-то двигаться, стремиться вперед, как течение великой реки, не останавливаясь. Можно это прекратить своей волей, распустить войска, людей отпустить к семьям… Но не знаешь, чем это потом обернется… Тревожно, опасно…
Объединил многие могучие Илы в один великий Ил, взвалил на свои плечи все многосторонние заботы о нем… А теперь новый Ил подгоняет тебя самого, давит на тебя, торопит. Днем и ночью требует неусыпного внимания».
Снаружи вдруг одновременно сердито залаяли собаки. Значит, пришел человек чужой для них, не часто бывающий здесь.
Хан поразился про себя, как за последние годы резко постарел, сдал старик Аргас и, по своему обыкновению, почувствовал себя виноватым за это.
– Понимаю, что у тебя много забот… Потому сразу говорю про свое дело, – начал Аргас, словно торопясь, что его прервут.
– Ну?
– В последнее время развелось много тойонов надо мной. В результате слишком много стало всяких нелепых указаний сверху, противоречивых решений. Это, во-первых. А во-вторых, вы слишком увлеклись отбором в отдельные группы детей, сверкнувших на короткое время, определяя этим их способности и таланты. На самом же деле определение способностей ребенка – труд многолетний и сложный, требующий пристального наблюдения за его характером, поведением. И можно повредить ему, выдергивая его из привычной среды только потому, что он один раз кому-то показался талантливым. Ведь немало же случаев, что эти самые отборные дети огорчают, вырастая совершенно обыкновенными, недалекими людьми. Сами же вмешиваются, запутывают детей, потом обвиняют меня: «Старик постарел, сдал». Обидно, тяжело мне это слушать. Конечно, я старею, вряд ли дальше смогу развиваться, но не согласен с тем, что пытаются свалить на меня результат их вмешательства и принятых напрямую решений…
Аргас, выговорив все, о чем заранее намеревался сказать, замолчал. Хан молча выслушал все, помолчал, опустив глаза, потом спросил:
– Здесь мы одни. Так что ты без опаски скажи прямо, чье вмешательство особенно тебе не нравится?
– Ох… Не было еще в моей долгой жизни такого, чтоб я на кого-то пожаловался, кого-то наказали по моей жалобе… – Аргас, услышав неожиданное, почесал затылок.
– А Джэлмэ? Ведь именно он занимается вами непосредственно.
– Э, нет. Джэлмэ, наоборот, помогает решать все мои трудные задачи, человек он прекрасный, спасибо ему.
– Тогда кто?
– Ну, эти… Слишком много руководителей развелось в последнее время, – старик вытирал со лба пот. – Все сотни высокопоставленных тюсюмэлов, сурджутов как будто имеют ко мне отношение.
– Хорошо. В таком случае мы создадим новое особое руководство, которое будет заниматься только вопросами воспитания молодежи, передвижением их с должности на должность. Как это, по-твоему?
– Так ведь я об этом и пришел просить! – старик обрадовался, что хан точно понял то, что сам он не сумел объяснить. – Когда таким тонким, сложным делом, как воспитание молодежи, занимается одновременно слишком много людей, это не только бесполезно, но и вредно.
– Воспитание, отбор тойонов – высокая ответственность… – Хан зашагал по сурту. – Ты кого хотел бы видеть на этой высокой должности?
– Не знаю даже. Слишком неожиданно… Если б нашелся человек, имеющий к этому склонность и талант.
– Мы посоветуемся с Джэлмэ, – сказал хан и подумал: «Значит, у него нет своего человека, чьего назначения он бы добивался, пришел просто жаловаться на чрезмерное, порой невежественное вмешательство людей, считающих себя знатоками. Значит, действительно, достали. Не надеясь на то, что при личной встрече сумеет меня убедить… Почему? Видимо, он понял, что я избегаю встреч с ним, чувствую себя виноватым».
– Какие у тебя еще трудности, просьбы?
– Нет, какие у меня, старого, могут быть просьбы. По мелочам я не стал бы тебя беспокоить, – у Аргаса от радости будто посветлело лицо.
– А я ведь хотел спросить у тебя об одном… Про твоего Курбана я потом слышал много хорошего, все хвалят, говорят, был особым, ярким молодым человеком, выдающимся…
– А… Курбан… Такие, как Курбан, родятся очень редко, такого парня не смогли уберечь… – улыбка мгновенно слетела с лица старика, он погрустнел.
– А, может, сейчас есть такой же мальчик?
– Откуда? За всю свою жизнь я подобных видел единицы. Таких теперь нет.
– Как обидно! Какую беду эти тупые невежды, Чагатай с Сиги-Кутуком, сотворили, оставшись единовластными вершителями! – Хан сделал резкое движение сжатым кулаком в ярости.
– Даже предположить трудно последствия этого! Скольких жизней простых нукеров стоила смерть одного выдающегося военачальника? Хотя бы ради одного этого Курбана нужно было обязательно спасти, если б даже он на самом деле был виноват… А с умыслом приносить безвинного в жертву ради устрашения других – это вопиющая глупость.
У старика от обиды задрожал голос, казалось, он вот-вот заплачет. Он с трудом сдержался, несколько раз глубоко вздохнул, вытащил из кармана тряпочку, начал вытирать лицо и тут заметил, что хан опять отвернулся. И теплая волна благодарности заполнила грудь, будто вытолкнула, наконец, чувство обиды, свившее себе там гнездо на долгие годы…
– Бедный мой мальчик, даже внешне был таким красивым, стройным, каких мало… Уж слишком безупречно был сложен, – Аргас опять несколько раз глубоко вздохнул. – И теперь он каждый раз приходит ко мне во сне перед каким-нибудь несчастьем или бедой…
– Из какого рода был Курбан?
– Из Барыласов.
– Барылас? – Хан оживился. – Вот почему он был такой! Из такого доброго рода… Значит, у них с тойоном Хубулаем одни корни. Барыласы издревле славятся своей решительностью, легкостью на подъем. Это особенно ярко проявляется в дни опасности и нужды. На этот род всегда можно опереться в трудные времена, быть уверенными в них. А какая у них сейчас молодежь?
– Кто знает… Сложно сказать точно. Чтоб определить способности ребенка, нужно немало повозиться. Иногда сверкнет кто, выделится, но потом сливается с общей массой, гаснет, а медлительный, слабый ребенок, казавшийся таким тугодумом, вдруг раскрывается, непредсказуемо меняется.
– А Курбан каким был?
– Курбан… С малых лет сразу бросался в глаза, как драгоценный камень… Что теперь будет с Барыласами?
– Что ты имеешь в виду?
– Предки еще говорили, что плохой жребий ждет тот род, который не сумеет сберечь, сохранить такую великую личность, дарованную им небесами, судьба переворачивается, счастье отворачивается от него и род приходит в упадок…
– Неужели?! Я ведь запомнил, что точно так же говорили старики, когда умер мой отец.
– Что делать? Огромной может быть расплата… Но, может, обойдется благополучно. Если б прожить еще несколько лет, увидел бы, но таким, как я, пора уже и собираться…
– Погоди… А Курбан не успел жениться?
– К счастью, бог милостив, перед самой бедой успел он жениться, оставил после себя дочь. Сейчас ей четыре года…
– Да, это действительно великое счастье! – воскликнул хан, несказанно обрадовавшись. – В таком случае я назначаю эту девочку Хотун одной из самых лучших улусов сих земель – долины Фергана! Я сказал! Вы услышали!
– Ты сказал! Я услышал! – Воскликнул Аргас весь в слезах от радости, он не помнил даже, как оказался на коленях перед ханом, видимо, сработала многолетняя привычка.
Тут же в сурт пригласили чербия с синим дэптэром под мышкой, чтобы записал указ хана.
Хан в последнее время опять часто стал раздражаться по всяким пустякам, впадать в мрачное настроение. О чем бы ни распорядился, что бы ни поручил сделать, ничего никто не может выполнить так, чтобы он остался полностью доволен. Обязательно нужно несколько раз объяснять, добиваться, чтоб сделали до конца или же стоять и наблюдать, чтоб исправили допущенные ошибки. Как это мучительно! Если они не способны осуществить то, что уже придумано другим, обсказано, готово уже почти, как они смогут распоряжаться собой и другими, когда останутся одни? Как?!
Мелкие люди… Тревожит, что становится все больше людей, не способных думать широко, с узкими мыслями, короткими думами… Куда ни повернись – всюду они… Или так кажется с досады и злости? Просто невозможно становится… Более того, отсутствует признание ограниченности собственных возможностей. На соперничество, интриги, стычки у них и силы находятся, и находчивость. Больше всего преследуют тех, кто лучше, умнее, талантливее, у кого больше возможностей. Почему же так? Неужели, как говорил когда-то старик Аргас, такова уж подлая человеческая сущность? Больно видеть, что даже очевидно добрые деяния начинают ценить и понимать только когда прольются кровь и слезы, только тогда начинают их заново осмысливать.
Видимо, и добро, и зло имеют свои невидимые границы, которые кто-то когда-то начертил. И добро, совершенное тобой без учета этого, оборачивается бедой в сотни раз несоизмеримых размеров. Внемлешь мольбам жителей осажденной крепости, пойдешь им навстречу, окажешь милость – обязательно потом получишь мятеж, восстание, итогом которых станет в десятки раз больше смертей, чем было спасено… Вот поэтому, видимо, ты должен руководствоваться не своей волей, не своим умом и разумением, а той самой невидимой чертой человеческой натуры. А это грустно… В таком случае приходится уделять больше внимания лишь самым низменным, гнусным сторонам человеческой природы. Потому что в конечном итоге получается, именно это определяет характер событий и обстановки.
Хан помотал головой, словно стараясь отогнать дурные мысли. В такие моменты все вокруг кажется таким отвратным. Это, конечно, тоже перебор. Во всем нужно держаться золотой середины. А вот определение этой самой середины – тоже другая тема. Без сомнений ничего никогда не бывает. Обязательно нужно все взвесить, измерить, и только потом раздавать указания. Без этого сразу же начнешь совершать ошибки, громоздить одну ошибку на другую.
Зазвенел звоночек, извещая, что к задней стене сурта кто-то подошел.
– Ну? Слушаю.
– Боорчу пришел.
– Боорчу?! – Хан вздрогнул от неожиданности.
Это тот самый парень, который родился, когда его старший брат Боорчу ушел с Тэмучином искать угнанных грабителями лошадей. Чтобы запутать злых духов, ему дали имя старшего брата, в то время неожиданно пропавшего в степи. Это он пришел. Когда более десяти лет назад Боорчу погиб в Китае, хан велел назначить этого парня сурджутом, и сейчас он занимается разной мелкой организаторской работой.
По внешности, по стати своей настолько похож на своего брата, что каждый бы вздрогнул, увидев его, но от ума и таланта старшего этому несчастному ничего не досталось. Как говорится, что он, что дерево. Спрашивать у него что-то без толку. Может лишь пересказать то, что видел воочию, но чтобы как-то осмыслить создавшуюся обстановку, предположить, что за этим может стоять, бесполезно! О, каким человеком по сравнению с ним был старший Боорчу! Скажешь ему что-то – он тут же тебе выдаст пять возможных ответов. Умный человек всегда постарается сперва собрать воедино, обдумать все увиденное, разобраться в нем, найти причины и корни…
С тех пор, как внезапно погиб Боорчу, словно отвалилась какая-то часть его самого. Горше всего, пока жив человек, никогда не можешь понять, насколько он необходим, только потеряв, начинаешь тосковать. И каждый раз так… Но уж слишком выдающимся был Боорчу человеком. Кто сравнится с ним? Даже пытаться сравнивать не стоит. Если мерить по Боорчу, то, несомненно, все люди покажутся дураками. Кто может сравниться с Хубулаем, Джэлмэ, Сюбетеем и Джэбэ, которые сегодня находятся рядом с ним? Тоже нет. Так что требуется особое отношение к выдающимся людям, нужно их выделять, держать особняком. Потому что рядом с ними простые люди начинают чувствовать себя ущербными, подавленными. Из-за этого, сами того не сознавая, начинают их тихо ненавидеть. Несчастный Курбан, видимо, стал жертвой такой же ненависти… Трудно даже предположить, сколько у них было подобных потерь.
Хан поднялся, заложил руки за спину, зашагал взад-вперед. Потом лег, подложив руки под затылок, молча смотрел на плывущие мимо облака в отверстие для выхода дыма. И вдруг, вздрогнув, рывком сел на постели… Он вздремнул немного или это было наяву? Показалось, будто сверху на него пристально смотрел голубыми глазами седовласый старец с светозарным лицом.
Если начать считать все заслуги старика Аргаса перед Илом за всю его жизнь, то нужно признать, что в основном он воспитал целую плеяду тойонов средней руки, хотя и с крепкой выучкой. Оказывается, как ни старайся, сколько ни ищи, невозможно ни воспитать, ни найти выдающихся людей больше того, сколько дано.
Видимо, сколько должно родиться таких людей решает один Бог. Наверное, Господь Бог лично творит их, возлагает на них великие задачи, наделяет соответствующими их предназначению внешностью, статью и судьбой…
Хан в такие моменты всегда вспоминает буддийского учителя Чанг-Чуна. Что же он говорил про это? Как много, оказывается, он не успел спросить у мудреца! За такое короткое время невозможно охватить все хитросплетения жизни. И только поражаешься, когда со временем раскрывается истинный смысл высказываний великого старца, в основном казавшихся не имеющими отношения ни к чему конкретно, совершенно непонятными. Оказывается, он нарочно закутывал свои ветвистые мысли, прятал, путал следы, чтобы сами дошли до сути потом, если сумеют. Это первое.
А во-вторых, удивительно и то, как одно простое высказывание может раскрыть тайну нескольких сложных понятий. Сперва пропускаешь мимо, не поняв ничего из этих полунамеков, каких-то странных словосочетаний, но потом вдруг постигаешь их простой, но очень глубокий смысл.
Четыре года назад Чанг-Чуну, кажется, исполнилось 72 года. Говорят, в молодости он был человеком выше среднего роста, кряжистым, полноватым. Но за последние десять лет высох, сгорбился, стал совсем маленьким. Кто может сопротивляться тяжкому дыханию дум? Говорят же, что нет ничего более изнурительного, чем думы, переживания. А ведь Чанг-Чун – и есть тот самый единственный великий человек, пропустивший через свой ум, свое сердце весь сгусток сомнений, переживаний, горестей всего рода человеческого. Какому простому человеку под силу это? Могучий водопад мыслей вряд ли выдержит и камень.
– Слышал, многие правители, властелины мира, в том числе даже китайские цари, пытались завести с тобой знакомство, хотели встретиться, но ты отказывался… И кланяюсь до земли, преисполненный благодарности за то, что принял именно мое приглашение, я же особо и не надеялся, что решишься отправиться в столь далекое путешествие, – сказал хан при первой встрече.
– Что ты, что ты, как бы ни была велика твоя благодарность, не надо кланяться мне, поклонись высокому Богу своему. Я-то что? Всего лишь старый мешок, наполненный разными болезнями, грехами и дурными мыслями… Прожил свою жизнь вольно, как горное животное, с единственной лишь целью восстановить прерванные, утраченные связи между Высокими Божествами и родом человеческим, соединить эти разорванные нити.
– Но твое славное имя гремит на многие и многие страны. Твои слова объясняют сомнения и мучительные раздумья множества людей.
– Не знаю… – с лица Чанг-Чуна слетела постоянная мягкая улыбка, оно стало суровым; он посмотрел ему прямо в глаза. – Знаю, как часто заблуждаются несчастные люди. Но сомневаюсь, что даже услышав, они верно истолкуют мои слова. В основном человек из множества ветвей дерева мысли выбирает только ту ветвь, которая ему ближе, нужнее, выгоднее и легче для воплощения в жизнь именно сейчас, а это – не всегда правильный путь.
– Но почему нет одного-единственного верного решения для неясного, запутанного случая? Почему мысли у человека имеют столько направлений и ответвлений?
– А ты посмотри вокруг, разве видишь что-нибудь без ответвлений, без дополнительных русел или без тайных уголков? Посмотри на горные ущелья, на русла рек и речек, на ветви деревьев. Все вроде бы похоже, но все неповторимо, особенно. Точно так же и мысли человеческие каждый раз оказываются похожими на творения природы, – Чанг-Чун испытующе посмотрел на хана узкими прищуренными глазами.
– Каждый старается все упростить, выпрямить. В этом лежит корень многих наших ошибок. Но самое досадное – каждый раз повторяешь эту ошибку, хотя прекрасно о ней знаешь.
– Да разве только это? В человеческой природе намного преобладает влечение к греховной стороне жизни, – Чанг-Чун сморщил тонкие губы в гримасе усмешки. – Зато Святые Деяния совершаются лишь силой воли, принуждением мысли.
– Но почему?
– Значит, Создатель нас такими придумал…
– Я об этом догадываюсь, но не могу понять, зачем? Поражает неспособность человека обдумывать увиденное глазами и делать выводы. Удивительно, вот поговоришь с каждым по отдельности, вроде все понимают совершенно правильно все, но стоит собраться вместе множеству людей, так сразу же они превращаются в стадо, не способное внимать разумным речам, понимать их.
Чанг-Чун опять усмехнулся и молча посмотрел на хана. Без всяких сомнений, он точно знал ответ, прекрасно понимал, но почему-то не захотел сказать об этом. Почему? Что он может скрывать? Со дня смерти матери хан еще не встречал человека, явно превосходящего его самого по всем данным, видящего насквозь все его ошибки и промахи и сразу же указывающего на них. Перед этим сморщенным, сгорбленным и худющим стариком хан почувствовал себя прежним лопоухим маленьким мальчиком. Обширные знания, умение понимать сложные вещи – великая сила…
– Есть такое понятие, как уровень, – тихим, без нажима, голосом продолжал не спеша говорить Чанг-Чун. – Есть уровень моря, озер и уровень горной вершины… Горное животное, напившись из озера, взбегает по склону до самой вершины… Оттуда видны далекие горизонты, но он не меняется от того, что забрался на вершину.
Хан пытался понять, что имеет в виду старик, но не смог в тот момент. Какой уровень? О каком уровне он говорит? Обычно он себя уподобляет горному животному.
– Многое не открыто… – вдруг сказал старик и замолчал, словно высказал все, что должен был сказать.
Что не открыто? Все какими-то намеками, загадками, половинчато…
– Добро и зло… Святое деяние и Грех. Но сложно разобрать, что есть грех, а что святое. Оба понятия переплетены, словно две нити тонкой витой волосяной веревки из светлых и темных конских волос. Потому и сомневаешься на каждом шагу, все приходит к тебе с мучениями, сомнениями. Только тот выбирает правильный путь, кто много раздумывает.
– Но это так трудно, так изнурительно…
– Выбирать всегда сложно. Потому что многое не открыто.
– В жизни много непонятного. Сколько бы не силился, осмысливая, обдумывая, невозможно достичь конца, истинного начала.
– Это бесполезно… – сказал вдруг Чанг-Чун и опять посмотрел на хана испытующим и пристальным взглядом. – Невозможно постичь Божий промысел, понять это и даже предположить, из каких соображений и с какой целью он создал этот мир, солнце и луну, животных всяких и род человеческий? Только ему одному это ведомо. Сколько ни изучай – многое нам не открывается, видимо, и не будет открыто. Так что нам не дано понять и постичь многое.
– Но как же… Значит, сколько бы человечество не накапливало знаний, опыта, оно не сможет развиваться… Неужели мы так и будем кружить, как заблудившиеся дети?
За эти прошедшие четыре года Чанг-Чун стал для него словно второй половиной. Стоит в чем-то засомневаться, сразу вспоминает почтенного старца, пытается разгадать тайну загадочных слов. В самые решающие моменты во сне разговаривает с ним, совсем как наяву. Но сон, который он видел несколько дней назад, поселил в душе смятение.
Ему кажется, будто его будит Мухулай:
– Тэмучин, вставай, приехал сам Чанг-Чун. Нельзя заставлять так долго ждать почтенного старца.
– Но как же так?! Как старик успел обернуться за столь короткое время, ведь места-то не ближние?! – сев рывком на постели, спрашивает хан.
– Нужда заставила, вот и пришел, – откуда-то из темноты раздается звонкий голос Чанг-Чуна. – Ну, давай, собирайся. Нам с тобой велели вместе отправляться, спутники мы с тобой…
– О, это хорошо! – Хан отвечает без всяких раздумий, словно ему заранее известен предстоящий путь. – А когда отправляемся?
– Завтра…
Странный сон… Чанг-Чун тот старец, что просто так во сне являться не будет. О многом говорит и то, что в качестве тэнгсика с ним прибыл Мухулай, умерший в прошлом году. Только одно может быть толкование у этого сна: «Велели вместе отправляться…», «завтра»… Значит, на следующий год? Получается, так. Значит, так было предназначено Господом Богом еще до его появления в этом мире в облике человеческом. Только несчастный человек проживает свою жизнь в мучительных сомнениях, не зная, не умея угадать, какая же ему уготована судьба, в чем истинное его предназначение. Многое для него не открыто. Только может догадываться, предполагать, толковать о невидимом с помощью вот таких снов…. Иногда верно, но в основном – все мимо…
Что делать… Завтра – значит, завтра.
Мысли о завтрашнем его последнем путешествии, о предстоящем прощании со средним миром приходят к нему обязательно с мыслями о будущем Ила. Поразительно, но мысли о женах, детях, внуках стоят где-то чуть поодаль. Но это и правильно. Ведь их судьбы напрямую зависят от судьбы Ила. Чем дольше они сумеют сохранить целостность и благополучие своего Ила, тем надежнее и крепче будет основа жизни каждого из них. А многосторонние, часто меняющиеся жизненные вопросы Ила требуют своевременного понимания и решения.
Смогут ли понять это те, в чьих руках окажутся бразды правления Илом? Этого просто не может быть, чтобы они не поняли, что судьба каждого из них зависит от состояния их Ила…
На самом деле, после меня должен был получить в свои руки Ил Джучи. По своему уму, всесторонней подготовленности истинный правитель – он. Но его надменность, излишняя прямолинейность, а иногда и непримиримость перечеркивают все достоинства. Про Чагатая и говорить не приходится. Правитель должен быть гибким, неоднозначным. А этот – во всех отношениях ограниченный, наипосредственный середняк. В гневе он готов пойти на что угодно. Нет никакой такой черты, чем бы он превосходил других, разве только не будет ему равных в неумении думать о последствиях. Для него все или черное, или белое. Нет никаких полутонов. Невозможно ничего ему поручать. Куда бы ни приехал, обязательно получается скандал или бунт. Но сам никак не хочет в этом признаваться. Попытаешься поговорить, так получается, что все плохи, кроме него.
Хан не может сказать, что полностью уверен в Угэдэе, которого прочит после себя ханом, но ничего поделать не может. Младший сын еще слишком молод и уж больно к военному делу привержен. Каким бы важным не было значение войны, его доля в жизни Ила мала…. Про Угэдэя не скажешь, что в чем-то он исключительно ярок, зато развит разносторонне, ко всему имеет способности. Очень нравится людям его приветливый, добрый нрав. К тому же умеет любого смутьяна уговорить, найти с ним общий язык.
Ох… Как они будут распоряжаться в будущем? А вдруг они рассорятся все, от них и такого можно ждать. И ведь не сможешь вскочить, чтобы вмешаться.
Глава двадцать девятая
Год Льва
«Жрец храма богини Теояоминки приходил в дом умершего и обращался к нему с такими словами: «О брат мой, ты пришел туда, где тебе грозит огромная опасность, предстоят великие труды и ужасы… Ты пришел туда, где сгрудились и сплелись силки и сети, так что никто не может пройти, не запутавшись в них… Это твои грехи, которые являются не только силками, сетями и ямами, в которые ты уловлен, но и дикими зверями, которые убивают и терзают тело и душу…».
Жрец вспоминает момент рождения покойного, то, как он пришел в этот мир: «Когда ты, брат мой, был создан и послан сюда, твой отец и мать, Кетцалькоатль, сотворил тебя подобным драгоценному камню… Но твои собственные воля и выбор запачкали тебя… а теперь ты признался, ты раскрыл и явил все свои грехи нашему Господу, который оберегает и очищает всех грешников; и не считай это за насмешку, ибо поистине ты вступил в источник прощения, подобный чистейшей воде, которой наш Господь и Бог, оберегающий и хранящий нас всех, смывает грязь с души… теперь ты родился заново, теперь ты начинаешь жить; и даже теперь наш Господин и Бог дает тебе свет и новое Солнце. Теперь ты тоже начинаешь цвести и пускать побеги, словно драгоценный камень чистой воды, происходящий из чрева твоей матери, где ты сотворен…».
Е.Данилова, «Тайны жизни после смерти»
Долго не мог выпасть снег к концу года Рыжей Собаки[45], и земля замерзла голой, неприглядной. Степняки не любят такие зимы, называя их «черными хапсыырами», когда больше обыкновенного мерзнут и скот, и люди, и сама беззащитная земля.
Но пришел конец и «черным морозам». К встрече года Льва, приснопамятного тысяча двести двадцать седьмого, повалил долгожданный и густой снег. Прерываясь ненадолго иногда, он шел почти целый месяц, и толщина его на равнине стала уже взрослому человеку едва ль не по пояс. И теперь пришла другая беда: перекрылись им все пути-дороги, прекратились всякие сообщения, а для людей и скота настала невиданно тяжелая зимовка, бескормица. И видней, чем когда-либо, стала уязвимость Ила со столь обширными, разбросанными на сотни кес землями, и сразу выявились все недостатки сети ямов, которая должна была поддерживать связь со всеми его уголками и окраинами.
Все четверо cыновей разъехались в разные стороны Ила, чтобы не упустить управления, обеспечить исполнение самых необходимых и срочных дел, наладить прерванные сообщения.
Угэдэй отправился в Китай, требующий постоянного догляда. Джучи и дружный с ним Чагатай направились в свои западные владения, к сартелам. Тулуй получил в свое распоряжение улус неподалеку от отца. Для всех них в последние несколько лет началась жизнь, полная хлопот и трудов, бесконечных разъездов. Что ж, ведь скоро им придется все взять в свои руки, так что пусть заранее начинают распоряжаться своим великим хозяйством сами, как умеют, как знают. У них есть все: богатые и самые разнообразные земли, трудолюбивые народы, Джасак, указывающий правильный путь Духа. Все заботы Ила он уже полностью, считай, переложил понемногу на плечи сыновей, только они сами этого еще не поняли до конца. Как только засомневаются в чем, так сразу же их выжидающие взгляды устремляются на отца. Отец же молчит, делая вид, что не замечает их затруднений. Если даже и знает ответ, не скажет. И ничего им не остается, как принимать меры по своему разумению.
С наступлением весенней оттепели с запада прибыли тайные соглядатаи Усунтая с весьма скверным известием о том, что Джучи заболел тяжелой болезнью, название которой вслух не произносится. В собственных же донесениях Джучи, которые он присылал дважды в месяц, ничего об этом не говорилось. И понятно, почему: он, не имеющий привычки жаловаться ни по какому поводу, тем более не стал бы сетовать на болезнь, а главное – тревожить отца с матерью. Не хотелось верить, но дурные вести редко когда бывают ложными. Оставалось лишь надеяться, что молодой организм подольше сможет бороться с болезнью и, с небесной помощью, одолеет ее…
Но все равно не смог выдержать неопределенности хан, вызвал Хубулая и отправил к сыну с особым заданием. Заодно поручил по пути завернуть в долину Сэргэнэ к югу от Самарканда, которую недавно выделили Барыласам, а точнее – к маленькой дочери Курбана, и разузнать, как живут люди там, какова обстановка.
Как только осел и подтаял снег, на земли тангутов двинули, не теряя времени, сборное войско, состоящее по одному тумэну от усунов, ойуратов и кыргызов. Хан сам отправился с ним, намереваясь на этот раз решить дело миром, без сражений и кровопролития, и остановился в низменной укромной степи, отправил послание вождю тангутов Илихэй-Бурхану:
«Илихэй-Бурхан! Когда-то, лет десять назад, мы с тобой тоже были в ссоре, но сумели поладить. И тогда ты дал мне слово стать моей бьющей рукой, лягающей ногой. Помня об этом, я обратился к тебе за помощью, когда отправлялся войной на сартелов, но ты помощи не дал. Более того, мне передали, что ты сказал: «Он что, хочет одолеть великую страну с помощью подаяний, с силами, выпрошенными у других? Пусть сидит на месте, раз нет сил…» А я лишь предупредил намерение владыки сартелов султана Мухаммета по пути в Китай заодно растоптать нас с тобой. И, конечно, вернулся с успехом, сокрушив великую силу султана благодаря только Божьему покровительству, а не собственной мощи. А теперь пришел спросить с тебя, Илихэй-Бурхан, свести наши счеты. Что ты на это скажешь? Что можешь мне сообщить? О чем просишь у меня? Земли у меня бескрайние, забот и ртов – много…»
Илихэй-Бурхан на этот раз выслушал послание Чингисхана, стоя на ногах. Потом начал оправдываться, как провинившийся подросток, что он никак не хотел оскорбить хана, и это, наверное, его неправильно поняли из-за неточного перевода… Но его перебил старый сегун, малоразумный и заносчивый Хампый-Ага:
– Ну, что ж, Чингисхан! Если ты действительно так велик, как рассказывают, то одолей нас в сражении. А победишь – получишь все наши богатства… Встретимся лицом к лицу у подножия горы Аласа!
Услышав подобное, монголы, конечно же, не стали сидеть и ждать, пока они соберутся на войну, подняли войско по тревоге и ускоренным маршем, не останавливаясь ни днем ни ночью, достигли горы Аласа. Более десятка тумэнов противника, состоящие в основном из пеших воинов, не успели даже подтянуться туда окончательно, собраться. Не дав им возможности объединиться, их рассекли на части и разбили, рассеяли по окрестностям. Хампыя-Ага, сбежавшего в горы, скоро поймали и казнили вместе с его ближайшим воинственным окружением…
А как красива была эта земля, на глазах оживающая под весенними лучами солнца! Местность находилась куда южнее их кочевки, и тепло здесь пришло раньше, снег давно стаял, и все краски казались особенно яркими, первая зелень особенно насыщенной. «Неужели это было мое последнее сражение?..» – с чем-то щемящим в груди подумал хан, тяжело переступая, обходя вместе со своим старым другом и ровесником Джэлмэ поле скоротечной битвы.
– Вот почему так получается всякий раз? – раздумчиво говорил хан, и в голосе его слышалась застарелая горечь. – Из-за самомнения одного-двух человек, подобных Хампыю-Аге, их дурного характера и гордыни истребляются сотни, а то и тысячи здоровых молодых людей, лучшая часть населения! И я ведь не требовал с них ничего особого, я лишь спросил, почему не выполнено обещанное, союзнический долг… А могли бы верой и правдой служить мне, нашему Илу. Нет, здесь лежат не столько их, сколько мои потери…
– Сдается мне, что это будет продолжаться вечно, многие века, – с отвращением сказал Джэлмэ. – Потому-то я и пришел к грустному выводу, что человек человека никогда не сможет понять по-настоящему. Никакая страшная беда не учит человека ничему… Всегда и на все смотрит он лишь со своей точки зрения, меняя ее так, как ему выгоднее в этот момент, как ему удобнее сейчас. А о последствиях не думает, не умеет. Зачем вот Хампый-Ага решил сопротивляться людям, покорившим государства несравненно более могущественные? Он что, вправду на что-то надеялся, дурак? Теперь и не спросишь…
– Ну, с глупцов какой спрос… Весь вопрос, на кого падает истинная вина, грех за все это…
– Это, наверное, знают только Вышние, – удивленно глянул на него Джэлмэ: разговоры о какой-то вине, о грехе в отношении войны раньше никогда еще не заходили. – А здесь, на земле, бытует лишь обычное стремление оговорить другого, врага, желание переложить ответственность за всё на чужие плечи.
– Несомненно, местные жители во всем обвиняют нас. На их взгляд, мы нагрянули со стороны без всякой причины и разрушили их мирную спокойную жизнь, они-то никого не трогали. А никогда никого не защитивший и ничего не завоевавший старый дурак Хампый-Ага, накликавший на свой народ эту беду, прослывет героем, павшим в битве за родную землю в борьбе с врагом. Для них все равно, что святой батыр…
– Как говорил почтенный старец Чанг-Чун, все мы на этой земле заблудились, и весь корень бед наших лежит в способности людей познать не полную истину, а только часть ее. И потому все у нас строится на предположениях, на взаимном подозрении, вражде…
– Да… – Хан совсем помрачнел. – Почти всегда причиной великой беды становится совершенная мелочь, то, что кто-то кого-то неправильно понял… Как мы с тем же султаном. Подумаю об этом – и горечь заливает горло, и душа томится. И теперь вот, заканчивая свой путь земной… Да-да, не возражай, не крути головой, этим ничего не отменишь… Теперь оглядываюсь назад и поражаюсь, сколько же ошибок мной было допущено, сколько неправедных деяний совершено, преступлений. Разрушено то, что должно было бы уцелеть, и столько светлых жизней оборвано, каким бы жить и цвесть… Но кто будет держать ответ за все это? Неужели одни мы? А те, кто довел нас до этого, стал причиной нашего отпора, неужели останутся в тени? Ведь что они творили с людьми в своих владениях, как измывались над народами своими – а теперь они пострадавшие, а мы завоеватели, убийцы, разрушители… Впрочем, не оправдываюсь, все мы друг друга стоим
– Ну, кто скажет… Разве только сами небесные судьи это знают, – сказал Джэлмэ тихо; и, ухмыльнувшись, добавил: – Наверное, они из той дали, куда ни меч не достанет, ни стрела хойгур не долетит, видят всё, знают истинную правду. И вот поворачивают ее, правду, рассматривают со всех сторон, щупают, на зуб пробуют – и не знают, что с ней делать, как ее рассудить…
– Нет, неладно в мире, жестоко всё – и сейчас, и во все былые времена не лучше. Судить легко, а вот жить… Я грешный очень человек, конечно, но вот подозреваю иногда, что и там в небесах сидят такие же напыщенные и вздорные, как наш Чагатай… Что истины и там вряд ли добьешься. Вот что печально.
Сегун Хубулай вернулся из Хорезма, лежащего на расстоянии более сотни кес, весьма скоро, сумел обернуться всего за месяц с небольшим – хотя для хана это время тянулось нестерпимо долго. Как он доложил, к несчастью, признаков действительно тяжелой и неизлечимой болезни у Джучи оказалось слишком много. Исхудал и день ото дня слабеет, как говорят близкие к нему люди, болезнь быстро берет своё. Сам же в последнее время только изредка появляется в Ставке, а больше находится на природе, в степи, пытается охотиться, рыбачить… И приказал строго-настрого, предупредил всех: «Запрещаю доносить отцу, что я болен! Пусть не переживает раньше времени, потом все равно узнает…»
И он уже принял решение оставить преемником вместо себя второго сына, Батыя.
– Какой он все-таки человек… безжалостный, да. Ладно, к себе он всегда суров был, а о нас подумал? Об отце, о матери, которые в таком горе… Хоть бы приехал повидаться…
– Попробовали уговорить, да он не согласился. «Прошлое должно остаться в прошлом, незачем возвращаться к нему, ворошить… Теперь моя родина, полученная от отца с вышней помощью Тэнгри, здесь. И кости мои пусть останутся здесь, в этой земле, при детях и внуках моих, и пусть ухаживают они за могилой моей по здешним обычаям…» Так он сказал, говорят.
– О, как он все-таки скуп на порывы сердца… – не сдержал хан горестных слов. – Только Джучи мог сказать, что прошлое должно остаться в прошлом. Но не значит же это, что он отбрасывает прочь от себя мать с отцом, всех своих родных братьев, сестер, близких – всех нас?..
Вот он, еще один итог пространственного разделения Ила… А вместе с расстоянием нас разделяет и время, и сама судьба, пожалуй… Нельзя безнаказанно нарушать естественные границы пространства и времени. Это хан теперь все больше понимает…
А споры все продолжались и с некоторых пор даже обострились – когда после победы над сартелами взоры военных обратились дальше, на Запад и Юг… Всегда были среди высших тойонов те, кто подобно Джэлмэ, твердили, что все имеет свои пределы, естественные нормы, а земель у нас уже предостаточно, пора бы остановиться, осесть и укрепиться, а не ловить изменчивое военное счастье за хвост, ибо оно может так огрызнуться… После каждой крупной победы над такими несколько свысока подшучивали: «Если б послушали вас, не победили бы ни Китай, ни сарацинов, ни даже найманов, а до сих пор сидели бы в глухих степях и заискивали бы перед ними…» Особенно Мухулай с Хубулаем донимали своего друга.
– Это лишь одна сторона. А какая польза от дальнейших захватов? – все не сдавался Джэлмэ. – Ну, хорошо, всех мы победили, всех сокрушили… А насколько богаче стали сами, насколько сильнее, могущественнее? Разве что лишних ртов прибавилось, да забот больше стало, не управляемся уже как надо с огромным государственным хозяйством…
– Но мы и с самого начала воевали не ради обогащения или величия. Мы укрепляли Ил. А теперь никто нам не грозит ни с запада, ни с востока, как раньше. Так что основной цели мы достигли.
– А если достигли, то почему не останавливаете молодых волков? Те уже опять зубы точат, за Яик поглядывают, за море… И сколько можно растягивать шкуру Ила, пытаясь натянуть ее на всё новые земли? Рано или поздно она порвется, и вот это будет для нас настоящая беда, по сравнению с которой все прежние опасности померкнут… Я человек военный, если надо – даже под землю спущусь, даже на небо поднимусь воевать, если прикажут. Но только воевать, когда война имеет смысл. А ради простого грабежа – это преступление…
– И я согласен с мнением Джэлмэ, – вмешался неожиданно в разговор Сиги-Кутук. – Мы и вправду слишком разрослись. Сложно управлять такой огромной страной, обустраивать ее, содержать. Из самых отдаленных углов донесения и даже слухи идут до нас несколько месяцев, и мы, в сущности, не знаем, что там происходит. А произойти может все что угодно – и разрастись за это время до серьезного…
Но все слабее были голоса сторонников Джэлмэ, все сплоченней и деятельнее становились им противоречащие, дальше и жаднее устремлялись взоры молодых военных, и хан чувствовал, да нет – знал уже, что ему их не остановить. Машина войны не могла долго простаивать, а разобрать ее на части и раскидать по Илу – на это сил его уже не хватало. Это все равно что раскидать еще горящие головешки. Костер потушишь, но может вспыхнуть большой пожар.
После снежной зимы, надолго ограничившей всякие передвижения, тепло нагрянуло неожиданно, все низины были залиты вешними водами. А скоро степь зазеленела под живительными лучами, заполнилась птичьим гомоном, заиграла разноцветьем тюльпанов.
И в эту прекрасную пору и пришла с запада тяжкая весть о том, что Джучи больше нет в срединном мире, что отправился ввысь, к Тэнгри… Хоть и были родные предупреждены заранее, но все равно на что-то еще надеялись, рассчитывая на силы молодости, на китайских лекарей, даже на чудо. Но теперь и надеяться стало не на что, теперь Джучи нет… Больше никогда уже он не войдет в его сурт, не подаст в его сутеми голос: «Отец, это я!..» Больше ничего у него не попросит своим как бы извиняющимся голосом.
Пока все более или менее благополучно, человек многому в своей личной жизни не придает особого значения, пропускает мимо ушей и глаз, мимо сердца, считая все это само собой разумеющимся. И только потеряв, спохватывается, запоздало и горько жалеет… Однажды, когда война с Хорезмом только начиналась, Джучи явился к нему, заранее условившись о времени, чтобы поговорить о Чагатае.
– Мальчик-то наш вырос уже, возмужал, а мы до сих пор ни разу еще не возлагали на него хоть сколько-нибудь серьезной обязанности, не давали ответственного задания…
– Вот как?!. – не без ехидства воскликнул отец. – А ты сам подумай, почему? Или заданий, поручений не хватает, или я забыл о его существовании, потому и не отправляю его в серьезный поход?.. Вот сейчас опять взбунтовались туматы. И если я отправлю к ним Чагатая, то сколько, по-твоему, лет мы будем потом расхлебывать последствия их усмирения? Как ты думаешь?..
– Но мы же никогда ничего ему не доверяли… Может, остепенится, будет сдерживать себя, если возглавит такой поход?
– Глупость не сдержишь. Человеку, не способному обуздать собственный нрав, не может быть никакого доверия.
– Если он один возглавит войско, ему придется быть всегда начеку, так что будет вынужден и норов свой запрятать, зажать. Можно и советников стоящих ему придать… Мы слишком довлеем над ним, до такого возраста не даем никакой почти самостоятельности. А слишком короткая узда и бесконечные запреты лишь подстегивают его строптивый характер, заставляют упрямиться…
– На первое время, надеемся, поможет и эта наука, будет хоть немного сдерживаться. Но характер-то несносный куда денешь?! Все равно истинный его нрав будет проявляться – и причем в самые неподходящие моменты! – ответил отец тоном, не терпящим возражений. Ему было жалко смотреть на огорченное лицо сына, но был непреклонен, поскольку много раз думал об этом. – Нельзя укреплять самомнение такого неуправляемого человека, давать ему ложные надежды под предлогом жалости, сочувствия. Даже я, отец, не могу сказать, чем все закончится, если он со своим характером получит власть… Так что за Чагатая даже не проси.
– Вот ведь беда-то… – проговорил тихо, почти шепотом Джучи и собрался что-то еще добавить, но замолчал, крайне огорченный, и отвернулся.
– Поверь, мне, как отцу, тоже очень жалко Чагатая. Жалко и досадно… Но тревога за судьбы множества людей, за будущее всего народа нашего в десять раз сильнее и подавляет мою родительскую жалость. Запомни и ты это на будущее. Бог вручил нам в руки столько народов не для того, чтоб мы распоряжались ими, как стадом баранов, руководствуясь лишь собственными прихотями, а для того, чтоб мы защищали их, устраивали их достойную жизнь. Для этого надо прежде всего себя усмирить, свой нрав и норов. Только после этого, принесения себя в жертву ради других, сможешь стать истинным Правителем.
– Но каково и ему знать, и людям видеть, что из всех нас лишь он один постоянно отодвигается в сторону, что ему ничего не доверяется? А нас и так мало… – печально сказал Джучи.
– Ну, хорошо… Я что-нибудь придумаю, найду для него дело…
И после этого разговора Чагатай был назначен главным толкователем Джасака, который после тщательного разбора и обсуждения вместе с Элий-Чусаем был окончательно утвержден Курултаем. Многое было высказано и услышано в пользу и правильности, и ошибочности этого назначения за прошедшие пять-шесть лет, но возникшая было напряженность в отношении Чагатая сразу же пошла на убыль. Хотя он и там натворил делов. Казнил по явному оговору одного выдающегося полководца – Курбана.
И вот самый вроде бы непроницаемый для всяких чувств, кроме самолюбия и нетерпимости, и холодный человек на самом деле оказался самым ранимым… Горе Чагатая, острейше переживавшего смерть брата, поразило всех. Несколько дней он был не в состоянии даже выйти из сурта, а когда все же появился по необходимости на людях, то его стало не узнать: похудел, будто постарел даже, глаза ввалились… Братья были и есть у него, но единственным другом во всем огромном Иле был у него Джучи – был… Но это он осознал, когда брата не стало.
Хан не решился послать его в таком состоянии в Ставку Джучи, и потому туда вместе со старыми тойонами отправился с особым делом Угэдэй. Он взял с собой отобранных людей, которые должны были помогать Батыю до тех пор, пока тот не почувствует себя уверенно на месте своего отца. Начальником Батыевых войск назначили Сюбетея. Мальчик еще слишком юн, а потому надо было вовремя отодвинуть в сторону тех, кто оспаривал первенство в его свите, отвлечь их на другие дела и заменить людьми, не имеющими никакого отношения к прежним порядкам, заново устраивать всю систему власти в улусе.
Весть о смерти Джучи поразила и взволновала всех до глубины души. Великих тойонов созвали в Ставку, чтоб сообщить горестную весть, и поручено это было Сюбетею:
– Друзья, соратники… Я вынужден сообщить вам о страшной беде, о горе, постигшем нас, весть о котором только что прибыла с запада, – начал он охрипшим голосом, единственным горящим глазом оглядывая всех, привычно выстроившихся в ровные ряды. – Наш Джучи… Мы не сумели удержать дорогого для всех нас человека… И теперь Джучи нет с нами… Он ушел от нас небесной дорогой – к Тэнгри…
Страшно было видеть, как горестно плакали эти суровые, порой жестокие даже люди, столько испытаний и горя видевшие на своем веку, столько смертей. Хан шагнул вперед, намереваясь сказать что-то очень важное, земля закачалась под его ногами, и хотя его вовремя поддержали, но так и не смог он вымолвить ни слова…
«Что значит – «теперь нет»?.. Как это Джучи может не быть? Если он был, то обязательно должен где-то остаться! Он есть, он непременно где-то существует, только глаза наши его не видят, полуслепые. Он только перешел в невидимую, для нас неведомую сторону. А мы начисто отрицаем все, что невидимо нашему зрению, говорим, что этого нет… да мало ли чего мы не видим! И в этом тоже выражается ограниченность несчастной человеческой натуры. Мы судим о мире лишь в пределах наших грубых чувств, ограничиваясь полем собственного зрения – и попробуй расскажи слепому от рождения, что такое утренняя заря, весенняя степь в тюльпанах, улыбка твоего сына-младенца… попробуй докажи нам, что мы слепы. Да, не все видимо, не все открыто нам. Потому и ошибаемся куда чаще, чем поступаем и думаем верно, а свои предположения и домыслы принимаем за будто бы существующее, реальное, неправильно толкуем даже простейшие обстоятельства… Нет, хоть сколько-нибудь умный человек не должен принимать слишком однозначные решения, всегда надо оставлять некий запас для непредвиденного развития событий, хотя бы по наитию предполагать о существовании многого невидимого вокруг нас, тоже влияющего на ход всех дел в мире…»
Как много передумал он за эту бессонную ночь, глядя в дымоход на горящие где-то в бездонной глубине небес звезды.
- Друг милый, нам с тобой
- Встретиться больше не суждено…
- Я, несчастный, ухожу навсегда,
- Имя мое забудет народ.
- А ты большое счастье найдешь,
- Другого в счастье своем искупаешь,
- Заветные слова ему ты скажешь,
- Славным именем своим украсишь!
- Но ты меня не приласкал
- За век мой короткий ни разу,
- Опорой не послужил ни разу
- Ни в радости, ни в горе…
- Милый друг, ухожу далеко.
- В страну неведомую ту
- Ухожу с обидой и слезами,
- Я – осколок исчезнувшего рода.
- Вот и все, друг мой, мы с тобой
- Отныне не встретимся никогда,
- Я, несчастный, ухожу навсегда,
- Имя мое забудет народ…
Много прошло времени с той начальной поры! И сколько дорогих, родных ему людей навсегда ушли в тот звездный мир – и мать с отцом, и старик Усун, и Джамуха, Боорчу, Мухулай… А теперь и Джучи вступил в их родной невидимый круг и, может, празднует встречу с ними… Самые близкие ему, самые выдающиеся из людей собрались там, и не пора ли и ему к ним?..
Он забылся ненадолго – и, как не раз уже было в последнее время, проснулся, вскинулся: опять оттуда, из-за далеких звезд кто-то немигающими, до дрожи родными пронзительно синими глазами глядел на него… Или это сам он видел себя – оттуда, с невообразимой вышины?..
– Нет, так дело не пойдет… – пробормотал он и с трудом поднялся, стал одеваться. Услышав это, турхаты, сидевшие возле входа, тоже вскочили, один из них раздул огонь в очаге.
Кромешную темноту за дверью сурта прокалывали только ярко горевшие на небе звезды. Хан вдыхал прохладный воздух с жадностью путника, припавшего губами к живительному источнику в пустыне. И сердце, тревожно бившееся в груди, немного успокоилось. Теперь он вспомнил, что в полудреме слышал голос матери:
– Если б не собрался, то так и сидел бы на прежнем месте…
Что бы это значило?.. Конечно же, если не браться за дело, не стараться что-то сделать, все так и останется на своем месте, неисполненным. И сколько же пришлось мотаться по свету на своем веку, за какие только дела не браться! И кто сейчас скажет, что пошло на пользу в достижении главной цели, а что оказалось напрасным? Нет, ничего напрасным не было, даже и неудачи доставляли столь необходимый опыт, учили. Постоянно боролись не только с многочисленными врагами, но и с пространством, которое требовалось одолеть, и со временем, чтобы успеть, не упустить тот единственный, приносящий или спасение, или победу момент… И вот теперь, когда все уже позади, порой просто диву даешься, вспоминая, как это нам удавалось выходить живыми из таких передряг, когда конец казался совершенно очевиден и неминуем… Уму непостижимо, как выбирались – будучи на самой грани, на волосок от гибели!..
Если судить сейчас здравым умом понимающего те события и обстоятельства человека, то нами было совершено невозможное, в сущности, достигнуто недоступное… Да, состоялось несостоятельное, получилось то, что никак не должно было бы получиться… Судя по всему этому, нас вела не просто удача, которая обязательно бы в какой-то момент подвела и обрушила всё, а силы куда более могущественные, не допустившие ни одного даже малого срыва. Значит, без всякого сомнения, мы выполняли Вышнюю волю. Да и войны мы ни разу не начинали по своему хотенью, а всегда были вынуждены идти навстречу неотвратимой опасности, понимая, что иного выхода у нас попросту нет. Шли ради спасения своих жизней или хотя бы семей своих, но, к собственному удивлению, всегда непостижимым образом выходили победителями…
Все это теперь позади. И сейчас постоянно точит лишь одна мысль, которая, пока не было времени особо задумываться, таилась где-то в закоулках сознания: вроде бы мы не знали поражений, покорили всех врагов. Вроде бы… Но это только видимая глазу сторона дела. А там, на обратной, невидимой, не таятся ли опасности, прямо вытекающие из всех наших побед, как бы их продолжением являющиеся, но в коварной противоположности им?..
Не получилось ли так, что мы опасно разбросали свой маленький народ по бескрайним просторам завоеванных нами великих стран? Никогда ранее не знавший особого мира между родами своими, постоянно обуреваемый внутренними противоречиями, завистью и соперничеством, распадающийся то и дело на десятки враждующих кочевий, – сохранит ли единство свое нынешнее? Как долго будут подчиняться нам многочисленные народы, которых мы покорили в скоротечных битвах за какие-то двадцать с небольшим лет, и что этот срок по сравнению с многовековой жизнью самих народов? Только на то, чтобы им опомниться, даже полвека мало – и ну как опомнятся разом?.. И поставил ли ты свой народ на твердую дорогу развития, обретения нового, государственного способа существования – или, наоборот, оставил на пороге окончательного исчезновения, растворения среди других, а затем и неизбежного упадка? Не станет ли вскоре монгольское войско, основа, скелет созданного тобой Ила, попросту очень большой и пока очень хорошо организованной бандой для хорошо организованного грабежа?..
Ответов нет и не может здесь быть… Звезды с холодной отстраненностью мерцают в глубине ночного неба и словно отталкивают его вопросительный взгляд: «Поговорим, когда подымешься к нам…» Может, он оскорбил их вышние силы тем, что задумывается, пребывая весь еще в земных страстях, о том, о чем не должен бы?
Нет, он никогда не чувствовал себя здесь всемогущим, как это казалось со стороны другим. Зато одиночество, некое духовное сиротство были его извечными спутниками, сколько он помнит себя. Вот и сейчас он стоит, как никогда одинокий, под этими холодными звездами, словно заблудившийся путник, и нет ему помощи ниоткуда…
Смятение, охватившее его душу после ухода Джучи из этого тревожного мира, все никак не могло его покинуть. И раньше он терял близких людей, но каким бы тяжелым не было горе, оно скоро оттеснялось бесконечными и тоже нелегкими заботами, военными и прочими обстоятельствами, требующими срочного разрешения. Теперь же хлопот этих сильно поубавилось, прежде всего потому, что переложены им они на плечи сыновей и новых, молодых и деятельных великих тойонов, да и война с тангутами оказалась не такой уж обременительной. Но и переложены-то были дела эти по крайней тоже необходимости: здоровья совсем не стало, не сразу и скажешь, что сильнее болит в тебе, а особенно донимала, не давала спать старая травма, полученная некогда при падении на каменистую землю с лошади, когда та шарахнулась, испуганная каким-то зверем… О, сколь долгой, оказывается, может быть ночь, когда лежишь, одинокий, не в состоянии забыться хоть ненадолго, и не чаешь уже наступления рассвета… И лезут в голову всякие неожиданные, часто мучительные в своей неразрешимости мысли, которые раньше как-то обходили стороной. Казалось бы, какой смысл заново перебирать всё давно уже прошедшее, завершенное, не подлежащее никакой перемене? Самое же скверное в том состоит, что чем больше копаешься в прошлом своем, тем больше находишь ошибок, промахов и упущений. И только диву даешься, как это сходило тебе с рук…
И все же, наверное, есть какой-то смысл в этом самокопании, поиске собственных ошибок и просчетов – хотя, возможно, он в мнительности стариковской своей слишком преувеличивает многие из них. Главная его нынешняя забота вовсе не о прошлом, и просчеты свои он вспоминает лишь для того, чтобы его сыновья не повторили их в другом времени – в будущем, когда допущенные ранее и вовремя не исправленные ошибки могут возникнуть вновь.
За всяким более или менее добровольным объединением родов, племен и народов стоит подавление каждым из вождей, да и всей племенной верхушкой, своего непомерно раздутого самолюбия, зависти и прочих неблаговидных чувств к другим. Им приходится быть выдержанными в каждом слове, даже в шутках. А это очень трудно, ибо любое неосторожное слово, выражение в адрес соседа может быть воспринято так же, как воспринимает искру китайский порох… Сколько уже таких случаев было при нем, и если бы не его смиряющая власть и авторитет, то многих междоусобиц не миновать бы. А не станет его? Что может вырваться наружу, затаенное годами, даже десятилетиями? Любой некогда сказанный вздор, любая стычка из-за не поделенной миром горсти серебра из добычи может стать причиной межплеменной войны… Ох, лучше не думать об этом!
Но думать приходится. Раздоры, борьба соперничающих группировок, их мелкая грызня способны разрушить даже самую могучую силу. Поэтому все причины, которые могут послужить поводом для обид и серьезных обвинений, должны быть заранее и жестко искоренены: недооценка заслуг человека, пренебрежительное отношение к какому-то роду или племени, всякого вида обделенность… А чтобы этого не случилось, нужна справедливость во всем и, в случае нужды, непредвзятый, выше всяких предпочтений и мнений стоящий суд.
Уклад жизни любого чужого народа, его обычаи и верования всегда кажутся на сторонний взгляд несколько диковатыми, а то и вовсе непонятными. И крайне важно это непонимание преодолеть, уяснить себе раз и навсегда, что все эти вроде бы странные традиции исходят из особенностей всего, чем живет народ: земли самой и местности с ее ниспосланной Небом погодой, способа пропитания даже, из всего многовекового прошлого и веры в то, во что он посчитал нужным уверовать… Правители короткой воли, не желая или не умея понять этого, относятся к чужому чаще всего свысока, с пренебрежением и тем самым отталкивают, настраивают против себя подвластные народы, порождая в них обиды и вражду, – и что может быть глупее этого? А всего-то и надо, что уважительное, даже предупредительное отношение ко всем покоренным, и тогда появляется надежда, что все они могут стать, станут своими, равными среди равных…
Но не пустые ли мечтания всё это, не полубред ли твоего изнуренного неотвязными думами и бессонницей сознания? Если еще можно понять и в чем-то оправдать твою войну с Хорезм-шахом, то что твоей коннице делать за морем, в кавказских горах, за Яиком? Ты рассуждаешь о понимании чужих народов, но и аланы, и половцы с урусами, и булгары яростно сражались с твоими тумэнами, ходившими дальним набегом на них, и не хотят, чтобы ты т а к понимал их… никак не хотят, и с какой стати ты навязываешь им это свое «понимание»? Еще можно уговорить или принудить к совместной жизни родственные народы, обезопасив себя от их соседского соперничества, но как и, главное, зачем пытаться делать это с совсем чужими, чуждыми? А ты ведь, откочевав со Ставкой в родные монгольские степи, за отдаленностью не сразу и понял тогда, что улус Джучи, по сути, стал понемногу выходить из повиновения, предприняв те самовольные набеги, противоречащие твоим намерениям перейти к мирной, наконец-то, жизни, поставить предел расползанию Ила… Опять она, самодвижущаяся и самовольная военная машина – справедливо наказанная булгарами, от которых пришлось бегством спасаться остаткам тумэнов Джэбэ и Сюбетея. И это еще одна твоя ошибка – и самая в твоей жизни главная, кажется, которая может привести к совершенно непредвиденным последствиям. И ты как никогда обостренно чувствуешь сейчас эту грядущую опасность – и уже ничего не можешь, не успеешь сделать, чтобы предотвратить её… Уже поздно.
Нет, не успеть, не найти уже сил для этого. То забытье наплывает, показывая путаные видения далекого прошлого, а то прорываются моменты совершенно ясного и трезвого сознания; и тогда он, возвращаясь к мучительным своим раздумьям, совершенно отчетливо понимает, что опять остался один, считай, опять одинок… Да, поставь сейчас вопрос на Курултае, идти или не идти с завоеваниями дальше на Запад, – и он окажется в самом малом меньшинстве, вместе с Джэлмэ, Сиги-Кутуком и еще немногими, уходящими тоже, а военная машина восторжествует… Своим Ханским словом он еще может остановить это, но надолго ли? До окончания похоронной тризны…
И в этом, наверное, судьба его народа. Вернее же, поворот судьбы, который он просмотрел, преступно упустил за маловажными заботами из виду. И какой опасностью, почти телесно ощутимой, потянуло на этом повороте, каким зловещим предчувствием!..
Но и кто вообще может просчитать, предвидеть все возможные опасности, всякие случайности даже? Какие тучи ходят близко за горизонтом века, какой гром грянет из них на наши головы? Чередою идут века, какие-то народы, пережив расцвет, расточаются средь других, исчезают, не оставив порой даже имени своего, а какие-то объявляются внезапно, как хунну, потрясая устои человеческого мира, вовлекая в переселения несчетные орды – и рассеиваясь тоже без следа… Возвеличившиеся сегодня до небес будут сокрушены, а ныне считающиеся ничтожными расцветут. Последние станут первыми, бредущие сегодня в хвосте выйдут вперед… вместо монголов? Возможно, и так. Но кем бы ни были они, став главным народом Ила, все равно придется им брать на свои плечи наше тяжелое наследие, наше добровольное ярмо: вечно хлопотать об объединении разрозненного, собирании рассыпанного, умирении враждующего… И нет более праведного на грешной земле пути! И этому покровительствует, всем сердцем сейчас убежден он, это благословляет сам Отец небесный, Тэнгри, и сыновья-пророки его – Будда, Моисей, Христос, Магомед и все благие невидимые силы…
Если же это так, то ты исполнил свое предназначение до конца, ты исчерпал свои силы, свою Чашу жизни… О, как легка она стала, Чаша, с какой свободой расправляются сейчас твои плечи, избавленные от земного тяжкого, истомившего тебя бремени! И откуда эта отрада, эта тихая радость, подымающаяся в тебе… неужели ты прощен, освобожден от заклятий тесного узилища жизни, грубого телесного существования?! И кто этот изможденный старик внизу, согнувшийся калачиком посреди сурта на простой воинской циновке, когда рядом богатая постель?..
Но – выше, выше… Вдруг оказалось, что он бредет, увязая ногами в чем-то вроде снега ли, сыпучего ли белого песка, но все более легкого, податливого. И будто он уже не идет, нет – плывет, в воздух возносясь понемногу, оставляя – он знает – всё-всё прошедшее позади. Ему хочется обернуться назад, то ли попрощаться, то ли благословить остающееся, еще не до конца оторвавшееся от его сердца, но слышит знакомый очень, повелительно упреждающий голос: