Рок-звезда Истон Биби
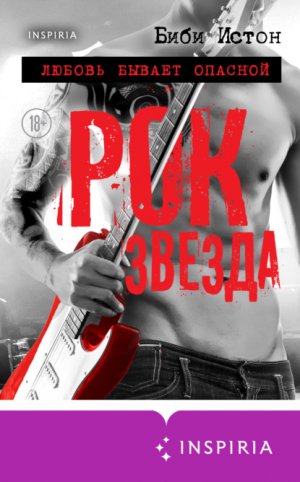
«Я бы хотела».
«Но я не буду».
– Хорошо, – с коротким кивком ответил Кен.
Мы так и продолжали стоять, засунув руки в карманы пальто. Нам надо было как-то увести разговор от этой несчастливой темы, но мы оба не знали как.
– Значит, ты расстраиваешься при виде меня? – поинтересовалась я.
Кен никогда не казался счастливым при встрече со мной, но он и вообще никогда не казался особо счастливым.
– Нет же, блин, – автоматически ответил он, и его лицо оживилось. – «Фальконам» нужна вся доступная помощь.
– Да иди ты, – рассмеялась я.
Я потянулась стукнуть его по груди, но Кен отклонился и легко отбил мой удар.
– Фу! – я топнула ногой и сложила руки на груди.
Кен поднял светло коричневую бровь и ухмыльнулся.
– Ты обиделась?
– Нет! – взглянула я на него.
– Ты обиделась, что я не дал себя ударить.
– И что?
Улыбнувшись, Кен развел руки в стороны. Его пальто распахнулось, открыв узкую белую майку, обтягивающую стройное тело.
– Вот. Если тебе это так важно, давай.
Его взгляд был вызывающим, черты – настороженными. Я пригляделась к его лицу, пытаясь понять, он в самом деле хочет, чтобы я его ударила, или снова пытается выставить меня идиоткой. И пока я смотрела на него, между нами промелькнуло что-то невысказанное.
Думаю, это было согласие.
Кен повторял ту позу, в которой стоял в последний раз, когда я украла у него объятие.
Он хотел, чтобы я сделала это снова.
Уж не знаю, почему Кен не мог просто обнять меня, как любой нормальный человек, но я просунула руки к нему под пальто и обхватила его теплое, пахнущее сушилкой тело. И когда пальто сомкнулось у меня на спине, а его руки напряглись, обнимая меня, мне все, все вокруг стало пофиг.
39
Я шла домой, чувствуя, что меня как будто собрали из кусков. Как будто сила объятий Кена сдвинула вместе разболтавшиеся части меня, которые почти отвалились. Как будто я не была так одинока, как мне казалось.
А еще я чувствовала, что власть Рыцаря надо мной стала ослабевать. Теперь история, случившаяся со мной в коридоре С, будет не о том, как на меня напал мой бывший, а сотня школьников ничего не сделала, только смотрела. Теперь это будет история о том, как упрямый беглец из футбольной команды с голубыми глазами и русыми волосами прогнал его и погнался за ним.
Улыбаясь про себя, я бродила по квартире, зажигая везде свет и трижды проверяя запоры на двери. Я позвонила родителям и рассказала про письмо о поступлении. Я позвонила Джульет и рассказала ей. Деве-Готу я звонить не стала. Она все еще была у меня в немилости за то, что рассказала Гансу про мои встречи с Джейсоном.
«Сука».
Оставался только Ганс. Да, он сказал, что «там не будет связи», но ведь оставить сообщение не повредит, верно? Ну и потом, может, они уже по пути домой, и там будет ловиться сигнал.
Ну и, может, я хотела совсем чуть-чуть, капельку, проверить его.
Сев на диван, который мы «одолжили» из подвала родителей Ганса – тот самый, который всегда вытаскивали на улицу, когда собирался народ, – я набрала номер, чувствуя, как у меня в желудке начинает закручиваться кислотная воронка.
«Это ничего, – сказала я себе. – Или он ответит, или ты оставишь сообщение. Ты ведь не бомбу деактивируешь. Господи».
Гудок.
Звонок.
Ду-у-у-дл-ду-у-у-дл-ду-у-у.
Отодвингув телефон от уха, я прислушалась.
Ду-у-дл-ду-у-у-дл-ду-у.
Это был телефон Ганса!
Я вскочила с дивана и снова прислушалась, пытаясь понять, откуда доносится звук.
Ду-у-у-дл-ду-у-у-дл-ду-у-у.
Я пошла на звук в спальню, где посреди комнаты стояла разобранная большая кровать Ганса. Кроме нее, в комнате был комод, тоже «одолженный» у Оппенгеймеров, и две дешевые прикроватные тумбочки, которые я купила в «Волмарте».
Ду-у-у-дл-ду-у-у-дл-ду-у-у.
Я начала копаться в куче грязной одежды на полу, пока не отыскала телефон в кармане темно-серых штанов Ганса.
Его мобильник.
Сев на край кровати, я уставилась на маленький пластиковый предмет. Я никогда раньше не копалась в чьем-нибудь телефоне. Не потому, что у меня были моральные принципы, а потому, что с теми парнями, с кем я встречалась, мне было страшно от того, что я могу там найти.
Но меня уже достало бояться. Мне надо спать по ночам. Мне надо есть без тошноты. Мне нужны ответы. И они были в этой маленькой черной «мотороле».
Решившись, я сделала глубокий вдох и оживила экран, готовая ко встрече с тем, что ждет меня внутри, но слово «ПАРОЛЬ» большими буквами остановило меня. Под ним, как вызов, светились четыре пустые клеточки.
«У него там чертов пароль?»
Я попыталась набрать его день рождения. Свой день рождения. 1234. Адрес его родителей. Наш адрес. Я уже готова была пойти за молотком, когда электронные часы в правом верхнем углу экрана мигнули и переключились с 11:10 на 11:11.
«Одиннадцать одиннадцать».
Передо мной всплыли закатившиеся глаза Предсказателя Джона, когда он прошлой зимой пробормотал мне эти цифры. Это стало моим счастливым числом, любимым временем, но, может, это было чем-то большим? Может быть, эти цифры откроют мне правду?
Скрестив пальцы и затаив дыхание, я набрала 1111.
И оно сработало.
– Спасибо, Джон, – прошептала я вслух, надеясь, что Джон, где бы он ни был, услышит меня.
Сперва я пролистала список контактов. Половина в нем – имена девиц. Я имею в виду стриптизерш. Все они кончались на -и. Кэнди, Мэнди, Бэмби, Тамми, Тони, Балони.
А ниже, в конце, в разделе V, была чертова Виктория сука Бизли.
Предательница.
Я проверила перечень звонков Ганса, чтобы узнать, когда она меня заложила, но точного ответа не получила.
Потому что эта дрянь последние пару месяцев звонила Гансу почти каждый день.
Мое горло захлестнуло желчью, поднявшейся из желудка. Она обожгла мне рот, и я чуть не захлебнулась этой кислотной дрянью. То пятнадцать, то тридцать, то сорок две минуты, пока я торчала на работе, а вот пятьдесят девять минут, когда Ганс должен был быть на занятиях.
«Стоп. Погоди… Что? Нет. Нет, нет, нет, нет…»
Я в панике подскочила с кровати и кинулась в столовую. В этом крошечном помещении стояли только мой компьютерный стол и стул. Мой рюкзак лежал на столе, лопаясь от учебников, тетрадей и прочих учебных причиндалов. Рюкзак Ганса валялся в углу на полу. Схватив его, я вытрясла содержимое прямо на пол посреди комнаты. Из рюкзака, словно лавина правды, потоком ринулись на пол книжки, смятая бумага, баночки рецептурных таблеток, пластиковые пакетики с травой и крошечные стеклянные пробирки с остатками белой пыли внутри.
Я опустилась на пол и попыталась оценить эту кучу посторонним взглядом. Взглядом той, кто сможет предоставить мне полный отчет, но позже, потом, когда я буду в состоянии его принять.
Она оглядела все, делая для меня памятные зарубки. Она заметила, что на всех бумагах были неудовлетворительные оценки, и ни на одной не было даты позже, чем конец октября. Она вычислила, что Ганс, должно быть, вылетел где-то перед аттестацией в середине семестра, и, должно быть, именно тогда и превратил свой рюкзак в хранилище наркоты.
Потом моя помощница принялась за дело. Она не хотела оставлять этот бардак на полу. Для этого она была слишком сознательна. Она перетащила содержимое рюкзака Ганса на кофейный столик и разложила там, словно на красивой витрине в «Мэйсис». Она сложила в высокую стопку новые, никогда не открывавшиеся тетради. Разложила перед ними веером все работы, так, чтобы видны были провальные оценки. Выстроила сбоку оранжевую пирамиду из рецептурных банок, а потом выложила прозрачные пробирки поверх бумаг в форме звезды, ну, просто чтобы придать всему блеска.
О!
Сбегав в спальню, она вернулась с завершающим штрихом. Вишенкой, венчающей все это нагромождение лжи.
Мобильный телефон Ганса.
Теперь, когда Биби вернется, может быть, ей легче будет взглянуть на правду. Теперь, когда эта правда так красива. Упорядочена. Взята под контроль.
В отличие от остальной засранной квартиры.
«Может быть, надо пропылесосить, – подумала помощница. – Вымыть пол в кухне. Не помню, когда Биби в последний раз вытирала пыль. Или убирала постель. Плитки в ванной покрылись плесенью. Надо быстренько тут прибраться. И, может, выкинуть мусор, раз уж об этом зашла речь».
Я ничего не чувствовала. Ни о чем не думала. Я мыла. Я мыла, и мыла, и убирала, и раскладывала по местам, пока не взошло солнце, пока мои руки не затряслись от голода, а глаза не начали закрываться от недосыпа. Тогда я поубиралась еще немного.
И только когда запели птички, лучи солнца проникли в квартиру сквозь безупречно чистые раздвижные двери, а я начала в третий раз переставлять подсвечники на каминной полке, только тогда я наконец услышала звук поворачивающегося в замке ключа.
40
Повернувшись там же, у камина, я смотрела, как Ганс тащится по ступенькам наверх.
На нем не было походной одежды.
Он не нес никакого походного снаряжения.
На нем были майка и обвислые джинсы. На взлохмаченные, немытые волосы он натянул вязаную шапку. И весь провонял куревом и дешевыми духами. Я чувствовала это через всю комнату.
Не знаю, то ли от этого его вида, то ли от запаха спрея от «Виктория Сикрет» вместо дыма костра, идущего от его одежды, то ли от полного физического истощения в результате ночного бодрствования, но все мои драгоценные защитные механизмы тут же испарились.
Пуф!
И внезапно остались только мы с Гансом.
И боль, от которой я пыталась убежать.
И правда, которую он скрывал.
И художественная инсталляция из доказательств на кофейном столике между нами.
Когда Ганс добрался до верхней ступеньки, я увидела, как его налитые кровью глаза пробежались по вылизанной квартире, скользнули по моему замученному, невыспавшемуся лицу и остановились на всем его вранье, аккуратно разложенном в центре конуры, которая была нашим домом.
Он смотрел на эту кучу так же, как смотрят на щенка – если ты вдруг пришел домой и обнаружил его сдохшим посреди комнаты.
Ганс не взглянул на меня. Не сказал ни слова. Он просто добрался до дивана, рухнул на него, поставил локти на колени и спрятал лицо в ладонях.
У меня во рту образовался миллион вопросов.
«Кто ты?»
«А где Ганс?»
«Что ты с ним сделал?»
«Я вообще его еще увижу?»
«Ты наркоман?»
«Что мне теперь делать?»
«За что ты так со мной?»
Но вслух я произнесла этот:
– Где ты был, на хрен?
Ганс тяжело и долго вздохнул и потер пальцами виски. Я была готова повторить свой вопрос, когда он наконец признался:
– В «Розовом Пони».
– Да, блин, ты им и воняешь. Это там ты встречаешься с Кэнди, Мэнди, Брэнди и Сэнди? Похоже, ты только с ними и тусишь.
– Детка…
– Нет, – возвысив голос, я сделала шаг вперед и направила в его сторону дрожащий палец. – Не смей, блин, звать меня деткой. Пока ты там шляешься с девками на коленях и они тебе сосут, я тут отдираю за тобой сортир, разбираю твои трусы и учусь без сна и продыху, потому что всю ночь не могу заснуть, думая, когда же ты, на хер, соизволишь вернуться домой.
– Извини, – помотал Ганс головой, все еще не убирая рук от лица.
– «Извини, извини, извини», – качая головой, издевательски пропела я тоненьким голосом. – Это все, что я от тебя слышу. А знаешь, что я хотела бы услышать? Хотя бы раз? Как насчет «Спасибо»? Или «Эй, давай куда-нибудь сходим вечером»? Или там «Почему бы мне не вымыть посуду»? Или «Знаешь, в этом месяце я заплачу свою половину квартплаты»? О, точно! А как насчет «Поздравляю с поступлением в магистратуру»? Или нет, погоди. Ты же ничего об этом не знаешь, потому что тебя ни хера не было дома, когда я получила письмо!
Одним прыжком я подскочила к кофейному столику и сшибла телефон Ганса с вершины бутылочной пирамиды. Я надеялась, что он врежется в стену и разлетится на тысячу кусков, но он с тихим хлопком шлепнулся на чертово кресло.
Что разозлило меня еще больше.
Меня всю переполняло адреналином. Кулаки сжимались. Зубы скалились. Мне хотелось схватить голову Ганса за его чертовы грязные волосы и заставить поглядеть мне в глаза. Мне хотелось бить его по лицу и орать на него за то, что он оказался ничуть не лучше всех остальных известных мне парней. А потом хотелось забраться к нему на колени, и чтобы он держал меня, а я буду плакать, пока не усну.
Но все это было бессмысленно. Ганс не дал бы мне сдачи. Просто не смог бы. И не только потому, что его поведение было непростительным, но и потому, что он был настолько пьян, или под кайфом, или и то и другое, что вообще с трудом держал голову прямо.
– Да чтоб тебя! Ты же потом даже не вспомнишь этот наш разговор. Я ухожу на занятия, – я побежала в столовую и схватила свой рюкзак.
– Погоди, – Ганс поднялся и, вытянув руки вперед, загородил проход к лестнице. – Прости. Мне очень жаль. Я знаю, я все время так говорю, но от этого оно не перестает быть правдой.
– Ла-а-адно, – сказала я, глядя сквозь него мертвыми глазами.
– Я… блин… – Ганс потер затылок. – Биби, я тебя люблю.
– Нет, – отрезала я. – Ни хрена. Ты любишь то, что я для тебя делаю. Ты любишь, что я плачу за квартиру, и сосу тебе, и убираю в доме, и помалкиваю, пока ты изображаешь рок-звезду на своих концертах. Ты и себя-то больше не любишь. Ты погляди на себя.
Пока Ганс разглядывал свой расхристанный вид, я попыталась прошмыгнуть между ним и стеной.
В последний момент он заслонил мне дорогу.
– Не уходи. Ну, пожалуйста? Тебе же не нужно уходить.
– Нет, нужно!
– А ты вернешься?
Это меня остановило. Если честно, я об этом не подумала. У меня не было плана. Я не собрала вещи. Но от мысли, что я проведу хотя бы еще минуту в этой квартире с этой долбаной вонью, меня начинало выворачивать. Единственное, что он мог бы сделать, чтобы я хотя бы задумалась насчет остаться, это встать прямо передо мной. Но от этого он был слишком далек.
– Я вернусь, когда вернется Ганс, – отрезала я, снова пытаясь продраться мимо него.
– Что это значит?
Отступив на шаг, я поглядела ему прямо в глаза.
– Это значит, что ты, – я указала на стоящего передо мной человека с опухшими глазами, запавшими щеками и штанами, сползающими с узких бедер, – ты не мой чертов парень. Я люблю не тебя! Я люблю парня, который держал меня за руку, дарил мне цветы и водил меня на концерты. Я люблю парня, который как-то пытался расцеловать каждую мою веснушку. Я люблю парня, который не спал ночами и писал стихи, глядя, как сплю я.
Когда я вспомнила, как мы были счастливы, на глаза набежали сердитые, горькие слезы. Надежда, что мы сможем вернуть то блаженное лето, что мы вернемся туда и останемся там навсегда, превратилась в мираж на горизонте жизни. Но я уже прошла до конца всю пустыню, а никакого оазиса так и не появилось. Только полтора года следов позади меня – сперва два ряда, а потом, под конец, только один.
– Вот кого я люблю. А не тебя. Я даже не знаю, кто ты, на хрен, такой. Ты только врешь мне и бросаешь меня одну, и я… Я тебя ненавижу.
Из джинсовых глаз Ганса тихим, виноватым потоком хлынули слезы.
– Это я, детка, – всхлипывая, тихо произнес он. – Это все еще я. Про…
– Прекрати это говорить! – заорала я, оттолкнула его и схватила свою сумку со столика в гостиной.
– Я не могу жить без тебя! – у Ганса сорвался голос. Он кинулся вперед, пытаясь преградить мне дорогу к лестнице. Это движение только всколыхнуло волну идущей от него клубнично-киви-грушево-розово-гардениевой вони. Мне пришлось подавлять не только слезы, но и рвотный рефлекс. – Я все сделаю. Пожалуйста. Что угодно. Я не могу потерять тебя. Ты только скажи мне, что делать, и я все сделаю.
Я повернулась к нему, расправив плечи и подняв голову. Но никакая нарочитая уверенность не могла уберечь от дрожи мой подбородок, когда я произнесла эти три самых печальных слова в английском языке.
– Нет, не сделаешь.
У Ганса тоже задрожал подбородок.
– Нет, сделаю, – неубедительно прошептал он пустые слова. – Ну, пожалуйста, детка. Дай мне шанс.
– Хорошо. Выбирай. Я… или эта жизнь.
Я ждала, что Ганс сделает то, что делал лучше всего, – скажет то, что я хотела услышать. Скажет, что я нужна ему. Что он протрезвеет. Что он посвятит всю оставшуюся жизнь тому, чтобы сделать меня счастливой. Да блин, может, даже создаст из своих пустых обещаний новую песню. И запишет новый альбом, чтобы заработать еще больше денег, которые спустит на еще большее количество наркотиков и на еще более крутые стрип-клубы.
Но в редчайшем припадке честности Ганс не сказал ничего. Он избавил меня от лжи. За него все сказали его слезы.
И он дал мне выйти за дверь.
41
Я успела проехать только полдороги до университета. Потом я начала плакать так сильно, что мне пришлось остановиться. Ехать дальше было просто опасно. Я не спала больше суток. И примерно столько же ничего не ела. Адреналин выгорал, оставались только изнеможение и слезы.
Так. Много. Слез.
Ехать в университет в таком виде было невозможно, поэтому я развернулась и поехала домой.
Родители встретили меня с распростертыми объятиями, но было ясно, что за время моего отсутствия мой статус в их доме сменился с жильца на гостя.
Прошло всего четыре месяца с моего переезда, но за это время мама переставила мебель в моей спальне, сняла все четыре сотни фотографий, вырезок из журналов, плакатов с группами и рисунков, покрывающих стены, и выкрасила всю комнату в светло-голубой. А потом, как финальный штрих, превращающий комнату в гостевую спальню, повесила над кроватью репродукцию «Кувшинок» Ван-Гога.
Я официально стала бездомной.
Как бы мне ни хотелось свернуться в комочек и просто сдохнуть, находиться в этой комнате было еще тошнотворнее, так что я села в кухне за стол и стала пить виски, который мама дала мне, чтобы «успокоиться».
Она предлагала мне еще таблетку ксанакса, но я отказалась.
Если я сегодня увижу хотя бы еще одну оранжевую рецептурную баночку, я взорвусь на фиг.
Опять.
– Лапа, ты уверена, что не хочешь пойти и посмотреть телевизор в гостиной? Тебе, кажется, тут скучно?
Я поглядела через коридор в гостиную, где папа тихонько перебирал струны красного «фендера стратокастера», глядя на бесконечное мерцание CNN на экране.
– Не-а, я нормально. Мне просто надо подумать.
Мама улыбнулась и села со своим бокалом вина напротив меня.
– Я, кажется, в жизни не говорила этих слов, – хихикнула она. – Я, как правило, старалась ни о чем не думать.
– Может, в этом и вся моя проблема, – слабо улыбнулась я в ответ.
– Да, я совершенно уверена, что ты думаешь за нас обеих. – Ее длинные рыжие волосы были распущены, и она сменила свою учительскую одежду на майку с индийским богом Ганешей спереди и штаны для йоги. – Ну, и о чем ты раздумываешь прямо сейчас?
Я вздохнула и почувствовала, что снова начинает щипать глаза.
– Я вот думаю… Может, я должна была больше стараться… Ну, понимаешь? – я снова поглядела в коридор, туда, где папа играл на своей красной гитаре. Такой добрый, такой чувствительный, такой затерянный среди своих страстей. – Я должна была ему помочь. Ну или чаще ездить с ним в эти туры. Или… Ну я не знаю… как-то больше его поддерживать. А я просто взяла и сдалась. – Мой подбородок – дурацкий, предательский подбородок – непроизвольно задрожал, и новые жаркие слезы потекли по щекам. – Я так его люблю, а вот взяла и просто ушла.
Мама протянула руку через стол и сжала мою ладонь. Она сидела со мной, внимала моей боли и оставалась сильной, чтобы я могла спокойно выплакаться.
Когда мои рыдания сменились всхлипываниями, мама наполнила наши стаканы из бутылки мерло, стоявшей на столе, погладила меня по руке и сказала:
– Детка, я знаю, что ты его любишь, но ты все сделала правильно.
Я поглядела в ее глаза. Они были точно как мои. Землисто-зеленые. Усталые. Печальные. Слегка пьяные. Изможденные от постоянной мучительной любви к музыканту.
– Я очень люблю твоего папу. Правда. Он хороший человек, и очень любит меня, и подарил мне тебя, – она улыбнулась и крепче пожала мою руку. – Но, если бы я могла начать все сначала, я бы вышла замуж за чертова счетовода, – рассмеялась она, смахивая слезу из уголка глаза. – Ты очень похожа на меня. Мне всегда так нравились крутые парни с крутыми прическами в крутой одежде – плохие парни, музыканты, – но вот к чему все это приводит, – мама повела глазами в сторону гостиной. – Твой отец не работает уже больше трех лет.
Я моргнула.
– Правда? – я не понимала, что это продолжается столько времени.
– Угу. А на последней работе он продержался чуть больше года. Я никогда не хотела быть учителем рисования. Я хотела быть художником, продавать картины в галереях, но кто-то должен оплачивать счета. И, черт возьми, это никогда не был он.
– Если тебе от этого легче, ты чертовски хороший учитель рисования.
Мама улыбнулась.
– Спасибо, детка. Ничего. Это нормальная жизнь. Но для тебя я хотела гораздо большего. Ты знаешь, почему мы назвали тебя Брук?
– Почему?
– Потому что Брук Бредли звучит как имя кинозвезды. Когда твой папа его предложил, я сказала: «Отлично. Когда она станет кинозвездой, ей даже имя менять не придется». Вот ты и выросла такой, ты поешь, танцуешь, и люди радуются тебе, и мы всегда знали, что так и будет.
Мама снова сжала мою руку. Тепло в ее глазах компенсировало холод ее ледяных пальцев.
– Ты всегда была самым ярким пятном в любом помещении, детка, но ты приглушаешь свой свет, чтобы твой парень мог сиять вместо тебя. Не делай этого, ладно? Ты стоишь того, чтобы кто-то поддерживал тебя, а не наоборот. Ты так сфокусировалась на том, чтобы помочь Гансу исполнить его мечты, а он вообще хотя бы знает о твоих мечтах? Он помогает тебе их исполнить? Он помогает тебе по дому? Помогает тебе учиться?
Она еще что-то говорила, но я отключилась на минуту, думая о том, что она успела сказать. «Помогать. Исполнить. Учиться». Единственный человек, которого я могла вспомнить и который знал о моих целях и предлагал мне помочь их достичь, был этот холодный, безрадостный, противный, пьющий витаминный напиток, носящий спортивные штаны умник, чьи объятия мне приходилось красть.
Кен.
Я даже не знала его фамилии, но он поддерживал меня и помогал мне больше, чем мой парень за все полтора года.
Как это грустно.
– Я знаю, что он милый, – продолжала мама. – И знаю, что он яркий. Но милый и яркий не заплатит твою ипотеку. Не подметет пол. И уж точно не будет менять пеленки. Если ты только даешь, а он только берет, то у меня для тебя есть новости, детка, – мама кинула еще один взгляд в сторону папы и с печальной решимостью посмотрела мне в глаза. – Ты ему не подружка. Ты ему мать.
42
Я потеряла счет часам, проведенным без сна. Тридцать с чем-то? Сорок? Я была физически измождена. У меня даже слез больше не было. Но я лежала, не в силах заснуть, и смотрела на светящиеся в темноте наклейки в форме звезд на потолке своей бывшей комнаты. Они меня беспокоили. Я смотрела на эти светящиеся зеленоватым светом созвездия со времен средней школы, но теперь, когда моя кровать стояла у другой стены, их знакомый узор рассыпался, как презревшие гравитацию конфетти.
Что, в общем, соответствовало тому, во что превратилась моя долбаная жизнь, перевернувшись с ног на голову.
Я больше не понимала, где верх, а где низ. Голова говорила мне, что мама права. Что, вернувшись к Гансу, я буду отвечать за все, мои мечты придется оставить, и моей ролью будет нечто среднее между музой и прислугой.
Но сердце молило меня сделать хоть что-то, что угодно, чтобы убрать эту боль. Мне так хотелось снова вернуться туда, где я была всего лишь одинокой, ревнивой и беспокойной. Одиночество, ревность и беспокойство казались мелкой лужицей по сравнению с тем тайфуном горя, в котором я с трудом удерживалась на плаву.
Сердце шептало: «Вернись. Извинись. Покончи с этим несчастьем. Пожалуйста».
Так они и торговались – моя голова с моим сердцем.
Голова сказала: «Ладно, но только если он позвонит и правда раскается. Он должен будет это заслужить. Если мы сейчас вернемся, он никогда не изменится. Он одумается. Надо только подождать».
Сердце всхлипнуло и кивнуло.
Вот так. Так я и решила. Если Ганс позвонит и будет умолять меня вернуться домой, если он пообещает измениться, я так и сделаю. Я дам ему еще один шанс. Это решение принесло мне необходимый покой, и я наконец смогла задремать.
Я резко проснулась посреди ночи от звука своего телефона. Меня охватил прилив надежды. Я протянула правую руку, чтобы схватить телефон с тумбочки, но рука неожиданно натолкнулась на стенку.
«Твою мать!»
Перевернувшись на другой бок, я схватила завывающий телефон с тумбочки слева от кровати и успела ответить на последний звонок.
– Алло?
Тревога пожирала меня с каждой миллисекундой, которую я провела в ожидании ответа.
– Ты взяла трубку.
Голос был тихим и извиняющимся. Он не был рычащим и сдавленным. Он был хриплым, низким и ясным, и этими тремя простыми словами разодрал все мои надежды в лоскутки.
– Рыцарь.
– Панк.
Я замерла, нерационально молясь, что, может, если я не буду шевелиться, он не узнает, что я тут.
– Я думал, ты не ответишь.
Я сглотнула.
– Но все равно продолжал звонить.
Рыцарь выпустил сигаретный дым. Я знала этот звук.






