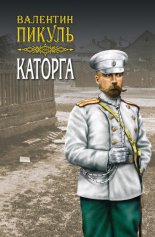Горбачев. Его жизнь и время Таубман Уильям
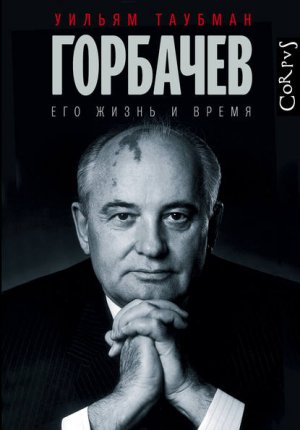
Читать бесплатно другие книги:
Посвящается всем мечтателям.Да, так и есть, мечта полезная штука, мне бы хотелось в это верить, как ...
Вы знаете друг друга с детства и всегда вместе. Вот только что делать, если твой друг давно тебе нра...
В этом томе мемуаров «Годы в Белом доме» Генри Киссинджер рассказывает о своей деятельности на посту...
«Сумма технологии» подвела итог классической эпохе исследования Будущего. В своей книге Станислав Ле...
«Общество изобилия» – самая известная работа Джона Гэлбрейта, увидевшая свет в 1958 году и впервые в...
Роман «Каторга» остается злободневным и сейчас, ибо и в наши дни не утихают разговоры об островах Ку...