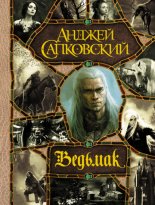Незримая жизнь Адди Ларю Шваб Виктория
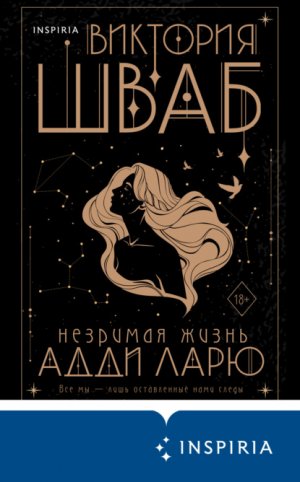
Он уже почти у двери, когда вдруг его кто-то окликает:
– Мистер Штраус!
У Генри начинает сосать под ложечкой. Ему знаком этот голос, он хорошо помнит пожилого мужчину с седыми волосами и разочарованным взглядом. Когда-то этот человек посоветовал ему покинуть кафедру, да и само учебное заведение, и постараться выяснить, к чему же лежит душа. – Уж определенно не к его предмету.
Генри старается изобразить улыбку и терпит откровенную неудачу.
– Декан Мелроуз, – кивает он, поворачиваясь к человеку, который сбил его с пути.
Тот ни капли не изменился – кожа да кости, прикрытые твидовым пиджаком. Но вместо привычного презрения, которым обычно декан награждал Генри, старик выглядит довольным. В аккуратной седой бороде светится улыбка.
– Какая удача, – заявляет он. – С вами-то я и хотел увидеться.
Генри с трудом в это верит, но вдруг замечает светлую дымку в глазах Мелроуза. Но нужно быть вежливым, как ни хочется попросить декана отвалить к чертовой матери, поэтому Генри просто спрашивает:
– Зачем?
– На факультете теологии открыта вакансия, и вы нам идеально подходите.
– Вы что, шутите? – Генри с трудом сдерживает смех.
– Вовсе нет.
– Я так и не получил докторскую степень. Вы меня вышвырнули.
– Я вас не вышвыривал, – воздев палец вверх, протестует декан.
– Пригрозили вышвырнуть, если я сам не уйду, – начинает сердиться Генри.
– Верно, – искренне сокрушается Мелроуз, – я ошибался.
Этот человек никогда и ни за что не произнес бы подобного. Генри хочется насладиться его раскаянием, но ничего не выходит.
– Нет же, – возражает он, – вы поступили правильно. Это не мой путь, я не был счастлив. И у меня нет ни малейшего желания возвращаться.
Вранье. Генри не хватает упорядоченности, цели и предназначения. Возможно, теология не идеально ему подходила – но, впрочем, и все остальное тоже.
– Приходите на собеседование, – приглашает Мелроуз, протягивая визитку. – Я заставлю вас передумать.
– Опаздываешь! – Беа поджидает Генри на ступеньках букинистического.
– Прости, – бормочет он, открывая замок, и добавляет: – Вообще-то тут тебе не библиотека.
Беа шлепает на прилавок пятидолларовую купюру и направляется в отдел искусства, уклончиво хмыкнув в ответ на его тираду. Генри слышит, как она сгребает с полок книги.
Беа – единственная, кто не изменился. Похоже, она относится к нему в точности как прежде.
– Слушай, – начинает Генри, идя к ней по проходу между стеллажами. – Тебе не кажется, что со мной что-то не так?
– Нет, – отрезает Беа, изучая полки.
– Да посмотри же на меня!
Она поворачивается и изучает его долгим оценивающим взглядом с головы до пят.
– То есть кроме отпечатка помады у тебя на шее?
Краснея, Генри вытирает кожу.
– Да, кроме этого.
– Ничего, – пожимает плечами Беа.
Но в ее глазах Генри видит уже знакомое мерцание, тонкую переливчатую пленку. Чем дольше Беа смотрит на Генри, тем сильнее блестит пленка.
– Так-таки и ничего?
Беа берет с полки книгу.
– Генри, что ты хочешь от меня услышать? – спрашивает она, еще секунду задержав на нем взгляд. – Ты такой же, как обычно.
– И ты не… – Он не знает, как задать вопрос. – То есть ты меня не хочешь?
Беа поворачивается и с удивлением таращится на него, а затем принимается хохотать.
– Прости, дорогой, – говорит она, наконец овладев собой, – только пойми меня правильно, ты очень милый, но я не меняла ориентацию.
Услышав это, Генри чувствует нелепое облегчение.
– Да в чем дело-то? – не понимает Беа.
Я заключил сделку с дьяволом, и теперь каждый, кто посмотрит на меня, видит лишь то, что хочет видеть.
– Ничего. Забудь, – качает головой Генри.
– Что ж, – тянет Беа, кладя в стопку очередной том, – кажется, я нашла новую тему для диссертации.
Беа тащит книги к прилавку и раскладывает их поверх учетных журналов и квитанций. Она принимается листать тома и открывать каждый из них на нужной странице, а затем делает шаг назад, обозревая получившуюся картину.
Перед ней три портрета молодой девушки. Все они явно принадлежат разным временам и разным школам живописи.
– И на что мы смотрим? – интересуется Генри.
– Я зову ее призраком в раме.
Одна из картин – карандашный набросок с обрывистыми, незаконченными очертаниями. Девушка лежит на животе, запутавшись в простынях. Волосы разметались, лицо – лишь росчерк теней, но видна небольшая россыпь веснушек на щеках. Внизу на итальянском подписано название:
«Ho Portado le Stelle a Letto»
Ниже – перевод на английский: «Я взял в постель звезды…»
Вторая работа принадлежит кисти французского художника, абстрактный портрет в ярко-голубых и зеленых тонах, выполненный в технике импрессионизма. Женщина сидит на пляже, на песке возле нее – книга обложкой вниз. Через плечо она смотрит на художника; видно только часть лица, веснушки обозначены световыми пятнами и отсутствием цвета.
Называется картина «La Sirne».
Сирена…
Последний портрет вырезан на доске вишневого дерева, тонкие линии очерчены проходящим насквозь светом.
«Созвездие».
– Видишь?
– Вижу. Портреты.
– Да нет же, – ворчит Беа. – Это портреты одной и той же женщины.
– Только если с большой натяжкой, – приподнимает бровь Генри.
– Да ты взгляни на линию подбородка, очертания носа и веснушки. Сосчитай их!
Генри считает. На каждом изображении веснушек ровно семь.
Беа касается первой и второй картин.
– Итальянская работа датирована рубежом девятнадцатого века. Французский художник писал свою спустя пятьдесят лет. А эта, – говорит Беа, показывая на фото доски, – из шестидесятых годов прошлого века.
– Скорее всего, они вдохновлялись друг другом, – предполагает Генри. – Кажется, существовала такая традиция, забыл, как она называется, когда один художник все время рисует некий образ, объект, прославляя его, второй вдохновляется им и отдает дань первому, и так далее?
Беа почти отмахивается от него.
– Да, перенимать друг у друга словечки или образы – это нормально, такое случается в лексиконах или бестиариях, но в традиционных школах искусства так не принято. Это все равно что впихнуть девушку с жемчужной сережкой на картину Уорхолла или Дега, не имея представления о Рембрандте. Если эта женщина стала таким объектом, он, по сути, оказывал влияние на искусство веками. Она как связующая нить между эпохами, а значит…
– Значит… – эхом отзывается Генри.
– Значит, нужно задать вопрос, кем же она была? – Глаза Беа возбужденно горят, как порой горят у Робби, когда перфоманс особенно удастся или он нанюхается кокаина.
Генри не хочется ее разочаровывать, но она явно ждет, чтобы он высказался.
– Ну хорошо, – мягко начинает Генри, – но если она была никем? Даже если на картинах изображена одна и та же женщина, возможно, первый художник ее просто выдумал?
Беа хмурится и трясет головой.
– Слушай, – пытается успокоить ее Генри, – я как никто хочу, чтобы ты нашла подходящую тему диссертации. Ради своего магазина, а также потому что волнуюсь за твой рассудок. Звучит-то круто. Но вроде бы последний раз тебе отказали из-за слишком вычурной темы?
– Заумной.
– Именно. Если уж тема «Влияние постмодернизма на архитектуру Нью-Йорка» показалась декану Перришу слишком заумной, что он скажет насчет всего этого? – Генри показывает на раскрытые книги, где с каждой страницы на него смотрит лицо с веснушками.
Беа молча таращится на него, а потом на книги.
– Вот черт! – вскрикивает она, хватает огромный том и несется к выходу.
– Это не библиотека! – вопит ей вслед Генри, снова расставляя оставшиеся фолианты по местам.
IX
18 марта 2014
Нью-Йорк
На Генри вдруг находит озарение, и он замолкает. Генри давно забыл о попытках Беа отыскать тему, это незначительное событие среди треволнений прошедшего года осталось незамеченным, но теперь до него дошло.
Девушка, которая послужила моделью для наброска, картины, скульптуры, сейчас шагает с ним рядом, касаясь перил, и лицо ее лучится восторгом.
Они идут по Челси, направляясь к Хай-Лайн, и Генри замирает на середине пешеходного перехода, осознавая правду, этот хрустальный проблеск истины в собственном рассказе.
– Это была ты…
– Да, – ослепительно улыбается Адди.
Гудят машины, мигающий сигнал светофора становится красным, Адди и Генри бегут на другую сторону.
– Забавно, – говорит Адди, пока они поднимаются по металлическим ступеням, – о второй я и не знала. Я тогда отдыхала на пляже, а на пирсе сидел художник с мольбертом, но законченной работы я потом так и не нашла.
– Я думал, ты неспособна оставить след, – качает головой Генри.
– Так и есть, – соглашается Адди, глядя вверх. – Я не могу взять ручку, рассказать свою историю, применить оружие или заставить людей помнить. Но искусство… – она умиротворенно улыбается, – искусство – это идеи, а они сильнее воспоминаний. Как сорняки, всегда пробиваются на поверхность.
– Но фото с тобой снять нельзя, и видео тоже.
Адди теряет самообладание, но лишь на долю секунды.
– Да, – очень отчетливо произносит она.
Генри уже жалеет, что спросил, снова напомнил ей об оковах проклятия, а не стал обсуждать лазейки, которые она в нем обнаружила, однако Адди расправляет плечи, выпячивает подбородок и почти вызывающе-радостно улыбается:
– Разве не прекрасно быть идеей?
На подходе к Хай-Лайн на них налетает ледяной порыв ветра. В воздухе все еще веет зимой, но вместо того, чтобы прильнуть к Генри, прячась от стужи, Адди поворачивается к ветру. От мороза ее щеки покрываются румянцем, волосы развеваются, и в эту секунду Генри видит то, что видели все художники, то, что заставляло их хвататься за карандаши и краски, влекло к этой невозможной, неуловимой женщине.
И пусть он твердо стоит на своих двоих, Генри кажется, что любовь сбивает его с ног.
X
13 сентября 2013
Нью-Йорк
Люди то и дело говорят о доме.
Дом там, где сердце. Нет места лучше дома. Стоит уехать, как тут же начинаешь тосковать по дому. Но ведь это не должно означать, что тоска одолевает тебя непосредственно дома, а именно так Генри себя и чувствует. Он и правда любит свою семью. Просто они не всегда ему нравятся. И не нравится тот, в кого он сам превращается рядом с ними.
И все же Генри целых полтора часа тащится на север на арендованной машине, двигатель урчит, город позади исчезает из вида. Разумеется, лучше бы добраться на поезде, так дешевле, но Генри любит водить авто. Вернее, любит гул колес, неуклонное движение из одного пункта в другой, строгий маршрут, контроль. А больше всего ему нравится, что в дороге нельзя заняться ничем другим, кроме как ехать, держа руки на руле, устремив глаза вперед и слушая музыку в динамиках.
Он предлагал Мюриэль составить ему компанию, но в глубине души только порадовался, когда сестра заявила, что уже садится в поезд: Дэвид приехал еще утром и заберет ее со станции. Выходит, Генри прибудет последним.
Генри всегда последний.
Чем ближе он подъезжает к Ньюбергу, тем сиьнее меняется погода у него в голове. На горизонте предупреждающе грохочет, надвигается буря. Генри вдыхает поглубже, готовясь к действу под названием семейный обед Штраусов.
Он так и видит – вот они впятером сидят за столом, накрытым льняной скатертью, словно нелепая ашкеназская имитация картины Рокуэлла: суровая сцена, мать на одном конце стола, отец на другом, они с братом и сестрой между родителями.
Дэвид, неподвижный столп, с фирменным острым взглядом.
Мюриэль, торнадо, с шапкой непокорных кудрей, бурлящая энергией.
И Генри, призрак (у него даже имя неподходящее, совсем не еврейское, его назвали в честь старейшего друга отца, в знак уважения).
Брат с сестрой хотя бы выглядят частью семьи. Бросив взгляд на Штраусов, любой легко уловит схожие черты: щеки, очертания челюсти, брови. Дэвид носит очки в точности как отец – на кончике носа, верхняя часть оправы заслоняет глаза. Мюриэль улыбается совсем как мать, открыто и радостно, и смеется как она, звонким глубоким смехом, откидывая голову.
У Генри буйные кудри отца, серо-зеленые глаза матери, но где-то генетика дала сбой. Ему не хватает непоколебимости одного и радости другой. Разворот плеч, линия рта – неуловимые детали, из-за которых Генри смотрится чужаком.
Ужин пройдет примерно так: отец и брат станут разглагольствовать о медицине, мать и сестра – об искусстве, а Генри – бояться того момента, когда очередь дойдет до него. Мать станет громко переживать, отец найдет предлог высказаться о полной неопределенности в жизни Генри, Дэвид напомнит, что брату почти тридцать, а Мюриэль скажет, мол, пора взять на себя обязательства, будто родители не ей до сих пор оплачивают даже мобильный.
Генри сворачивает с автострады. В ушах у него гудит ветер.
Проезжает центр города, и в черепе отдается гром.
Статическая энергия напряжения.
Он знает, что опоздал.
Он всегда опаздывает.
Из-за этого они все время ссорятся. Раньше Генри думал, что он слишком неорганизованный, а потом понял – таким образом срабатывает инстинкт самосохранения, он намеренно, хоть и подсознательно, пытается отсрочить неизбежную, неприятную обязанность являться на семейный сбор. Сидеть зажатым между братом и сестрой за столом напротив родителей как преступник перед расстрельной командой.
Поэтому он и опаздывает. Когда отец открывает дверь, Генри готовится к упрекам, укоризненным взглядам, резким замечаниям о том, что его брат и сестра всегда приходят на пять минут раньше срока…
Но отец только улыбается.
– А вот и ты! – восклицает он, тепло взирая на сына.
И в глазах его клубится туман.
Возможно, этот ужин пройдет не так, как другие ужины Штраусов.
– Смотрите, кто пришел! – провозглашает отец, ведя Генри в кабинет.
– Давно не виделись, – замечает Дэвид, пожимая ему руку.
Хоть они и живут в одном городе – черт, даже на одной линии метро! – последний раз Генри с братом встречались здесь, в доме родителей, в первый вечер Хануки.
– Генри! – Мелькает шапка темных кудрей, и Мюриэль забрасывает руки ему на шею.
Она целует его в щеку, оставляя отпечаток коралловой помады, которую Генри чуть позже сотрет у зеркала в коридоре.
По пути между кабинетом и столовой никто не заводит речь о длине его волос (чересчур отросших) или свитере (поношенном, зато очень удобном).
Никто не говорит, что Генри слишком худой, или что ему нужно больше бывать на солнце, или что он выглядит усталым, хотя, как правило, за всеми этими речами следуют другие ехидные реплики – что управлять книжным магазином в Бруклине просто не может быть настолько тяжело!
Из кухни выглядывает мать, снимая с рук прихватки для горячего. Она обхватывает ладонями лицо Генри, улыбается и говорит, как рада, что он приехал.
Генри ей верит.
– За семью! – поднимает бокал отец, когда все усаживаются за стол. – Мы снова вместе!
Генри кажется, будто внезапно он очутился в другой версии своей жизни – не в будущем или прошлом, а где-то параллельно. Там, где сестра его уважает, брат не отводит взгляд, а родители им гордятся. Осуждение развеялось в воздухе как дым. Генри и не представлял, насколько измучен виной. И без ее веса он чувствует головокружительную легкость.
Эйфорию.
О Табите не упоминают совсем, как и о неудачном предложении руки и сердца, хотя, разумеется, весть об их разрыве дошла и сюда, о чем свидетельствует пустой стул, и никто даже не пытается притвориться, что это, мол, семейная традиция такая.
Месяц назад Генри по телефону сообщил Дэвиду о кольце, и брат рассеянно спросил – неужели он думает, что Табита действительно согласится?
Мюриэль Табиту никогда не любила, впрочем, сестре не нравился никто. Не потому, что все любовники Генри были слишком для него хороши, хотя она и это упоминала, а потому что считала их занудами. Мюриэль и о Генри думала так же.
«Дешевые сериальчики» – вот как она их порой называла. Не так тоскливо, как наблюдать на мониторе за медленно растущим процентом загрузки, но и ненамного лучше, чем старые набившие оскомину фильмы. Лишь Робби Мюриэль отчасти одобряла, и то, скорее всего, из-за скандала, который мог бы вспыхнуть, приведи Генри партнера к родителям. О Робби – что тот был не просто другом – знала только она. Единственный секрет, который ей удалось сохранить в тайне.
Ужин выбивает Генри из колеи.
Такой дружелюбный и интересующийся его делами Дэвид.
Очень добрая и внимательная Мюриэль.
Отец прислушивается к каждому слову Генри и проявляет искреннее любопытство.
Мать говорит, что гордится.
– Чем? – недоумевает Генри, а она смеется, словно это самый нелепый вопрос в мире.
– Тобой.
Отсутствие осуждения будоражит, и у Генри начинается своего рода экзистенциальное головокружение.
Он рассказывает о встрече с деканом Мелроузом. Сейчас Дэвид заявит, что Генри недостаточно компетентен, а отец станет задавать коварные вопросы. Мать промолчит, а Мюриэль начнет во всеуслышание возмущаться, что Генри ушел оттуда по веским причинам, и если вернется обратно, к чему тогда все это было?
Но ничего подобного не происходит.
– Хорошо, – кивает отец.
– Им страшно повезет, если ты согласишься, – поддакивает мать.
– Ты бы стал отличным преподавателем, – поддерживает Дэвид.
Одна лишь Мюриэль не согласна:
– Тебе это не подходит.
Но в ее словах не порицание, а яростное желание защитить.
После ужина все расходятся по своим углам. Мать на кухню, отец и брат в кабинет, сестра на свежий воздух: посмотреть на звезды, почувствовать твердую почву под ногами. Обычно это означает накуриться.
Генри отправляется на кухню помочь матери с мытьем посуды.
– Я мою, ты вытираешь, – улыбается она, вручая ему полотенце.
Они дружно работают, а потом мать откашливается, прочищая горло.
– Жаль, что вы расстались с Табитой, – негромко говорит она, словно понимает, что эта тема под запретом. – Жаль, что ты зря потратил на нее столько времени.
– Не зря, – отвечает Генри, хотя в глубине души согласен.
Мать ополаскивает тарелку.
– Я просто хочу, чтобы ты был счастлив. Ты этого заслуживаешь. – Ее глаза сияют, и, возможно, это не странный иней, а просто материнские слезы. – Ты сильный, умный и талантливый.
– Ну не знаю, – вздыхает Генри, – мне кажется, я всех разочаровал.
– Не говори так, – с искренней обидой увещевает мать и обхватывает его щеку ладонью. – Я люблю тебя, Генри, таким, какой ты есть. – Она роняет руку на тарелку. – Я сама тут закончу. Поищи сестру.
Генри точно знает, где околачивается Мюриэль.
Он выходит на заднее крыльцо. Мюриэль раскачивается на качелях и курит косяк, устремив мечтательный взгляд на деревья. Она любит сидеть в такой позе, словно ждет, что ее будут снимать. Генри фотографировал сестру пару раз, но кадры вышли слишком холодными и скованными. Заставьте-ка Мюриэль Штраус изобразить естественность.
Доски слегка скрипят у него под ногами, и сестра улыбается, не поднимая глаз.
– Генри…
– С чего ты взяла, что это я? – удивляется он, устраиваясь рядом на качелях.
– У тебя самый легкий шаг, – объясняет она, передавая ему косяк.
Генри глубоко затягивается, задерживает дым в легких, и тот ударяет в голову. Мягкий, размытый гул. Они передают друг другу сигарету, наблюдая за родителями в окно. Вернее, за родителями и Дэвидом, который ходит за отцом по пятам, подражая ему.
– Жуть какая, – бормочет Мюриэль.
– И правда страшновато.
– Почему мы так редко зависаем вместе? – хихикает она.
– Ты очень занята, – говорит он. Лучше так, чем напоминать ей, что они вовсе не друзья.
Мюриэль прислоняется головой к его плечу.
– Для тебя у меня всегда найдется время.
Они молча курят, пока не заканчиваются сигарета. Мать зовет их в дом, пора приступать к десерту. Генри поднимается. Голова его приятно кружится.
– Мятную пастилку? – предлагает Мюриэль, протягивая ему жестянку.
Генри открывает ее. Внутри – горстка маленьких розовых таблеток. «Зонтиков». Генри вспоминает проливной дождь, незнакомца, который остался совершенно сухим, и закрывает крышку.
– Спасибо, не надо.
Они возвращаются в дом к десерту и еще час болтают обо всем и ни о чем, и все так мило, приятно до зубовного скрежета, никаких ехидных подколок, мелких ссор, пассивной агрессии, и Генри кажется, что он все еще под кайфом, будто вдохнул травки и не выдохнул, легкие болят, но он счастлив.
Генри ставит на стол недопитый кофе и поднимается:
– Мне пора.
– Оставайся, – предлагает мать, и впервые за десять лет ему хочется согласиться.
Интересно, каково это – проснуться в теплой, непринужденной семейной атмосфере, но вечер выдался слишком уж идеальным. Словно пытаешься удержаться на тонкой грани между «отличной тусней» и ночью в обнимку с унитазом. Как-то не хочется нарушать равновесие.
– Нужно возвращаться, – вздыхает он, – магазин открывается в десять.
– Ты так много работаешь…
Ничего подобного мать раньше не говорила. Однако говорит сейчас.
Дэвид хватает его за плечо, смотрит милосердно затуманенным взглядом:
– Я люблю тебя, Генри. Рад, что у тебя все хорошо.
Мюриэль обвивает руками его талию:
– Не пропадай.
Отец выходит за ним к машине. Генри протягивает ему руку, а он обнимает его и говорит:
– Я так горжусь тобой, сынок.
В глубине души Генри хочется спросить, чем именно, огрызнуться, проверить чары на прочность, заставить отца усомниться, но Генри не может на это пойти. Он прекрасно знает, что все это ненастоящее, по крайней мере не совсем реальное, но ему плевать.
Это все равно офигенно.
XI