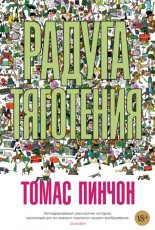Спящие красавицы Кинг Стивен

Не зная, кто это был, и, не переживая. Она поискала руку Магды и нашла ее.
— Давайте пойдем навстречу пению птиц.
Они пошли вперед, в темноту, обнаружив, что спускаются по пологому склону между деревьями.
И что это — лучик света? Солнце пробивает брешь в темном небе?
Когда они подошли к заросшим сорняками остаткам трейлера, лучик солнца превратился в пылающий рассвет. С этого места они увидели идущую вдаль грунтовую дорогу — все, что осталось от разрушенной временем Болл-Хилл-Роуд.
Глава 15
Оставив логово Старой Эсси позади, лиса нарезала петли по окрестным лесам, лишь к вечеру остановившись на отдых на влажной земле под заросшим сараем. Ей приснился сон, что мать принесла крысу, но та была сгнившей и отравленной, и она поняла, что её мать больна. Глаза у нее были красные, рот криво изогнут, а ее язык вывалился до земли. И в этот момент она вспомнила, что ее давно уже нет, его мать умерла много весен назад. Она видела, как та лежит в высокой траве, и на следующий день она все еще лежала на том же месте, но больше не была её матерью.
— В стенах яд, — сказала мертвая крыса во рту мертвой матери. — Она говорит, что земля соткана из наших тел. Я ей верю, но боль не отступает. Даже после смерти больно.
Облако мотыльков спустилось на мертвую мать лисы и мертвую крысу.
— Не останавливайся, малышка, — сказала мать. — У тебя есть работа.
Лиса рванула из сна и почувствовала резкую боль, порезавшись спиной о край чего-то, что ощущалось как гвоздь, стекло, или осколок доски. Был ранний вечер.
Неподалеку раздался громкий звук аварии: стук металла об дерево, выброс пара, рваный звук зарождающегося огня. Лиса метнулась из-под заброшенного сарая, впереди маячила трудная задача — перебежать через дорогу. За дорогой находился большой лес и, как она надеялась, более безопасные земли.
Рядом с дорогой стояла машина, которая и врезалась в дерево. Пылающая женщина тащила мужчину с переднего сиденья машины. Мужчина кричал. Пылающая женщина издавала собачье лаянье. Лиса понимала, что та говорит: я убью тебя, я убью тебя, я убью тебя. Волокна горящей паутины вспархивали с ее тела.
Это был момент истины. Одно из первых мест в своего рода личном уставе лисы занимал принцип: Не переходи дорогу в дневное время. Днем было больше машин, а автомобили невозможно запугать или предупредить, и уж тем более уничтожить. По мере того как они приближались, они издавали звуки, нарастающие, и если вы слушали (лиса всегда должна слушать), то звуки складывались в слова, и слова эти были: я хочу убить тебя, я хочу убить тебя, я хочу убить тебя. Еще теплые и кровоточащие останки животных, которые не услышали этих слов, служили лисе прекрасными обедами.
С другой стороны, лиса, которая хочет выжить, нуждается в сбалансированном подходе к опасности. Ей нужно было уравновесить угрозу от машины, которая только хотела убить тебя с женщиной, объятой пламенем, заявляющей, что она собирается убить тебя.
Лиса побежала. Когда она пробегала мимо нее, жар от пылающей женщины был на её мехе и в резаной ране на спине. Пылающая женщина начала стучать головой мужчины о тротуар, и рев ее гнева стал громче, но он исчез, когда лиса побежала по насыпи на противоположной стороне дороги.
В большом лесу она замедлила темп. Каждый раз, когда она отталкивалась правой задней лапой, рана в нижней части спины отдавалась болью. Настала ночь. Прошлогодние листья шелестели под подушечками лап лисы. Она остановилась, чтобы попить из ручья. Масляные пятна кружились по воде, но её мучила жажда, и она должна была взять то, что могла взять. Ястреб сидел на пне у ручья. У его когтей лежала мертвая белка.
— Дашь мне? — Спросила лис. — Я могла бы стать твоим другом.
— У лисы нет друзей, — сказал ястреб.
Это правда, но лиса никогда не признает этого вслух.
— Какой лжец сказал тебе это?
— С тебя льется кровь, — сказал ястреб.
Лисе было плевать на тон бодрящейся птицы. Но она подумала, что будет мудрее сменить тему.
— Что происходит? Что-то изменилось. Что случилось с миром?
— Там, дальше, появилось дерево. Новое дерево, дерево-мать. Оно появилось на рассвете. Очень красивое. Очень высокое. Я пытался взлететь на верхушку, но хотя я и смог её увидеть, она была высоко над моими крыльями.
Ярко-красный узел кишечника вывалился из тела белки, и ястреб его проглотил.
Ястреб наклонил голову. Через секунду за ноздрей лисы донесся запах: дым. Сейчас был сухой сезон. Если пылающая женщина пересекла дорогу, и свалилась в кустах, этого было достаточно, чтобы весь лес занялся пожаром.
Лисе нужно было шевелиться. Она вздохнула. Она боялась, и ей было больно — но её ум был все таким же ясным.
— Твои глаза будут изысканной едой для какого-нибудь счастливого зверя, — сказал ястреб и полетел, держа в когтях мертвую белку.
Не было ничего необычного в том, что Первый Четверговый Книжный Клуб начал отклоняться от текста книги того месяца — Искупление, Иэна Макьюэна. Роман повествовал о двух влюбленных, разъединенных друг с другом еще до того, как их отношения стали серьезными, из-за ложных обвинений имеющей богатое воображение молодой девушки по имени Брайони.
Дороти Харпер, семидесяти девяти лет, возглавлявшая эту группу почтенных дам, сказала, что не смогла бы простить Брайони за её преступление.
— Эта плутовка разрушила их жизни. Кого волнует, что она об этом горько пожалела?
— Говорят, мозг не в полной мере развит до тех пор, пока ты не станешь взрослой, — сказала Гейл Коллинз. — Брайони было всего двенадцать или тринадцать, когда она солгала. Ты не можешь винить ее.
Гейл держала бокал белого вина, обхватив обеими руками его чашу. Она сидела за столом у кухонного бара. Бланш Макинтайр, верная помощница начальника тюрьмы Коутс (по крайней мере, обычно верная), познакомилась с Гейл на курсах подготовки секретарей тридцать лет назад. Маргарет О'Доннелл, четвертый член Первого Четвергового Книжного Клуба, была сестрой Гейл, и единственной женщиной, известной Бланш, которая имела портфель акций.
— Кто тебе это сказал? — Спросила Дороти. — Твой мозг?
— Ученые, — ответила Гейл.
— Фу-фу! — Дороти махнула рукой, как будто отгоняя дурной запах. (Дороти была единственной женщиной, которую знала Бланш, кто все еще говорил такие вещи, как Фу-фу.)
— Это правда. — Бланш слышала, как доктор Норкросс из тюрьмы говорил почти то же самое, что человеческий мозг не был полностью развит, пока человеку не исполнится двадцать. Это был такой уж сюрприз? Если вы когда-нибудь знали подростка — или, если уж на то пошло, были им — разве это не было аксиомой? Подростки не осознают, что они делают, особенно мужчины. А девушка двенадцати лет? Забудьте об этом.
Дороти сидела в кресле у окна. Это была ее квартира, аккуратный блок на втором этаже на Маллоу-стрит с плюшевыми, цвета сланца, коврами и свежевыкрашенными бежевыми стенами. Из окна открывался вид на лес, который прилегал к зданию. Из нынешних волнений в мире, единственный видимым знаком был огонь — как горящая спичка на таком расстоянии — распространявшийся где-то на западе, по направлению Болл-Холл и Шоссе № 17.
— Это было очень жестоко. Мне плевать, насколько маленьким был ее мозг.
Бланш и Маргарет сидели на диване. На кофейном столике стояла открытая бутылка Шабли[171] и ожидающая открытия бутылка Пино.[172] Также там стояла тарелка с печеньем, которое испекла Дороти, и три бутылочки с таблетками, которые принесла Маргарет.
— А мне понравилось, — сказала Маргарет. — Мне очень понравилась вся книга. Я думаю, что все подробности её работы медсестрой в военном госпитале просто удивительные. И все, что касается решающего сражения, и Франции и, поездки к побережью, вау! Настоящее путешествие! Эпичное путешествие, можно сказать! И это так романтично! Это довольно сильная штука. — Она покачала головой и рассмеялась.
Бланш повернула голову, чтобы посмотреть на нее, раздраженная, несмотря на то, что Маргарет была на ее стороне в симпатии к Искуплению. Маргарет работала на железной дороге до тех пор, пока они не отвалили ей огромную кучу деньжищ и с почетом проводили на досрочную пенсию — некоторые люди были чертовски везучими. Она была ужасной хохотушкой, эта Маргарет О'Доннелл, особенно для тех, кому было за семьдесят, и повернутой на керамических животных, десятками которых были завалены ее подоконники. Последний раз она выбрала роман Хемингуэя об идиоте, который не хотел упускать рыбу,[173] книгу, который вывел Бланш из себя, потому что это была, давайте признаем, просто чертова рыба! Маргарет тоже думала, что это романтично. И как такая женщина могла превратить свой ранний пенсионный пакет в портфель акций? Это была тайна.
Сейчас же Бланш сказала:
— Эй, Мидж. Мы взрослые женщины. Давай не будем говорить глупости насчет секса.
— О-о, дело не в этом. Это великая книга. Нам так с ней повезло. — Маргарет потерла лоб. Она посмотрела на Бланш, поверх ее очков в роговой оправе. — Было бы ужасно умереть, читая плохую книгу?
— Полагаю, — ответила Бланш. — Но кто сказал, что происходящее — смерть? Кто сказал, что мы умрем?
Встреча была запланирована на этот вечер задолго до пришествия Авроры — они никогда не пропускали первый четверг — и четыре старых подруги провели большую часть дня, отправляя текстовые сообщения, как подростки, туда и обратно о том, следует ли, учитывая обстоятельства, все отменить. Ни у кого не хватило духа отказаться, хотя мысли были. Первый четверг был первым четвергом. Дороти написала, что если это будет их последний вечер, то провести его в обществе своих старых друзей будет самое оно. Гейл и Маргарет проголосовали за то же самое, и Бланш тоже, хотя чувствовала себя немного виноватой, что оставила начальника Коутс на произвол судьбы, но она имела на это полное право, так как за сверхурочное время государство ей не доплачивало. Кроме того, Бланш хотела поговорить о книге. Как и Дороти, она была поражена злым поступком маленькой девочки Брайони, а также тем, как злобный ребенок, повзрослев, превратился в совершенно другого человека.
После того, как они расположились в гостиной Дороти, Маргарет вытащила на свет бутылочки с Лоразепамом.[174] Бутылочкам было пару лет. Когда её муж скончался, врач дал их ей «только для того, чтобы помочь тебе справиться с утратой, Мидж». Маргарет никогда не употребляла таблетки; хотя ей было тяжело потерять мужа, ее нервная система была в порядке, может быть, стала даже лучше, потому что, как только он умер, ей больше не пришлось беспокоиться о том, что он умрет от инсульта, расчищая от снега подъездную дорожку, или разобьется, упав с лестницы, на которую залазил, чтобы срезать ветви деревьев, которые близко подходили к линии электропередач. Но поскольку страховка покрывала расходы, она все равно выписала рецепт. Ты никогда не знаешь, что может пригодиться, таков был ее девиз. Или когда. Теперь ей казалось, что время когда пришло.
— Лучше сделать это вместе, вот что я подумала, — сказала Маргарет. — Вместе не страшно.
Трое остальных, без каких-либо существенных возражений, согласились, что это была хорошая идея. Дороти Харпер также была вдовой. Муж Гейл находился в доме престарелых и в эти дни не узнавал даже собственных детей. Говоря о детях членов Первого Четвергового, все они были взрослыми людьми среднего возраста, живущими в местах, удаленных от Аппалачей, и никакое воссоединение в последнюю минуту не было осуществимо. Бланш, единственный человек из группы, не вышедший на пенсию, никогда не выходила замуж и вообще не имела детей, что, вероятно, было к лучшему, учитывая, как все обернулось.
Вопрос Бланш заставил смех смолкнуть.
— Может быть, мы проснемся бабочками, — сказала Гейл. — Коконы, которые я видела в новостях, немного напоминают мне коконы, которые делают гусеницы.
— Пауки также заворачивают в них мух. Я думаю, что коконы больше похожи на паутину, чем на какую-либо куколку, — сказала Маргарет.
— Я не рассчитывала бы на что-нибудь хорошее. — Полный бокал Бланш в какой-то момент превратился в пустой бокал.
— Я надеюсь увидеть ангела, — сказала Дороти.
Остальные трое посмотрели на нее. Она, казалось, не шутит. Ее морщинистый подбородок и рот стянулись в крошечный кулак.
— Я ведь была очень хорошей, — добавила она. — Пыталась быть хорошей. Хорошей женой. Хорошей матерью. Хорошим другом. Находясь на пенсии, помогала волонтерам. Для этого, каждый понедельник, я ездила в Кофлин на заседание Комитета.
— Мы это знаем, — сказала Маргарет, и протянула руку в воздух в сторону Дороти, которая была само воплощение старой доброй души. Гейл повторила жест, и Бланш тоже.
Они подошли к бутылочке с таблетками, и каждая женщина взяла по две и проглотила их. После этого акта причастия четыре подруги сели и посмотрели друг на друга.
— Что нам теперь делать? — Спросила Гейл. — Просто ждать?
— Плакать, — сказала Маргарет, и захихикала, делая вид, что вытирает глаза костяшками пальцев. — Плакать, плакать, плакать!
— Передайте печенье, — сказал Дороти. — Я прекращаю свою диету.
— Я хочу вернуться к книге, — сказала Бланш. — Я хочу поговорить о том, как изменилась Брайони. Она из гусеницы стала бабочкой. Я думаю, это прекрасно. Это напомнило мне некоторых женщин в тюрьме.
Гейл взяла Пино с кофейного столика. Она развернула фольгу и вытянула штопором пробку.
Пока она разливала вино по бокалам, Бланш продолжала:
— Вы знаете, у них случаются рецидивы — я имею в виду заключенных — нарушение условно-досрочного освобождения, возвращение к плохим привычкам и так далее — но некоторые из них меняются. Некоторые из них начинают новую жизнь. Как Брайони. Разве это не вдохновляет?
— Да, — сказала Гейл. Она подняла бокал. — За возвращение к новой жизни.
Фрэнк и Элейн задержались в дверях комнаты Наны. Было девять вечера. Они положили ее на кровать, откинув одеяло. На стене висел плакат с марширующим в парадной форме оркестром и доска, на которой были прикреплены лучшие рисунки Наны, изображающие персонажи комиксов Манга.[175] Ветряной колокольчик[176] из цветных трубочек и стеклянных бусин свисал с потолка. Элейн настаивала на аккуратности, чтобы на полу не было одежды или игрушек. Жалюзи были закрыты. Голову Наны покрывал громоздкий нарост. Наросты вокруг её рук, были похожими, но меньше. Варежки без большого пальца.
Хотя ни один из них не сказал ничего, после минуты молчания Фрэнк понял, что они оба боялись выключить свет.
— Давай вернемся и проверим ее через некоторое время. — По привычке Фрэнк прошептал это Элейн, как и во многих случаях, когда они отчаянно хотели, чтобы Нана не проснулась, а не наоборот.
Элейн кивнула. Одновременно они отступили от открытой двери дочери и спустились вниз на кухню.
Пока Элейн сидела за столом, Фрэнк заправил кофеварку, насыпав кофе и заполнив емкость водой. Это было то, что он делал до этого тысячу раз, хотя и не в столь поздний час. Нормальность действия успокоила его.
Она подумала примерно тоже.
— Это как в старые времена, не так ли? Больной ребенок наверху, мы здесь внизу, интересно, все ли мы делаем правильно.
Фрэнк нажал кнопку включения. Элейн положила голову на руки.
— Ты должна сесть, — мягко сказал он, и занял стул напротив нее.
Она кивнула и выпрямилась. Ее челка прилипла ко лбу, на её лице был вопросительный взгляд типа ну-и-что-теперь? Взгляд того, кто недавно получил удар по голове. Он не думал, что выглядит лучше.
— В любом случае, я знаю, что ты имеешь в виду, — сказал Фрэнк. — Я помню. Задаюсь вопросом, как мы когда-то могли обманывать себя, думая, что могли бы в первую очередь заботиться о других людях.
Это принесло светлую улыбку на лицо Элейн. Что бы ни случилось с ними сейчас, они пережили младенчество вместе — не малое достижение.
Кофеварка просигналила. На мгновение показалось, что наступила тишина, но внезапно Фрэнк услышал шум снаружи. Кто-то кричал. Затем полицейские сирены, визг сигнализации. Он инстинктивно наклонил ухо к лестнице, прислушиваясь к Нане.
Он ничего не услышал, конечно же, он не услышал; она больше не была ребенком, и это были не старые времена, ничего не было как раньше. По тому, как сегодня вечером спала Нана, не невозможно было представить, что даже взлет ракеты может ее разбудить, заставить ее открыть глаза под тем слоем белого волокна.
Элейн наклонила голову к лестнице, так же как и он.
— Что это, Фрэнк?
— Не знаю. — Он оторвался от ее взгляда. — Мы не должны были покидать больницу. — Подразумевая, что Элейн заставила их уйти, не очень веря в сказанное, но нужно было хоть как-то разделить вину, чтобы удалить ту грязь, которую он чувствовал за собой. То, что он знал, что привело к этому, точно знал, заставляло его ненавидеть себя. Но он не думал, что может остановиться. — Надо было остаться. Нане нужен доктор.
— Он всем нужен, Фрэнк. Скоро мне тоже понадобится доктор. — Она налила себе чашку кофе. Казалось, что прошли годы, пока она добавляла молоко и Экуаль.[177] Он уже подумал, что обсуждение закончено, но она сказала: — Ты должен быть благодарным, что я нас увела.
— Что?
— Это спасло тебя от того, что ты сделал бы, если бы мы не ушли.
— О чем ты говоришь?
Но он, конечно же, знал. У каждого брака был свой язык, свои кодовые слова, построенные на взаимном опыте. Два из них она сейчас и произнесла:
— Фриц Машаум.
При каждом повороте ложки, раздавались щелчки по керамической чашке — щелк, щелк, щелк. Словно кто-то набирал комбинацию на замке сейфа.
Фриц Машаум.
Имя с дурной репутацией, которое Фрэнк хотел бы забыть, но позволила бы ему Элейн? Нет. Кричать на учителя Наны было плохо, знаменитый удар в стену был ещё хуже, но инцидент с Фрицем Машаумом был хуже всего. Фриц Машаум был мертвой крысой, которой она махала ему перед лицом всякий раз, когда чувствовала себя загнанной в угол, как сделала это сегодня вечером. Если бы она только захотела увидеть, что они были в одном углу, на одной и той же стороне, на стороне Наны, но нет. Вместо этого ей надо было вспомнить Фрица Машаума. Она вновь помахала перед его лицом мертвой крысой.
Фрэнк охотился за лисой, обычное дело в лесистой области Трехокружья. Кто-то увидел, как одна бегала по полям к югу от Шоссе № 17, недалеко от женской тюрьмы. Её язык свисал изо рта, и звонивший предположил, что она должно быть бешеная. У Фрэнка были сомнения по этому поводу, но он серьезно относился к звонкам о бешенстве. Любой уважающий себя офицер службы контроля за животными, так бы поступил. Он выехал на своей развалюхе в место предполагаемого нахождения лисы, и потратил полтора часа на бредовые поиски. Он ничего не нашел, кроме ржавого скелета Олдсмобиля 1982 года с парой истлевших трусов, привязанных к антенне.
Возвращаясь к месту, где он припарковал свой фургон, он срезал дорогу через чью-то огражденную собственность. Забор представлял собой смесь хлама: гниющих досок, колпаков от авто и гофрированного листового металла, так что он скорее привлекал к себе внимание, чем препятствовал злоумышленникам. Через щель в заборе Фрэнк пробрался к обшарпанному белому дому с убогим двориком позади него. Старая покрышка на растянутой веревке свисала с дуба, черные лохмотья, окруженные жужжащими насекомыми, были свалены у основания дерева. Ящик из-под молока, полный металлолома, стоял охранником у ступеней крыльца, неосторожно опрокинутая на бок бочка из-под масла (предположительно пустая) прилегла отдохнуть рядом с ним, как и шляпа на верхушке не контролировано растущей бугенвилии,[178] нависающей над крыльцом и частично его скрывающей. Осколки стекла из разбитого окна второго этажа были разбросаны по покрытой только рубероидом крыше крыльца, а совершенно новый, сияющий воском, пикап Тойота, синий, как Тихий океан, был припаркован на подъездной дорожке. Вокруг его задних шин валялись дюжина или около того отстрелянных гильз от дробовика, когда-то ярко-красных, теперь выцветших до бледно-розового цвета, как будто они находились там длительное время.
Это было такое идеальное сочетание — обшарпанный дом и блестящий пикап, что Фрэнк чуть не рассмеялся в голос. Он так и шел себе дальше, улыбаясь и размышляя над увиденным, поэтому потребовалось несколько секунд, чтобы понять то, что не имело никакого здравого смысла: черные лохмотья шевелятся. И двигаются.
Фрэнк сделал несколько шагов назад, к дыре в разномастном заборе. Он осмотрел лохмотья. Они шевелились.
Все, что было дальше, как ему казалось, случилось словно во сне. Вот он проскальзывает через дыру в заборе, потом идет по двору, и вот он моментально, словно телепортировался, преодолевает расстояние, отделяющее его от черных лохмотьев, лежащих под деревом.
Это была собака, хотя Фрэнк не смог определить, какой породы — среднего размера, может быть, овчарка, может быть, молодой лабрадор, может быть, просто деревенская дворняга. Черный мех свисал лохмотьями и был полон блох. Там, где меха не было, были инфицированные участки кожи. Единственный видящий глаз животного представлял собой маленькую белую лужицу, на неопределенной форме морде животного. Особенно ярко смотрелись четыре конечности собаки, все они были кривыми, все явно были сломанными. Гротескно — как она могла убежать? — смотрелась цепь, обвязанная петлей вокруг шеи, и другим концом привязанная к дереву. Собачьи бока поднимались и падали от частого дыхания.
— Ты нарушил границы частной собственности! — Прозвучал голос позади Фрэнка. — Парень, у меня оружие!
Фрэнк поднял руки и обернулся, чтобы увидеть Фрица Машаума.
Маленький человек, со своей строгой рыжей бородой походивший на гнома, носил джинсы и выцветшую футболку.
— Фрэнк? — В голосе Фрица звучало недоумение.
Они знали друг друга, хоть и не очень хорошо, по Скрипучему колесу. Фрэнк вспомнил, что Фриц был механиком, и некоторые люди говорили, что если возникнет нужда, ты можешь купить у него пистолет. Правда это или нет, Фрэнк сказать не мог, но они несколько месяцев назад сошлись за одним столиком: сидели, пили пиво и вместе смотрели матч колледжских футбольных команд. Фриц — этот псов-мучающий монстр — выразил свое мнение о достоинствах играющих команд; он не думал, что у Альпинистов был талант, который они могли конвертировать в какой-либо устойчивый успех. Фрэнк был счастлив с этим согласиться; он ничего не понимал в спорте. К концу игры, как только Машаум накачался пивом, он бросил обсуждать достоинства играющих и попытался вовлечь Фрэнка в разговор на предмет евреев и федерального правительства.
— У этих курносых все схвачено, ты понимаешь, о чем я? — Фриц наклонился вперед. — Я знаю, о чем говорю, мои предки приехали из Германии. Так что я точно знаю.
Это был сигналом для Фрэнка, что пора откланяться.
Теперь Фриц опустил винтовку, из которой целился.
— Что ты здесь делаешь? Пришел купить пистолет? Я могу продать тебе хороший, с длинным стволом или короткоствольный. Эй, хочешь пива?
Хотя Фрэнк ничего не сказал, какое-то сообщение, должно быть, передалось языком его тела, потому что Фриц добавил начальствующим тоном:
— Что собачка беспокоит? Не волнуйся. Эта сука болезненно тяпнула моего неффа.[179]
— Кого тяпнула?
— Неффа. Племянника. — Фриц покачал головой. — Некоторые слова из прошлой жизни, они всплывают. Ты удивишься, как…
И это было последнее, что произнес Машаум.
Когда Фрэнк закончил, приклад винтовки, которую он отнял у ублюдка и сделал им большую часть работы, был разбит и замазан кровью. Другой человек корчился в грязи, держась за промежность, куда Фрэнк неоднократно погружал приклад винтовки. Его глаза были похоронены под отеками, и он плевался кровью при каждом судорожном выдохе, который он с трудом вымучивал из-за ребер, которые Фрэнк наверняка сломал. Возможность того, что Фриц в ближайшее время умрет от избиения, казалось, не была такой уж маловероятной.
Может быть, он не травмировал Фрица Машаума так сильно, как ему показалось, хотя он убеждал себя в обратном и в течение нескольких недель следил за разделом некрологов. В конце концов, никто не пришел его арестовывать. Фрэнк не чувствовал себя виноватым. Это была маленькая собака, и маленькие собаки не могли дать сдачи. Не было никаких оправданий для издевательств человека над таким животным, как это, независимо от того, насколько оно могло ему досадить. Да, некоторые собаки были способны убить человека. Однако ни одна собака не сделала бы человеку того, что сделал Фриц Машаум с тем жалким существом, прикованным к стволу дерева. Что собака должна была понять из этого жестокого обращения? Ничего, она ничему не могла научиться. Фрэнк это понимал, и в душе чувствовал удовлетворение от того, что сделал с Фрицем Машаумом.
Что касается жены Машаума, то откуда Фрэнк мог знать, что у него есть жена? Однако сейчас он знал. О, да. Элейн все для этого сделала.
— Его жена? — Спросил Фрэнк. — Ты её имеешь в виду? Меня не удивляет, что она оказалась в приюте. Фриц Машаум еще тот сукин сын.
Когда по городу пошли первые разговоры, Элейн спросила, правда ли то, что он избил Фрица Машаума. Он совершил ошибку, рассказав ей правду, и она никогда не позволяла ему забыть об этом.
Элейн отложила ложку и хлебнула кофе.
— Тут и говорить не о чем.
— Я надеюсь, что она наконец-то бросила его, — сказал Фрэнк. — Не то, чтобы я готов был принять ответственность за это на себя.
— Конечно, это не твоя вина, что ее муж, как только выздоровел достаточно, чтобы пойти домой из больницы после травм, которые ты ему нанес, избил ее до полусмерти?
— Нет, абсолютно нет. Лично я никогда не поднимал на нее руку. Мы это уже обсуждали.
— Угу. И ребенок, которого она потеряла, — сказала Элейн — это тоже не твоя ответственность, ведь верно?
Фрэнк скрипнул зубами. Он не знал ни о каком ребенке. Это был первый раз, когда Элейн упомянула о нем. Она ждала подходящего момента, чтобы осадить его. Когда жена, когда подруга.
— Беременная, да? И потеряла ребенка. Боже, это жесть.
Элейн устремила на него непонимающий взгляд.
— Вот как ты это называешь? Жесть? Твое сострадание меня бесит. Ничего бы не случилось, если бы ты позвонил в полицию. Ничего, Фрэнк. Он отправился бы в тюрьму, а Кэнди Машаум сохранила бы своего ребенка.
Наезды были специальностью Элейн. Но если бы она увидела собаку — что с ней сделал Фриц — она должна была бы дважды подумать, прежде чем открывать рот. Машаумам этого мира приходится платить. То же было и с доктором Фликингером…
Хорошая идея.
— Почему бы мне не сходить к Мерседесу? Он же доктор.
— Ты имеешь в виду парня, который сбил кота того старика?
— Да. Ему должно быть очень стыдно за то, что он так быстро ездил. Уверен, он поможет.
— Ты слышал, что я сказала, Фрэнк? Ты кончишь сумасшедшим домом!
— Элейн, забудь о Фрице Машауме и забудь о его жене. Забудь обо мне. Думай о Нане. Может, этот Док поможет.
Фликингер может даже почувствовать себя обязанным Фрэнку, за то, что тот разбил его машину вместо того, чтобы пробраться внутрь и избить его, такого хорошего врача.
Сирены не смолкали. По улице, ревя двигателем, проехал мотоцикл.
— Фрэнк, я бы могла в это поверить. — Ее речь, размеренная и спокойная, была призвана нести искренность, но это была та же самая модуляция голоса, которую Элейн выбирала, когда объясняла Нане, насколько важно наводить порядок в ящиках для белья. — Потому что я люблю тебя. Но я знаю тебя. Мы были вместе десять лет. Ты избил человека до полусмерти за собаку. Бог знает, как ты поступишь с этим Фликмуллером, или как там его зовут.
— Фликингер. Его зовут Гарт Фликингер. Доктор Гарт Фликингер. — Действительно, как она могла быть такой тупой? Разве их почти не затоптали — или не расстреляли! — при попытке показать свою дочь врачу?
Она допила остаток кофе.
— Просто будь здесь со своей дочерью. Не пытайся исправить то, чего ты даже не понимаешь.
Печальная мысль коснулась Фрэнка Джиари: все было бы гораздо проще, если бы Элейн тоже заснула. Но пока она бодрствовала. Как и он.
— Ты ошибаешься, — сказал он.
Она прищурилась.
— Что? Что ты сказал?
— Ты думаешь, что всегда права. Иногда да, но не в этот раз.
— Спасибо тебе за это чудесное понимание. Я иду наверх, чтобы посидеть с Наной. Пойдем со мной, если хочешь, но если пойдешь за этим человеком, если пойдешь куда-нибудь еще, между нами все кончено.
Фрэнк улыбнулся. Он чувствовал себя хорошо. Было такое облегчение чувствовать себя хорошо.
— Между нами и так уже все кончено.
Она смотрела на него.
— Нана, вот что для меня сейчас важно. Только она.
Фрэнк остановился по дороге к своему фургону, чтобы посмотреть на поленницу у заднего крыльца, ему нравилось колоть дрова. Половина поленницы осталась от прошлой зимы. Маленький Йотул[180] на кухне в холодную погоду делал это место домашним и гостеприимным. Нана любила сидеть рядом с печкой, делая домашнее задание. Когда она наклонялась к книгам, и волосы полностью закрывали ее лицо, она была похожа для Фрэнка, на маленькую девочку из девятнадцатого века, когда все было намного проще. Тогда ты говорил женщине, что собираешься сделать, и она либо соглашалась, либо держала рот на замке. Он вспомнил то, что сказал его отец его матери, когда она протестовала против покупки новой газонокосилки: Ты поддерживаешь порядок в доме. Я зарабатываю деньги и плачу по счетам. Если у тебя с этим есть проблемы, говори.
Проблем у неё не было. Да, у них был хороший брак. Почти пятьдесят лет. Никаких психологов, никаких разводов, никаких адвокатов.
На поленницу был накинут большой брезентовый холст, холст поменьше прикрывал колоду. Он поднял тот, что поменьше, и потянул за ручку топора, высвободив его из плотной древесины. Фликингер не казался большим, но никогда не помешает быть ко всему готовым.
Дороти отошла первой. Голова повернута на бок, рот открыт, зубные протезы слегка раздвинуты и заляпаны крошками печенья, она храпела. Оставшиеся трое наблюдали, как белые волокна выплывают и сплетаются, скручиваются и плывут дальше, выплывают и опадают на ее кожу. Образуя слоя, как миниатюрные хлопковые повязки, сплетаясь в крестообразные узоры.
— Я думаю…, - начала Маргарет, но о чем бы она ни думала, она, похоже, не могла объяснить это словами.
— Думаешь, она страдает? — Спросила Бланш. — Как думаешь, это больно?
Хотя она еле произносила слова, она сама не испытывала никакой боли.
— Нет. — Гейл поднялась на ноги, ее библиотечная копия Искупления упала на пол с шелестом бумажных страниц и шорохом пластиковой обложки. Она, держась за мебель, пересекала комнату по направлению к Дороти.
Бланш была поражена этим усилием. Вместе с таблетками они оприходовали бутылку Пино, и Гейл выпила больше всех. В тюрьме работала офицер, которая участвовала в соревнованиях по армрестлингу. Бланш задавалась вопросом, был ли такой конкурс: пьешь вино, принимаешь наркотики, после чего должен идти ровно, не натыкаясь на мебель и не упираясь в стены. Гейл могла бы взять приз!
Бланш хотела высказать все это Гейл, но обнаружила, что единственное, что она может сказать, это:
— Хорошо-движешься-Гейл.
Она смотрела, как Гейл наклоняется к уху Дороти, которое уже покрылось тонким слоем паутины.
— Дороти? Ты нас слышишь? Встретимся на…, Гейл запнулась.
— Какое место мы знаем на небесах, Мидж? Где она должна нас встретить?
Только Маргарет не ответила. Не смогла. Волокна кружились и сплетались вокруг её головы.
Глаза Бланш, которые, как казалось, двигались сами по себе, нашли окно и огонь на западе. Теперь он больше не походил на горящую спичку, скорее на голову какой-то огненной птицы. Оставались мужчины, которые могли бороться с огнем, но, возможно, они были слишком заняты заботой о своих женщинах, чтобы волноваться за такие мелочи. Как звали ту птицу, которая превратилась в огонь, возрожденную, волшебную птицу, страшную, ужасную?[181] Она не знала. Все, что она могла вспомнить, это старый японский фильм про монстра, который назывался Радон.[182] Она смотрела его в детстве, и гигантская птица в нем сильно её пугала. Теперь она не боялась, просто… ей было интересно.
— Мы потеряли сестру, — объявила Гейл. Она упала на ковер и улеглась у ног Дороти.
— Она просто спит, — сказала Бланш. — Ты не потеряла ее, дорогая.
Гейл кивнула так сильно, что волосы упали ей на глаза.
— Да, да. Ты права, Бланш. Мы просто должны найти друг друга. Просто ищите друг друга на небесах. Или… знаешь… давай свяжемся по факсу. — Последнее выражение заставило ее смеяться.
Бланш была последней. Она сползла, чтобы быть рядом с Гейл, спавшей под слоями паутины.
— У меня была любовь, — сказала ей Бланш. — Спорим, вы этого не знали. Мы сохранили её… как любят говорить девочки в тюрьме… на низовом уровне. Пришлось.
Волокна, которые покрывали рот ее подруги, перемешались, когда Гейл выдохнула. Одна тонкая нить кокетливо полетела в направлении Бланш.
— Я думаю, он тоже любил меня, но… — Это было трудно объяснить. Она была молода. Когда ты был молод, твой мозг не был полностью развит. Вы ничего не знали о мужчинах. Это было грустно. Он был женат. Она ждала. Они постарели. Бланш оставила самую сладкую часть своей души ради мужчины. Он давал красивые обещания и не сдержал ни одного из них. Какая пустая трата.
— Это может быть лучшее, что когда-либо случалось. — Если бы Гейл не спала, то эти слова Бланш были бы слишком неразборчивыми, чтобы их понять. Чувства покинули язык Бланш. — Потому что, по крайней мере, сейчас, в конце, мы все вместе.
И если было что-то еще, где-то еще…
Прежде чем Бланш Макинтайр смогла закончить мысль, она отъехала.
Гарт Фликингер не удивился, увидев Фрэнка.
После просмотра Америка Ньюс в течение последних двенадцати часов или около того, и курения всего, что было в доме, вероятно, ничего не могло удивить, разве что его питомец — игуана (Гиллис) заговорил бы. Если бы даже сам сэр Гарольд Гиллис, этот давно умерший пионер пластической хирургии, возник из ниоткуда, блуждая по кухне с печеньем Поп-Тартс[183] в руках, это вряд ли превысило границы феномена, который Гарт в тот день видел по телевизору.
Шок насилия, вспыхнувшего в трейлере Трумэна Мейвейзера в то время, когда Гарт находился в сортире, был лишь прологом к тому, что он поглощал в течение нескольких часов, просто сидя на диване. Бунты у Белого дома, женщина, откусывающая нос представителю религиозного культа, пропавший в море 767, окровавленные санитары из дома престарелых, пожилые женщины, закутанные в паутину прикованные наручниками к своим каталкам, пожары в Мельбурне, пожары в Маниле и пожары в Гонолулу. Что-то очень, блядь, плохое произошло в пустыне около Рино,[184] где, очевидно, существовал какой-то секретный правительственный ядерный объект; ученые сообщали о крутившихся радиометрах[185] и дёргающихся вверх и вниз стрелках сейсмографов, фиксирующих продолжающиеся взрывы. Везде женщины засыпали и выращивали коконы, и повсеместно их будили тупицы. Замечательный репортер Америка Ньюс Микаэла, с первоклассной пластикой носа, исчезла в середине дня, и они заменили её заикающимся стажером с кольцом в губе. Это напомнило Гарту о граффити, который он видел на стене какого-то мужского туалета: БЕЗ гравитации земля просто отстой.
Все отстой: вход и выход, туда-сюда, обратно, все вокруг. Даже метамфетамин не помогал. Ну, немного помогал, но не настолько, насколько было нужно. К тому времени, как дверной звонок начал звенеть — дин-дон, дин-дон, прозвенели колокольчики — Гарт чувствовал себя вызывающе трезвым. Он не испытывал особого желания открывать, не сегодня вечером. Он также не чувствовал никакой необходимости вставать, когда его гость отпустил звонок и начал стучать. Потом молотить. Очень энергично!
Стучать перестали. Гарт успел подумать, что его нежеланный гость сдался, пока не заработал топор. Рубя и раскалывая. Дверь содрогнулась внутрь, вырвалась из замка, и человек, который был здесь раньше, вошел, в одной руке держа топор. Гарт предположил, что этот парень здесь, чтобы убить его — но не чувствовал по этому поводу никакого страха. Было бы больно, но, он надеялся, что не очень долго.
Пластическая хирургия была объектом шуток для многих людей. Но только не для Гарта. Что смешного в том, что у тебя есть желание улучшить свое лицо, свое тело, свою кожу? Если только ты не был жестоким или глупым, в этом не было ничего смешного. Только сейчас, как представляется, объектом шуток могли стать все они. Какова была бы жизнь только с одной половиной человечества? Жестокая и глупая жизнь. Гарт сразу это увидел. Красивые женщины часто приезжали в его офис с фотографиями других красивых женщин, и они спрашивали «Можете ли вы сделать меня такой же, как она?» И за многими красивыми женщинами, которые хотели изменить свои идеальные лица, стояли подлые лохи, которые никогда не были довольны. Гарт не хотел оставаться один в мире злобных лохов, потому что их было так много.
— Не церемонитесь, заходите. Я смотрел новости. Вы случайно не видели ту часть, где женщина откусила мужчине нос на лице, а?
— Видел, — сказал Фрэнк.
— Я отлично справляюсь с носами, и мне нравятся трудности, но если работать не с чем, то тут ничего и не сделаешь.
Фрэнк стоял у угла дивана, в нескольких футах от Гарта. Топор был небольшим, но все же это был топор.
— Вы собираетесь меня убить?
— Что? Нет. Я пришел…
Они оба отвлеклись на плоский экран, где новостная камера показала вид на горящий Эппл Стор.[186] На тротуаре перед магазином кружился в полубессознательном состоянии человек с почерневшим от огня лицом, тлеющая фиолетовая сумка висела на его плече. Символ Эппл над входом в магазин внезапно освободился от креплений и упал на землю.
Смена декораций привела зрителей обратно к Джорджу Алдерсону. Цвет лица Джорджа был серым, словно оно долго находилось под разящим ветром, его голос был хриплым. Он вел новости целый день.
— Я только что получил звонок от моего — гм, сына. Он пошел ко мне домой, чтобы проведать мою жену. Мы с Шарон поженились в… — Ведущий уронил голову и дернул узел своего розового галстука. На галстуке красовалось пятно от кофе. Гарт считал это самым тревожным сигналом беспрецедентного характера сложившейся ситуации — …сорок два года назад. Тимоти, мой сын, он… он говорит… — Джордж Алдерсон начал рыдать. Фрэнк взял пульт с журнального столика и выключил телевизор.
— Ваш разум достаточно ясен, чтобы понять, что происходит, доктор Фликингер? — Фрэнк указал на трубку на столе.
— Конечно. — Гарт почувствовал укол любопытства. — Вы здесь не для того, чтобы убить меня?
Фрэнк ущипнул переносицу. У Гарта сложилось впечатление, что он наблюдает за внешним выражением серьезного внутреннего монолога.
— Я здесь, чтобы попросить об одолжении. Вы делаете это, и мы в расчете. Это касается моей дочери. Она единственная белая полоса в моей жизни. И теперь у нее это. Аврора. Мне нужно, чтобы вы пошли со мной, осмотрели её, и… — его рот открылся и закрылся несколько раз, но слов больше не было.
В голову Гарта пришла мысль о собственной дочери — Кэти.
— Не говорите ничего больше, — сказал Гарт, разрезая мысль и позволяя ей трепетать, словно ленточки под жестким ветром.