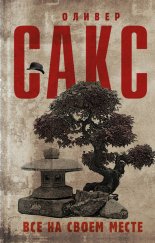Кроха Кэри Эдвард

Незначительные происшествия, связанные с событием национального значения
Событию предшествовал утренний перезвон колоколов Королевской часовни, церкви Сен-Кир и всех прочих церквей Версаля, за которым последовало появление принцессы де Ламбаль в нашем коридоре. Я приоткрыла дверцы буфета и выглянула из-под горы одеял. Стоял декабрь, мы пребывали во власти студеной непогоды Гемене, и мне было довольно зябко. Завернувшись в одеяла, я наблюдала, как прибыла де Ламбаль, несколько изумленная и суетливая, в окружении лакеев и придворных дам с тревожными лицами.
– Мадам Елизавета! – вскрикнула она, стучась в дверь опочивальни принцессы. – Королева! Королева разрешается от бремени!
Мы с Елизаветой, как могли, загодя начали готовиться к пополнению в королевской семье. Мы изготовили двенадцать крошечных восковых младенцев, отнесли в церковь Сен-Кир и выложили в безупречно ровную линию, словно в колыбельках. Все прочие просьбы мы временно отложили в сторону, ибо ни о чем другом не могли думать, кроме как о рождении королевского отпрыска.
– Все во дворце, – сообщила мне Елизавета, – пребывают в нетерпеливом ожидании.
И вот наконец тот момент, которого все так ждали, настал, зазвонили колокола, и заголосила принцесса де Ламбаль. Когда же она в состоянии ажитации умчалась (в этот момент она походила на худосочную курочку, с кудахтаньем бегущую через двор), наш коридор наполнился гомоном голосов и топотом ног. Сидя на нижней полке в буфете, все еще в ночной сорочке и ночном чепце и свесив ноги вниз, я завернулась в одеяло и глядела по сторонам: то налево, то направо. Треснувшие окна вдоль стены были залеплены бумажными полосками, спасавшими от зимней стужи, но не вполне: когда я дышала, белый пар изо рта доказывал это весьма красноречиво.
Наконец появилась Елизавета, полностью одетая, в сопровождении своих трех фрейлин. Когда она шла к покоям королевы-роженицы, лакеи, выстроившиеся двумя шеренгами вдоль коридора, учтиво ей кланялись. Я тоже поклонилась, и Елизавета остановилась.
– О, мой двойник, сердце мое, что ты тут рассиживаешь? Ты сегодня будешь нужна мне более, чем кто-либо. Одевайся, да поживее. Ежели у королевы возникнет нужда в наших молитвах, ты должна будешь сбегать в нашу мастерскую, быстро вылепить из воска младенца и отнести его в Сен-Кир. Поторопись, сердце мое, душенька моя!
Итак, в день появления на свет первенца Марии-Антуанетты Австрийской и короля Франции Людовика XVI я облачилась в платье прямо на людях, в зябком коридоре, и многие при этом глядели на меня и поторапливали. Когда я была готова – но ни мгновением раньше, как мне четко дали понять, – маленькая Елизавета решительно двинулась к месту события с намерением стать теткой. Я замыкала ее свиту, шагая чуть позади маркизы де Монсье-Меринвиль. Но чем дальше мы продвигались по коридору, тем больше усилий от нас требовалось, ибо весь дворец был охвачен желанием засвидетельствовать рождение нового Бурбона. Елизавета, как сестра короля, заставила море людей расступаться перед ней, и так мы, подобно Моисею, шли вперед, слыша, как за нашими спинами людские волны вновь смыкались. Я буквально кожей ощущала, вначале не без удовольствия, как в коридорах дворца становится все теплее по мере того, как мы приближались к его центральным покоям. С тех пор как зазвонили церковные колокола, вельможи все плотнее толпились во дворце, оглашая его громким гулом голосов и обогревая теплом своих тел – тем больше, чем ближе они находились от родильной комнаты. Теплее всего в Версале тем утром было в опочивальне королевы: жарко, как в печи у булочника, – а самым горячим местом в этой печи – просто раскаленным докрасна угольком в ней, – был вздутый живот королевы Марии-Антуанетты. По французским законам, в момент разрешения от бремени у королевского ложа должны были находиться избранные придворные, дабы удостоверить, что произведенное на свет дитя действительно вышло из чрева королевы.
Мы успели вовремя. Ребенок еще не появился. Елизавета села на стул впереди, рядом с креслами других важных свидетелей, для менее важных расставили простые скамьи. Я же была предоставлена самой себе. Я еще не видела старшего брата Елизаветы, самого короля, но будущий отец должен был также находиться где-то тут. Я потолкалась в толпе, слегка отодвигая каких-то знатных очевидцев важнейшего события, пока не заняла удобное место, откуда мне все хорошо было видно. Оттуда я – наконец! – увидала Марию-Антонию-Жозефу-Жанну, или попросту Марию-Антуанетту, королеву Франции.
Лоб королевы был покрыт испариной от натуги. У нее оказалась удлиненная голова, светло-голубые глаза, довольно широко поставленные. Тут я вдруг потеряла ее лицо из виду, а потом, совершив небольшой маневр в толпе, вновь увидела. Крупный орлиный нос, нижняя губа выдавалась вперед чуть больше, чем верхняя, милый округлый подбородок. Меня вновь оттеснили, но я снова заняла наблюдательный пункт. Над ее лицом возвышался купол лба, покрытый бисеринками пота. Ощущая волны жара, исходящие от ложа роженицы, я позабыла, как мне было холодно в тот день поутру или что за окном декабрь. Королева села в кровати, заставив присутствующих ахнуть и зашуршать платьями: все старались получше разглядеть роженицу. Какая красавица! Какая лебяжья шея! Какие покатые плечи! Но потом она глубоко вздохнула и вновь упала на подушки, вызвав новый всплеск движения в толпе – и тут я окончательно потеряла ее из поля зрения. Я огляделась в поисках места, где мне было бы лучше видно. В королевской опочивальне окна были без подоконников, а немногие скамьи перед окнами уже все были заняты. В этой тесной душной комнате среди множества предметов – и людских тел – лишь одно место показалось мне подходящим, откуда уж точно ничто бы не застило мне обзор. В углу стоял комод из палисандрового дерева пяти футов высотой, с накладкой сверху, или, скорее, крышей, и я решила, что смогу там преспокойно сидеть, и никто мне не будет загораживать вид. Я попыталась вскарабкаться наверх по его инкрустированной стенке, но она была покрыта толстым слоем лака, и я безнадежно скользила по полированной поверхности. Тогда я попыталась выдвинуть ящики, надеясь, что по ним смогу взойти, как по ступеням, но все пять ящиков оказались заперты, точно сомкнутые звериные челюсти. Но это меня не обескуражило. Я в нетерпении ждала подходящего момента. В комнату входили все новые и новые люди, и из-за их спин я вообще перестала видеть королеву, но полагала, что не пропустила пока ничего важного. Королева произнесла несколько приглушенных слов, и окружившие ее члены королевской семьи отвечали отрывистыми тихими фразами, но ни криков, ни плача новорожденного слышно не было, из чего я заключила, что у меня еще есть время. Наконец удобный момент настал. Внезапно все пришло в движение – не по причине явления младенца на свет, но из-за того, что кто-то вдруг бросился поправлять огромный гобелен над ложем королевы, боясь, как бы толпа его не задела и не свалила на роженицу. Началась суматоха, все повскакали на ноги, и я, улучив секунду, схватила пустой стул, подтащила к комоду, взобралась на него и так увеличила свой скромный рост. Наконец мне удалось присесть на верхний край комода. И точно: оттуда мне открылся прекрасный вид на королевское ложе.
В покои королевы к этому моменту набилось, по моим подсчетам, человек пятьдесят. Королева лежала на ложе, в окружении врачей и родственников, беседуя с ними и, видимо, забыв, что вокруг собралась огромная толпа зрителей в предвкушении представления, которое она должна им дать. И мы все ждали, устремив взоры на ее вздувшийся живот, покрытый простынями, но ничего не происходило. Ее лоб лоснился, дамы обмахивали ее веерами, грим тек по щекам. Принцесса де Ламбаль, во втором ряду публики, выглядела особенно разрумянившейся от жары. И вдруг я узнала кое-кого в толпе, он стоял ближе к первому ряду: это был мой добрый друг, слесарных дел мастер! Как это чудесно, подумала я, этого человека так любят в Версальском дворце, что ему даже дозволено присутствовать при столь важном событии. Затем королева издала громкий стон – и представление началось.
Антуанетта заворочалась и застонала, врачи бросились наперебой давать ей советы, а принцесса де Ламбаль смертельно побледнела. Люди зашептались, повскакали с мест, чтобы получше разглядеть королеву и поймать каждый ее потуг, каждый вздох и стон, каждую гримасу. Бедняжка тужилась, пыхтела и потела, лицо у нее раскраснелось, она закричала, но младенец все не появлялся. Дитя никак не желало выходить, оно оставалось во чреве еще довольно долго, и в наступавшие моменты тишины, когда несчастная королева отдыхала, тяжко дыша, все вновь занимали свои места и начинали тихо переговариваться, а уже в следующее мгновение опять подпрыгивали и вперяли взоры в стонущую королеву. Так оно и продолжалось: зрители то вскакивали, то садились в такт родовым схваткам королевы, пока наконец, где-то после одиннадцати утра, ребенок не начал выходить.
Скоро стала видна целиком красная головка, потом розово-красное скользкое тельце, две ручки и две ножки. А затем, ко всеобщей радости, младенец издал первый крик. Глядя на это сверху, с крыши комода, я невольно подумала, что все это мне известно: вот пуповина, там, где ей и должно быть, как говорил доктор Куртиус, а вот слизь и плодная оболочка, об этом он тоже мне рассказывал, – и наконец, через некоторое время, как и описывал мой наставник, показалась плацента. Как чудесно! Я заучивала новые уроки! Какие только чудеса не вытворяет женщина! Смотрите, смотрите: из нее вышла новая жизнь!
В помещении стало нестерпимо жарко, запахло неприятным смрадом уксуса и эссенций – это в дело вступили врачи. Я развязала чепец и распустила тесемки платья, а потом заметила, что многие проделывают со своей одеждой точно такие же манипуляции. Покуда младенец выходил на свет Божий, толпа напирала сильнее и все ближе придвигалась к ложу. И когда он вышел весь, повитухи обернули его в простынку и быстро унесли прочь. За ними вышли еще какие-то люди, а среди них, по-видимому, и король, потому как когда я огляделась по сторонам, его нигде не было видно. Потом толпа в помещении немного рассеялась, и я вновь увидела королеву. Она вдруг стала вторым действующим лицом этой драмы. Она была бледна как полотно, и я даже подумала на миг, что она умерла, во всяком случае, на ее простынях я заметила пятна крови, но потом она села и кого-то позвала.
Но никто не заметил.
Публика рукоплескала, ведь природа творит такие удивительные вещи, особенно когда дело касается королев. Но затем публика начала выражать озабоченность, и довольно громко, по поводу того, какого пола был ребенок, мальчик или девочка, дофин или дофина. Сначала по покоям пополз шепоток, разочарованный шепот: «дочь, дочь, дочь».
И никто не обращал внимания на королеву. А я, восседая над всеми, стала махать с крыши комода, привлекая внимание людей.
– Королева! – воскликнула я. – Королева!
Ибо я заметила, с высоты своего положения, что у королевы начались конвульсии.
И опять никто не обратил внимания.
Но через мгновение нашелся некто, кто обратил. Принцесса де Ламбаль, всегда мертвенно бледная, всегда на грани обморока, всегда беспорядочно размахивающая руками, точно крыльями, заметила судороги королевы, но, охваченная паникой, не смогла вымолвить ни слова. Встав с кресла, наверное, чтобы схватить кого-то за воротник и привлечь внимание к ее величеству, Ламбаль затряслась мелкой дрожью, ее огромные глаза закатились, и она упала в обморок, опрокинувшись навзничь и роняя все и вся, что попалось ей на пути, а таковых предметов и людей было изрядно, и ее обморок повлек падение еще нескольких человек, в результате чего все устремили взоры на обморочную принцессу, вообще позабыв о корчащейся в судорогах королеве.
И лишь после того, как принцессу де Ламбаль унесли, я так отчаянно замахала рукой, что меня наконец-то заметил один человек. Это был дворцовый слесарь. Стоя в гуще толпы, он, разумеется, не мог слышать моих криков, заглушаемых десятками голосов, но я поймала его взгляд и многозначительно мотнула головой в сторону королевы. При виде ее величества, задыхающейся на своем ложе, он отважно ринулся сквозь толпу, но не к королеве, а в противоположном направлении – возможно, все дело было в дворцовом правиле, запрещавшем простолюдинам касаться королевских особ, и у него не оставалось иного способа выказать свою полезность, кроме как растолкать людей и добраться до окон, которые, как и в моем коридоре, были плотно залеплены бумагой, защищавшей от зимнего холода. Обладая недюжинной физической силой, слесарь начал отдирать бумажные полосы с окон, и наконец ему удалось распахнуть створки и впустить в помещение свежий воздух. Затем другие мужчины, не такие отважные и не такие сильные, последовали его примеру и открыли еще несколько окон, – в комнату ворвался декабрьский мороз. Но они, по-видимому, не имели понятия, зачем слесарь распахивает окна, и решили, будто он хочет криком привлечь внимание собравшихся в саду перед Версальским дворцом, поэтому отважный слесарь теперь бросился назад к ложу королевы, где она лежала, все такая же бледная, на пропитанных кровью простынях, у всех на виду. И только тогда все увидели, что произошло.
Опять возникла суматоха, крикнули принести горячей воды, которую так никто и не принес. Врачи пытались привести бледную королеву в чувство, но поначалу безуспешно. Тогда отворили вену на ноге и пустили кровь. Врачи отмерили пять блюдец крови, сочли, что это достаточное количество, остановили кровотечение, и тут королева выказала признаки жизни. И все это время слесарь, настоящий герой момента, не отходил от нее. В его глазах стояли слезы, самые настоящие слезы. Она умерла? Но наконец королева вздохнула, и все опять было хорошо. Судя по выражению его лица, слесарь испытал невероятное облегчение. Он поднес платок к глазам, чтобы никто не видел его слез. Все это было и впрямь незабываемо!
Когда же слесарь поднялся и отошел от кровати, придворные принялись ему кланяться, наверное, подумала я, в знак благодарности. Потом он обернулся и, поглядев на меня, очень коротко кивнул. Ему все кланялись, и только теперь мне в голову закралась новая, абсолютно неправдоподобная мысль. Королева была замужем за слесарем… И слесаря, за которого она вышла, звали Людовик XVI.
Мне хотелось веселиться. Мне хотелось рассказать кому-нибудь. Но кому? Я не могла об этом рассказать Эдмону. Кому же тогда? И я твердо решила написать моему наставнику и сообщить об этом, а еще рассказать Жаку о событии, прямо противоположном повешению, но потом меня охватило беспокойство: если я напишу, это послужит доктору Куртиусу напоминанием о моем существовании, и вдова наверняка разгневается, отчего это я еще не удосужилась заручиться дозволением королевы снять с нее слепок. Но все равно как же это замечательно: я знакома с самим королем! Да-да! Я, Крошка! И я чуть слышно хлопнула в ладоши, в точности как это сделал бы Куртиус. Этот король, мой знакомец, этот король, с которым я чуть было не разделила кусок пирога, теперь просил присутствующих покинуть помещение. Королеве следует остаться одной. Лакеи всех выпроводили. Этот король, мой собеседник на крыше, с кем я сидела под зонтиком, приказал слугам вывести всех и потом сам, слегка враскачку, поспешил вон, чтобы побыть с новорожденной дочерью. Когда же я вспомнила про Елизавету и стала искать ее взглядом в толпе, оказалось, что она и ее свита уже ушли. Они оставили меня одну в королевской опочивальне. Когда же пришли кормилицы, королева слабым голосом попросила принести ей ребенка, и ее утешили, заверив, что малышка в полном здравии. Но она хотела увидеть ребенка, увидеть нового Бурбона, произведенного ею на свет наследника французского престола. Нет, возразили ей, это не наследник, совсем нет. Это девочка, дочка, боюсь, не наследник, мадам, а девочка, розовенькая, здоровенькая, но тем не менее девочка, да-да, мы в этом уверены. И тут королева, утомленная долгими родами и присутствием толпы соглядатаев, разрыдалась. И мне в голову пришла догадка, что я здесь уже лишняя. Это помещение стало вновь личными покоями королевы. И все же я осталась – последняя из шумной толпы. У меня, разумеется, возникла мысль уйти, но ведь наконец-то я оказалась в обществе королевы, и она уже ничем не была занята, суета и суматоха улеглись, и почему бы именно теперь, подумалось мне, не подойти к ней и не попытаться снять слепок. Не прямо сейчас, конечно, но, возможно, мне удалось бы договориться об аудиенции для доктора Куртиуса. Подобная возможность, согласитесь, выпадает не каждый день.
В опочивальне становилось все тише, королева рыдала уже намного сдержаннее, и я сочла, что удобный момент настал. Я тихонько слезла с комода и, когда до пола оставалось несколько футов, спрыгнула с легким стуком. Стук заставил ее величество открыть глаза и поглядеть на меня. Я улыбнулась и сделала несколько шагов в направлении своей цели, и, как мне показалось, при этом не улыбалась, а прямо смеялась в голос, но прежде, чем я осмелилась высказать свое кроткое предложение, королева раскрыла рот и выдавила весьма неуместные слова:
– Черт! Вот черт!
И в ту же секунду мои надежды рухнули. Я перепугалась, и она еще усилила мой страх, издав жуткий вопль, – и я, сгорая от досады, разочарования и ужаса, опрометью побежала прочь от вопящей жены слесаря по анфиладе дворцовых комнат, минуя группки людей, пока не добежала до своего комода. Я забралась внутрь, захлопнула обе дверцы и зарылась в одеяла.
Глава тридцать девятая
Служанка и король
Два дня спустя я оказалась вдали от тесноты и кромешного мрака своего буфета – еще ближе к центральной части дворца, даже по сравнению с опочивальней королевы. Никогда не поворачивайся спиной, кланяйся, говори, только когда к тебе обращаются, не приближайся меньше, чем на метр, и, разумеется, никогда не прикасайся. Я уже встречала короля, и даже чувствовала себя в тех обстоятельствах довольно спокойно, я свободно вела с ним беседу, и однажды даже на меня была наброшена пола его куртки, но тогда король для меня был всего лишь дворцовым слесарных дел мастером, простым изготовителем замков, каких во Франции полным-полно, тысячи, я думаю, поскольку там все любят запираться от других людей. Но в стране обычно есть только один король. Таково правило. А иначе будет кровопролитие. Я видела много портретов короля, его профиль был выбит на всех французских монетах. Но отчеканенная на них голова короля и голова короля, поедающего глазурованный пирог, имели мало сходства, так что можно сказать, я его не знала.
Тем не менее в этот самый момент его величество, Божьей милостью, король Франции Людовик XVI сидел передо мной в кресле.
– Ну, Мари Гросхольц, – начал он.
– Ваше величество, – отозвалась я, склонившись в низком поклоне.
– Должен сказать, королеве сейчас много лучше. В следующий раз мы позволим присутствовать лишь тем, кому это абсолютно необходимо. К примеру, никто не будет сидеть на комодах. В следующий раз все будет сугубо приватно.
– Да, ваше величество, – сказала я, а в голове у меня крутились разные мысли: это губы короля, за ними зубы короля и язык в монаршей ротовой полости, а еще там имеется надгортанный хрящ короля и слюнные железы короля, а за ними зияет королевская гортань, ведущая в глубокие недра монаршего тела.
– Скажи мне, – требовательно продолжал он, – ты и правда не знала, кто я?
– Нет, ваше величество, я думала, вы мастер по замкам.
– И я этим горд. Но ведь тогда на крышу пришел лакей в ливрее королевского цвета.
– Но лакей вашей сестры тоже носит голубую ливрею.
– Елизавета тебя просто обожает, не так ли? Наконец-то она перестала быть нелюдимой. Нам не следовало позволять мадам Мако заниматься ее воспитанием. Она очень тяжело переживала смерть наших родителей, как и нашего брата. Их смерть нас сблизила ненадолго. Она, как тебе самой известно, бывает немного нервной. Слезы, сцены. Но ей теперь лучше, мне приятно это отметить, в последнее время – безусловно лучше. Другими словами, я хочу сказать: ты молодец! И я тебя благодарю. За Елизавету и за твое недавнее внимание к нуждам королевы. Что бы я мог для тебя сделать в награду за это?
Мне вновь представилась возможность, и предложил ее сам король.
– Прежде чем приехать сюда, ваше величество, я была в услужении у изготовителя восковых изваяний, весьма одаренного скульптора в Париже. Я уверена, самым драгоценной наградой для него и самым ценным экспонатом в его коллекции могло бы стать вылепленное с натуры ваше лицо, если ваше величество соблаговолит дать на то свое согласие.
– О, мне что-то это все не нравится. Звучит малоприятно.
– Вас весьма поразит его искусство!
– Да? Интересно. А ты его ученица?
– Да, он обучил меня в Швейцарии, в Берне, откуда я приехала.
– У нас швейцарцы в королевской гвардии, они стоят в карауле внутри дворца и снаружи, это наш личный караул. Мы без них никуда. Так что я кое-что знаю о швейцарцах, да уж. Твой хозяин, он был хорошим учителем?
– О да, чудесным!
– А ты – хорошей ученицей?
– Я занималась прилежно и многому обучилась.
– Тогда ты сможешь сама сделать мой слепок.
– Я, ваше величество?
– Да, ты.
– Вы, верно, шутите.
– Я абсолютно серьезен.
– Нет, нет, я не могу.
– Почему не можешь?
– Ну, то есть я могу, но не должна.
– Почему не должна?
– Нет, это было бы неправильно, совсем неправильно.
– А я если я скажу, что это правильно?
– Но, видите ли, сир, это для моего наставника…
– Я дам согласие только тебе.
– Это его сильно обидит.
– Значит, пускай обижается.
– Но он никогда меня не простит!
– Простит! Ты ему скажешь: такова была воля короля.
– Это выше моих сил!
– Так подрасти, девочка, подрасти, чтобы найти силы!
– Это было бы преступлением, сир!
– Гросхольц, сейчас или никогда!
И я, хотите верьте, хотите нет, сняла с него слепок – сама.
Мы находились в одном из помещений апартаментов короля, посреди комнаты стоял небольшой кузнечный горн. Сначала мы лакомились клубничными тарталетками. Король снял расшитый золотом камзол и надел простой редингот. Комната была заставлена глобусами, повсюду валялись географические карты. На столах виднелись миниатюрные модели странных зданий и множество всяких диковинных штуковин: телескопы и микроскопы, секстанты и теодолиты, движущиеся модели Солнечной системы и инструменты, коих я в жизни не видывала. И по всей комнате, среди глобусов Земли и планет, рядами стояли сотни книг, все в идеальном порядке. Среди них я заметила полное собрание «Энциклопедии» Дидро, а также – о, как я мечтала ему рассказать об этом! – «Париж в 2440 году» Л. С. Мерсье.
Я промыла королю лицо, умастила маслом брови и, слегка похлопывая кончиками пальцев, пригладила их. Потом я вставила в монаршие ноздри соломинки – да, я сделала это! Я наложила гипс на его лицо и разгладила по коже так, будто накрыла его салфеткой – да, я сделала и это. В комнате стояла полная тишина, ведь там были только мы с королем. Мы были словно одни в целом мире. Потом я осторожно удалила гипсовую маску, после чего очистила ему лицо. Я сняла необходимые мерки. Ширина головы от уха до уха: восемнадцать дюймов. Окружность шеи: двадцать два дюйма и одна треть. Измеряла Мари.
Итак, у меня все было готово для отливки головы короля. Но не королевы. Я страшилась обратиться к нему с еще одной просьбой, но мне следовало это сделать.
– Ваше величество, могу ли я попросить вас еще кое о чем?
Король кивнул.
– Я была бы весьма вам признательна, ваше величество, если бы вы помогли мне устроить аудиенцию для того, чтобы мой наставник смог сделать слепок головы королевы.
И тут вдруг король превратился в сурового стража, оберегающего покой супруги.
– Королеву нельзя тревожить! Королева не игрушка, ее нельзя теребить и тискать! Нельзя допустить, чтобы все, кому не лень, на нее пялились! Ее нельзя выставлять напоказ. В наши дни люди совсем позабыли о приличиях. Нет, нет! Королеву беспокоить нельзя!
– Да, ваше величество!
– Я этого не позволю!
– Нет, ваше величество!
– Это меня огорчает.
– Да, ваше величество. Я благодарю ваше величество!
Он в ажитации стал озираться по сторонам, словно на миг потерял ориентацию в мире, несмотря на все свои глобусы.
– И мы больше не будем вести наши беседы, – объявил он, покачав головой. – Это было бы неправильно. Совсем неправильно. Я растерялся. Когда мы впервые встретились, в моей мастерской, понимаешь, я принял тебя за свою сестру. Меня в тот раз ввели в заблуждение твои очки. Но теперь-то я вижу, что ты не она. Совсем не она, ты ее карикатура. Возможно, ты и не виновата. Но этого больше не будет. Я – король, а ты всего лишь Гросхольц. Доброго дня!
После этого я несколько лет больше не видела короля так близко. Позднее, уединившись в нашей мастерской, я все рассказала Елизавете.
– Я, Анна-Мари Гросхольц, нюхала пот короля!
– Ты груба, сердце мое! Мне же не надо напоминать тебе, что ты – мое тело, моя копия, моя, а не кого-то еще.
– Я сделала слепок головы короля, и мне теперь надо отправить слепок моему наставнику в Париж.
– Но ты же моя копия, не так ли?
Как же легко было вызвать ее ревность!
– Да, дорогая мадам Елизавета, – поспешно заверила я ее. – Конечно, я ваша копия!
– И ты меня не оставишь?
– Нет, если только вы сами этого не захотите.
– Я никогда не захочу.
– Прошу, повторите эти слова! Тогда можно мне вас поцеловать?
– Думаю, можно.
Мне упаковали гипсовую голову в ящик с соломой. Внутрь я вложила письмо, которое я написала после нескольких неудачных попыток, пока не осталась вполне удовлетворена получившимся текстом. Вот как выглядел окончательный вариант:
Сударь мой!
Я надеюсь, у Вас в Париже все хорошо. Я часто думаю о Вас и восковых людях. Уверена, что дела идут успешно. Я здесь очень занята и работаю каждый день для принцессы Елизаветы. Думаю, не будет большим преувеличением сказать, что я стала ее фавориткой и, сударь, надеюсь, ей захочется, чтобы я находилась при ней постоянно. Я была бы этому очень рада. Я весьма обязана Вам за ту особую заботу, с которой Вы занимались моим образованием, и нижайше Вас за это благодарю. Я буду всегда вспоминать о Вас с великой признательностью. Я также хочу добавить, шепотом, что я служила Вам, безо всякой оплаты, довольно долгое время, и надеюсь, моя работа доставила Вам некоторое удовлетворение. Говоря коротко, сударь мой, не будете ли Вы добры теперь отпустить меня и прислать мне сюда мои бумаги?
В этом ящике Вы найдете слепок с натуры головы его величества короля Людовика XVI. Его величество настоял, чтобы именно я сняла с него слепок, подчеркнув, что другой возможности не представится. Я просила его послать за Вами, но он не позволил. Прошу Вас меня за это простить, но надеюсь, Вы увидите, что я выполнила слепок очень тщательно. И теперь, чтобы завершить работу, требуется Ваше несравненное мастерство. Прошу Вас принять этот слепок как плату за меня, и не соблаговолите ли Вы написать во дворец и официально передать меня в услужение принцессе Елизавете и посему выслать мои бумаги.
Благодарю Вас,
Искренне Ваша,
Крошка, урожденная Мари Гросхольц, Ваша прежняя служанка в Берне
Ответ пришел через две недели, и написан он был не рукой моего хозяина.
Кроха,
Ты себе даже не представляешь, как ты огорчила своего хозяина. В последние несколько дней ему было очень плохо. Я даже думала, что он умрет. Знай, что твое имя здесь смешано с грязью, и ты не получишь свои бумаги.
Я подтверждаю получение слепка. Много же лет тебе понадобилось на то, чтобы отплатить нам столь малым. Я без возмущения не могу об этом думать.
И какой нам прок от короля без королевы? Добудь королеву, да побыстрее, а не то тебя быстро вернут сюда, и уж мы с тобой разберемся!
Добудь ее!
Искренне,
Ш. Пико (вдова)
Я аккуратно сложила письмо, от которого веяло великой печалью, и, встав на одолженную у Пайе стремянку, положила его на самую верхнюю полку моего буфета, куда я никогда не заглядывала. И все же, даже спрятанное так высоко, это письмо потом приснилось мне, спящей тремя полками ниже.
Глава сороковая
Об игрушках и их владельцах
Очень скоро возникли новые обстоятельства, о коих, при нашем ежедневном тесном общении с Елизаветой, я даже и не обеспокоилась.
– О, дражайшее сердце мое, – воскликнула принцесса, отворяя дверцу моего буфета, – случилось нечто невероятное! За меня посватались. Я уезжаю. Это должно было случиться! Я выхожу замуж! Я буду скучать по тебе, сердце мое, но я выхожу замуж! И уеду отсюда. Я распрощаюсь с прежней жизнью. Но все будет хорошо. О, Господи, благодарю тебя! Я благодарю тебя от всей души!
– Нет, – отважно возразила я, ведь здесь были мои владения, – вряд ли от всей.
– Уже объявили обо всем. Моим мужем станет герцог Аоста. Герцог Аоста!
В моем представлении Аоста звучало как аорта. Аорта располагается выше сердца. Она показала мне портрет своего герцога: мне он не показался сколь-нибудь интересным. Как-то, когда Елизавета была занята чем-то очень важным и не смогла составить мне компанию в мастерской, она попросила меня нарисовать копию этого портрета, потому как ей очень хотелось иметь дубликат, чтобы его можно было в сложенном виде всегда носить с собой.
Герцог Аоста
Аорта человека
От многократных просмотров мой рисунок быстро смазался и покрылся морщинами.
Однажды Елизавета постучалась ко мне в буфет.
– Я больше не смогу проводить с тобой так много времени.
– Так сказала мадам Гемене?
– Мадам Гемене назначили гувернанткой маленькой дофины. Теперь за моим домом надсматривает мадам Диана де Полиньяк. Ярость отослали прочь, и даже Фурии дозволено не более двух визитов в месяц. У меня теперь новые фрейлины. Я взрослею, я это чувствую.
– А я? Что сказала мадам де Полиньяк обо мне?
– О, сердце мое, сердце мое! Теперь все по-новому. Сердце мое, у тебя тут такая теснота. Хочешь, я найду для тебя нормальную пристойную комнату? Она будет располагаться чуть дальше, но, возможно, оно и к лучшему.
Можно лишь пожалеть бедные игрушки, ведь к ним обычно привыкаешь и любишь их очень недолго; старые ломаются, или им на смену приходят новые. И их уносят с глаз долой в дальние комнаты, где свален прочий постылый хлам. Поколения кукол валяются, заброшенные, в сараях и там гниют.
Я попала в новые покои Версаля, но дворец уже выглядел в моих глазах не золотым левиафаном, каким казался в первые дни пребывания здесь, а скорее исполинским скелетом, останками некоего убитого зверя, внутри которого все мы обитали. Теперь в моем распоряжении оказалась целая комната, холодная и пустая, и ничто не могло ее согреть. Я попыталась вызвать призрак Эдмона в это печальное место, но он не появлялся. Он исчез, чтобы уже никогда более не возвращаться ко мне.
И все же, как всем известно, даже о выброшенных игрушках порой вспоминают, они вдруг воспламеняют старую любовь, за них хватаются, потому что в минуту отчаяния их привычность оказывается необходимым утешением.
Столь же внезапно, как возникли разговоры про герцога Аосту, всего неделю спустя после того, как мне показали мою новую комнату в сорока минутах ходьбы от мастерской, все эти разговоры разом оборвались, закончились коротким словом: герцог тоже оказался «неподходящим». Елизавете пришлось с этим смириться. И тотчас вспомнили обо мне.
И я переселилась обратно в буфет.
В тот же вечер, когда я вернулась в буфет, ко мне пришла Елизавета, тихая, заплаканная, с чуть вздрагивающими плечами. Тем вечером она призналась, что поставила на себе крест и что отныне решила посвятить себя заботам о бедных страдающих людях, а для себя она уже не ждет ничего хорошего. Она попросила меня принести ей гипсового Иисуса из его коробки-шкафчика и потом все время держала его на коленях, точно дитя, которого ей было не суждено родить. С того момента наши дни исполнились сугубо религиозных дел, в которых участвовали только мы втроем: Елизавета, я и гипсовый человек. И если я порывалась ее поцеловать, она меня мягко отстраняла.
Глава сорок первая
Боль найдется в церкви Сен-Кир
После этих событий время стало отмеряться поездками в церковь Сен-Кир. В этой церкви, в ее различных приделах, стремительно росло число восковых человеческих органов, прибитых один поверх другого, отчего пустая поверхность стены быстро сокращалась. Список несчастных страдальцев Елизаветы растянулся и уже дошел до третьего тома; текли месяцы, и вот наконец сменился год, начался следующий, который обещал быть таким же, как предыдущий, и такими же обещали быть все последующие, и все оставалось как есть, и тела несчастных страдальцев недужили и испытывали боль, и они демонстрировали нам, с горькими слезами и стиснутыми зубами, где у них болит. Они и вправду сильно страдали в то время, очень страдали, и их количество казалось неисчислимым и все росло. Они не всегда встречали нас радостно, и порой принимали от Елизаветы деньги с весьма мрачным видом. Причиной тому, по нашему разумению, были ненастье и неурожай. Другой причиной был, возможно, бывший конюший, упавший с лошади и заработавший хромоту. Как-то раз этот хромой пришел во дворец за подаянием. Караульные избили его и отослали обратно в деревню, где он умер от ран. Семье дали денег, но что толку: когда избитый хромой скончался, деревенские совсем пали духом. Однако Елизавета не прекратила своих визитов, мы замечали людские горести и потом делали из воска дары для церкви, молясь за облегчение их трудностей. И мы обе становились старше. И хотя нас еще можно было считать молодыми, а мадам Елизавета всегда выглядела моложе, годы откладывались на наших телах слой за слоем, и Елизавета постепенно превращалась в старую деву, отбросив мысли об ином будущем для себя.
И внутри ее тело тоже иссыхало.
Нас к тому же еще и переселили.
Новые покои принцессы Елизаветы располагались в самом конце длинного коридора в юго-западном крыле дворца во втором этаже; такое расположение объясняли тем, что-де принцессу не надо беспокоить, но на самом деле это было сделано, чтобы позабыть о ее существовании. Из окон ее новых апартаментов мы видели Большой канал, но что важнее – дорогу к Сен-Киру, ведь мы постоянно смотрели в том направлении. Под нами располагались большие апартаменты королевы, над нами – покои дворцового конюшего, которого мы вечно слышали: он топал взад-вперед в своих сапожищах. Вокруг нас кипела дворцовая жизнь, но нас она не касалась. Новые апартаменты состояли из восьми комнат: прихожей, второй прихожей, большого кабинета, бильярдной, библиотеки и будуара. За стеной спальни стоял мой новый буфет, в нем было на одну полку меньше, чем в прежнем, и внутри, когда я впервые открыла его дверцы, повсюду лежал мусор. Его прежняя обитательница не обращала на такие мелочи внимания, и к тому же на внутренних стенках остались царапины и следы от подошв. Я прибралась и забралась на полку. Вместе со мной там жили муравьи, и даже время от времени на нижнюю полку захаживала мышь.
Наступили длинные сезоны мадам де Полиньяк. Диана де Полиньяк, сестра новой фаворитки королевы, была уродлива лицом, горбатая и неряшливо одетая, с сухой кожей и влажными губами, и при виде мужчин постоянно сглатывала слюну. До Елизаветы ей не было никакого дела – о чем она недвусмысленно дала понять, заняв свою должность. Она населила коридоры апартаментов Елизаветы своим собственным гаремом: они насмехались над Елизаветой намеренно громко, чтобы та все слышала. Ее единственными друзьями были мы с гипсовым Иисусом. Сколь бы тягостным ни было владычество вначале Мако, а за ней Гемене, ими хотя бы двигали искренние побуждения, и их методы воспитания, пускай своевольные и властные, все же были благожелательными. Напротив, Полиньяк думала исключительно о своей выгоде. Именно она приказала поставить в одной из комнат бильярдный стол: королева Антуанетта пристрастилась к настольной игре в шары, и теперь всем обитателям дворца вменялось освоить новую забаву. Елизавета шаг за шагом отступала. В других частях дворца кипела шумная светская жизнь, устраивались большие рауты, празднества, игры. Но сама я ни разу там не присутствовала. С нижнего этажа до нас доносились смех и шум веселья, сверху – хлопанье дверями и грохот сапог. Хотя ей было всего семнадцать лет, выглядела Елизавета на все тридцать.
– Не покидай меня, мой двойник! Никогда не уходи!
Мы тихо проживали свои дни, заводя духовных друзей в приделах церкви Сен-Кир. Каждый придел носил имя какого-то святого. В те дни я быстро выучила своих святых. Маменьке было бы приятно это узнать.
Святой Викентий де Поль – живший в старину человек, который посвятил свою жизнь беднякам и строил для них жилища. Мы заполнили его часовню нашими восковыми изваяниями, не оставив местечка для очередной больной почки и сломанного пальца, не говоря уж о глазной катаракте. Святой Мартин Турский тоже жил в старину, он как-то разрезал свой плащ надвое и отдал половину нищему; в его часовню мы приносили раздробленные ноги, опухшие руки, увечные туловища, ушибленные головы, разорванные носы, рты с язвами – все из воска, пока там не осталось ни единого свободного пятачка для новых скорбей. Святой Дионисий был первым епископом Парижа, и в его часовне появились вылепленные из воска сломанные ребра, лопнувшие легкие, изношенные сердца, изможденные печени, воспаленные мочевые пузыри, бесплодные яичники, выкрученные тестикулы, желтушные куски кожи, кровоточащие культи. Боль, страдания, нищета…
Местный епископ разволновался: его церковь была захвачена, святой храм превращен в лавку воскового мясника. Но мы с мадам Елизаветой не знали покоя. Подобно самому святому Киру, так и не дожившему до зрелого возраста, потому как ему размозжили голову о стену по причине того, что он называл себя христианином, Елизавета сделалась мученицей во имя чужих страданий. Она жаждала боли, чужой боли, дабы умерить свою собственную. Боль обычных бедняков питала ее жизнь. Она стала одержима их невзгодами. Мы накопили восковые горы человеческих органов и конечностей. В дверцу моего шкафа стучали в разные часы дня, а иногда и ночи, до рассвета, чтобы призвать меня к работе. Елизавета свято верила в силу этих восковых предметов – они служили зримым доказательством ее благих намерений, – даже если для бедных и страждущих они не значили ничего.
– Пошли, сердце мое, нам нужно работать!
Я повзрослела в Версале. Я обрела новые формы, похудела, во мне возникла угловатость, и я стала спокойнее. Устраиваясь поудобнее в своем домике-буфете, я рисовала ночами при свече, а когда делала ошибки – я все еще ошибалась в рисунке, – то стирала неверные линии комочком растительной резины, недавно изобретенным инструментом для художников, ведь у Елизаветы всегда были новейшие и лучшие вещи. Прощай, хлебный мякиш!
Так мы и жили с Елизаветой среди фрагментов человеческих тел, в гигантском обиталище восковой плоти, и дни наши были наполнены молитвами, обретшими осязаемость.
Глава сорок вторая
Сделано Мари, или Четвертая группа голов
По воскресеньям, это уже вошло в привычку, мне предоставлялась полная свобода: Елизавета почти все время проводила исключительно с членами семьи в стенах то одного, то другого Божьего храма, и я ей не требовалась.
По воскресным дням я час или около того мыла и проветривала свой буфет, после чего попивала эль с Пайе. Мы с ней проводили время в беседах о телах. В одно воскресенье, когда она отлучилась из дворца, потому как кто-то из ее родственников занедужил (мы помолились за него и вылепили восковой пищевод), мне взгрустнулось от одиночества. Хотя я давно уже не рисковала прогуливаться одна по дворцу, все же я решилась выйти из покоев Елизаветы. Сопровождавшие мадам де Полиньяк дамы, усмехаясь, дали мне пройти, и я оказалась на воле. Вскоре я уже шагала по коридорам к месту рождения монарших отпрысков, следуя за толпой парижских визитеров, которые спешно двигались в том же направлении. Не имея никаких дел, я решила к ним присоединиться. Затем наша толпа выстроилась в длинную очередь перед Залом караула короля и учинила небольшую давку перед Аванзалом королевы – покоями, известными также как Аванзал Большого столового прибора. Тут стояла охрана, которая пропускала людей внутрь, только проинспектировав у всех платье. Будучи обысканы, мы вошли в Аванзал. Сначала казалось, что вся эта суматоха связана с отрядом швейцарских гвардейцев, в чьих шляпах красовалось по три белых пера. Но потом, заглянув между ними, я высмотрела большой подковообразный стол, вокруг которого стояли стулья с высокими спинками, а на них восседала королевская семья в полном составе.
Они ели.
В первый момент мне почудилось, что это искусно изготовленные механические куклы, имитирующие королевское семейство, настолько машинально они подносили ко ртам ложки с супом или разрезали мясо на куски. Но потом я заметила, как королева моргнула. Потом – как король сглотнул. Потом увидала, как широко улыбнулся граф Прованский, средний брат короля, и как затем ему в ответ улыбнулся младший брат короля граф д’Артуа, после чего оба, в отличие от прочих, хранивших молчание, завели негромкую беседу. Там же я высмотрела и Елизавету: она поглощала еду короткими порывистыми движениями – так курица клюет зернышки. Она сидела между двух престарелых дам, коих я сочла ее тетушками. В основном члены королевской семьи забавлялись с едой, а не по-настоящему ели, а позади них стояли слуги, помогавшие королевским едокам в процессе королевской трапезы. И мне сразу стало понятно, что королевские родственники не получают от еды никакого удовольствия и им неприятно находиться под перекрестными взглядами зевак, а самое главное, что мне стало понятно: эти королевские особы и их отпрыски – самые обычные люди, вот почему просто наблюдать за ними и было так увлекательно.
Довольно скоро нас всех выпроводили из помещения.
– Это Аванзал Большого столового прибора, – сообщила мне Пайе. – Такое тут бывает каждое воскресенье. Вы не знали?
– Каждое воскресенье?
– Если только они не уезжают.
– И что, сюда может любой прийти?
– Только надо быть надлежащим образом одетым. Мужчины при шпаге, в чулках и в парике. Но если у кого нет таких вещей, их можно взять в аренду у ворот, когда входишь во дворец.
– И их может увидеть любой?
– Если одет надлежащим образом.
– А зачем это делается?
– Правило Людовика Четырнадцатого. Он когда-то повелел, что прилично одетая публика должна раз в неделю лицезреть королевскую семью.
В следующее воскресенье я снова пошла туда. И потом ходила каждое воскресенье. Поначалу я себе говорила, что мне это нужно, чтобы находиться поближе к Елизавете, но потом все-таки призналась, что просто хотела поглазеть на монаршую семью Франции за трапезой. Я протискивалась сквозь свиту Дианы де Полиньяк и мчалась вперед. Мы выстраивались в очередь, и через равные промежутки времени наше наблюдение прерывалось швейцарскими гвардейцами короля, служившими барьером между нами, простыми людьми, и ими, особами королевских кровей. Меня эта церемония никогда не утомляла, и я с нетерпением ждала очередного воскресенья, а скоро стала брать с собой листы бумаги и карандаш, делая быстрые наброски с натуры и снабжая их пометками.
И теперь, закрывая глаза, я представляла себе процесс королевского пищеварения. Я видела, как пища пережевывается в однородную массу, видела, как ее глотают, видела крошки на королевских губах. Но в трапезе принимала участие не вся королевская семья. Например, королева сидела за столом, не снимая перчаток, и аккуратно расставленные перед ней тарелки почти не удостаивались ее взгляда. Интересно, заинтересует ли такое зрелище моего наставника?
От скуки, лежа в своем шкафу, я начала превращать свои записи в эскизы голов членов королевской фамилии. Мне бы этого не делать, ибо довольно скоро, в точности как мой наставник, я уже мечтала вылепить эти головы. Держа в руках восковые легкие, я мечтала приделать им нос, а кладя на ладонь печень, мечтала приделать ей рот. И коль скоро меня захватила новая идея, я уже не могла с собой совладать: группа людей в мизансцене. Ростовые фигуры. На близком расстоянии друг от друга. Общаясь друг с другом. Такого никогда не делали в Обезьяннике. Это было нечто новенькое. А какая мизансцена? «Королевская семья за трапезой». Королевские рты приоткрыты, королевские щеки выпирают, королевские челюсти ходят вверх-вниз, королевские кадыки прыгают.
Я рисовала их каждую неделю. Но никому об этом не рассказывала. Месяц за месяцем. Пока не выросла гора листов с моими эскизами и пометками. Но со временем я обеспокоилась, что мой хозяин не сумеет разобрать моих пометок и что, наверное, благоразумнее было бы вылепить все эти головы самой, чтобы уж наверняка передать точное сходство. А потом, размышляла я, мой хозяин и вдова могли бы их подправить или вообще выбросить, словом, поступить, как им вздумается. В общем, я вознамерилась вылепить все королевское семейство. Вот так я обманывала сама себя.
И стоило начать, как меня понесло. Эти головы заполнили всю мою жизнь. Я не рассказала о них Елизавете, пряча от нее свои работы в недрах буфета. Довольно скоро там стало тесно от глиняного населения. Я тащила из нашей мастерской все подряд. Мы уже израсходовали так много глины, что никто даже не заметил, как я потихоньку забирала себе еще и еще. А вскоре то же самое произошло с гипсом и даже с воском. Сколько бы я ни заказывала, все приносили сразу же и без лишних расспросов. По правде говоря, люди во дворце не испытывали искренней симпатии к вещам, они никогда их не ценили должным образом, относясь к ним так беспечно, будто те никогда бы не иссякли. О воске и его тонких талантах они вовсе ничего не знали. Они не умели оценить ни горделивого достоинства, ни скромной скорбности восковой свечи. Они никогда часами не просиживали с вещами, тихонько их подбадривая. Они их не знали, и на них им было наплевать.
Голова. И еще голова. И еще. Рот. И еще рот. И еще. Кадык за кадыком. Я ловила каждое их движение. Я разминала глину кусок за куском, я возвращалась в Аванзал каждое воскресенье и сверяла свои изделия с оригиналами, и поправляла, и начинала заново, бросала, отчаивалась и начинала вновь. И медленно, очень медленно едоки становились мне подвластны. Я снова и снова изучала подбородок короля, и мочки ушей королевы, и лоб графа. Снова и снова. Гляди, гляди внимательнее, тут не так, еще нет сходства, разровняй здесь, сомни эту часть лица опять в бесформенный кусок глины, и гляди внимательнее, сконцентрируйся. У тебя не получится. Получится! Нет, не получится.
На это мне потребовались месяцы. Да какое там – годы! Я работала, покуда Елизавета проводила время со своими тетушками и очень часто – когда дворец погружался в сон. Сначала их было четыре: король, королева, два брата короля. Четыре головы с железным каркасом, прилаженным к деревянным планкам и покрытым влажной тканью, которые я после работы всю ночь напролет прятала в своем буфете, а когда их стало слишком много, я тайно хранила их в шкафах в нашей мастерской. Только головы. Тела можно было приладить после.
Форма каждой головы далась мне довольно быстро, но затем последовали месяцы и месяцы доработок. Под конец я могла часами всматриваться в глиняный череп и вносить одну незаметную поправку, добавляя лишь шарик влажной глины размером с рисинку, на что уходило часа два, после чего я валилась без сил на лежанку, и мне снились глиняные головы. Но их кожа была глиняной, а глиняная кожа, выровненная и гладкая, не имеет пор, но настоящая человеческая кожа ведь вся в порах и неровностях: на этом настаивали мои очки. И чтобы мое королевское семейство выглядело правдоподобнее, я спросила Елизавету, можно ли мне съесть несколько апельсинов в своем шкафу, и она их мне прислала. Апельсиновая кожура, как кожа, имеет поры. Сделав гипсовый слепок с апельсина, я обнаружила, что можно этот обратный слепок припечатать к глиняной коже королевских голов, и тогда на их коже отобразятся все-все детали, все мельчайшие впадинки, как на настоящей голове. Я поразилась этому открытию. И зааплодировала.
Вот так я их теперь оформляла. Я накрывала глиняные лица мертвящим гипсом, точно решила убить свои произведения, и затем уничтожала глиняные головы, снимая с них гипсовые половинки формы для отливки. Потом заливала расплавленный воск в форму, ждала, когда воск застынет, разнимала форму – и милости прошу! То, что раньше было глиняной плотью, теперь было плотью восковой. Это королева? Высокий лоб, выпяченная нижняя губа? Я закрывала глаза, снова их открывала. Неужели это королева – изготовленная не с гипсовой маски, снятой с ее лица, но вылепленная исключительно в результате наблюдения и по памяти? Закрой глаза! Снова открой. Да, получилось. Самая настоящая королева!
И это было мое клеймо мастера. Отпечаток меня. Моих рук, моих мыслей. Это королева, но не только она: это еще и Мари Гросхольц, обе ожившие в этой голове. И в тот момент, когда я это осознала, меня охватила неодолимая страсть. Вот чем я пожелала заниматься в жизни – и ничем другим.
Я пустилась танцевать вокруг головы королевы. Я тебя сделала. Я. Добро пожаловать!
– Что за шум? Вы всех перебудите! – Это была Пайе. – Что тут происходит? Чем вы заняты… О, ведь это же королева, да?
– Повтори!
– Это королева!
– И еще раз, прекрасная Пайе!
– Это же королева!
Да, это была королева. А за ней последовал король (еще один), граф д’Артуа и граф Прованский. Мое королевское семейство. Ночами, или в отсутствие Елизаветы, я сидела со своими королевскими головами и вела с ними беседу, будто сама была частью этого семейства. Теперь я хотела проводить время со своими головами, а не с реальными людьми. Я подержала их какое-то время у себя, ведь они были мне так дороги, мои первые головы. Этим головам, моей королевской семье, должны устроить триумфальную встречу в Кабинете Куртиуса в Париже – так я уверяла себя, лежа в своем буфете.
Когда они получат головы, мечтала я, мне разрешат наконец остаться во дворце. Я вновь попрошу хозяина меня отпустить. Так я говорила себе. И, конечно, лгала. Я мечтала быть оцененной. А кто ж не мечтает? Все мы мечтаем.
И я себя выдала.
Я отослала им головы.
Я написала им письмо, объясняя, какая тут голова чья, и дополнила описание своими многочисленными эскизами. Каждая восковая голова была уложена в свою форму, и обе половинки форм были стянуты бечевкой для сохранности. Все это я упаковала в ящик и отослала на бульвар дю Тампль. Я закрыла глаза, пытаясь представить себе, как они достают эти головы. Я печалилась тому, что не могла присутствовать там и наблюдать за происходящим, но мой дом теперь был здесь, здесь я была на своем месте – в этом буфете, в нашей с Елизаветой мастерской. Теперь, говорила я себе, мне придется забыть об этих королевских головах и сосредоточиться на других частях человеческого тела, которые раньше я так любила. Как же я скучала по ним, как скучна была моя жизнь без них.
Через неделю пришло письмо от моего наставника:
Дорогая моя Крошка Мари Гросхольц,
Мы с вдовой Пико в следующее воскресенье будем в Версале присутствовать в Аванзале Большого прибора и оценим сходство твоих моделей. Надеемся, ты встретишь нас у ворот и покажешь нам ту, кто послужил причиной твоего столь долгого отсутствия.
Напоминаю тебе, что я твой хозяин,
Куртиус
Глава сорок третья
Моя семья в Версале
Омнибус выпустил своих пассажиров. Можно было безошибочно их опознать. Обитатели Версаля подчинялись правилам, строго их соблюдали и, хотя все были облачены в платья разных цветов, они сами оставались бесцветными. Обитатели же Обезьянника громко и самодовольно заявили о своем прибытии, и их сразу можно было заметить в толпе. В Версале, впрочем, они казались чужаками, потому как не были созданы для дворцов, и подобная разновидность архитектуры не предназначалась для таких, как они. Прямо на моих глазах произошло столкновение двух чужеродных миров.
Первым я увидела доктора Куртиуса – с прямой спиной, напряженного, похожего на старого журавля в ослепительном новом костюме, словно очутившегося во дворце по ошибке, на его левой щеке сиял большой синяк.
– Сударь! – вскрикнула я. – Я здесь!
– Это ты? – изумился он, и радостная улыбка расколола его застывшее лицо. – Так и есть. И правда ты. Сколько же тебе теперь лет?
– Сударь мой! Доктор Куртиус!
– Мари, Крошка Мари!
– Крошка. Просто Крошка! – раздался громоподобный возглас.
Вдова, с раскрасневшимся лицом, возбужденная, вышла вперед, опираясь на трость, неуклюже передвигаясь в огромном платье с кринолином. Она курила сигару.
– Мадам! – отозвалась я.
– Ну, ты и доставила нам забот!
– Крошка! – рявкнул кто-то. Ко мне ковылял, прихрамывая, Жак, одетый в явно стеснявший его жилет. – Желтый нанкин. Прямо из Японии.
– О, Жак! – воскликнула я. – Милый Жак! Сколько убийств произошло с тех пор, как мы виделись в последний раз? Скольких повесили на Гревской площади?