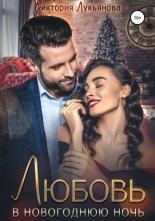Седьмая функция языка Бине Лоран

Один из двух софистов подает знак рукой, и два стража, поставленные у дверей, хватают Соллерса, который ошалело вращает глазами и верещит: «У-тю-тю! О-хо-хо! Нет-нет-нет!»
Байяр спрашивает, почему не голосуют. Старик с клатчем отвечает, что в иных ситуациях единодушие и так не подлежит сомнению.
Стражи укладывают проигравшего на мраморный пол перед трибуной, один из софистов выходит вперед с секатором в руке.
Стражи стягивают с Соллерса брюки, а он вопит прямо под «Раем» Тинторетто. Другие софисты встают с кресел и помогают его усмирить. В суматохе с него спадает маска.
Публика лишь в первых рядах может видеть, что происходит у основания трибуны, но это и так понятно.
Софист с лекарским клювом закладывает мошонку Соллерса между лезвий секатора, обеими руками берется за рукояти и резко сжимает. Готово.
Кристева вздрагивает.
Соллерс издает ни на что не похожий звук, горловое клокотанье, сменяющееся протяжным мяуканьем, которое, отражаясь от полотен мастеров, разносится по всему залу.
Софист с лекарским клювом подбирает оба яичка и прячет их во вторую урну: Симон и Байяр понимают, для чего она предназначалась.
Симон, белее белого, спрашивает у стоящего рядом зрителя: «Обычно на кону палец, разве нет?»
Тот отвечает, что палец – это когда вызываешь соперника, который на одну ступень выше, а Соллерс решил перепрыгнуть, он никогда не участвовал в турнирах и бросил вызов самому великому Протагору. «Раз так, то и цена выше».
Пока Соллерсу, который извивается и ужасающе стонет, оказывают первую помощь, Кристева забирает урну с яичками и выходит из зала.
Байяр и Симон идут за ней.
С урной в руках она торопливым шагом проходит через площадь Святого Марка. Ночь еще только началась, площадь черна от ротозеев, фигляров на ходулях, глотателей огня, комедиантов в костюмах восемнадцатого века, изображающих дуэли на шпагах. Симон и Байяр пробираются сквозь толпу, чтобы не потерять ее из виду. Она исчезает в темных переулках и переходит мосты, ни разу не оглянувшись. Кто-то в костюме Арлекина обнимает ее за талию и хочет поцеловать, она пронзительно взвизгивает, вырывается, как маленький зверек, и убегает прочь вместе с урной. Вот и Риальто позади. Байяр и Симон не вполне уверены, что она знает, куда идет. Где-то далеко, в вышине, слышны хлопки салюта. Кристева спотыкается о ступеньку и чуть не роняет урну. У нее изо рта идет пар: холодно, а пальто осталось во Дворце дожей.
И все-таки есть конец пути: перед ней базилика Санта Мария Глориоза деи Фрари, где, по словам ее мужа, находится «блаженное сердце Светлейшей» – гробница Тициана и его «Красное успение»[491]. В этот час храм закрыт, но она и не собиралась входить.
Ее привела воля случая.
Она поднимается на небольшой мост, выгнувшийся над каналом деи Фрари, и останавливается посередине. Ставит урну на каменный парапет. Симон и Байяр видят ее совсем близко, но они не решаются шагнуть на мост, пройти несколько ступеней и оказаться рядом.
Кристева вслушивается в гул города и топит взгляд черных глаз в ряби, созданной тихим ночным ветром. Мелкий дождь намочил ее короткие волосы.
Из разреза на блузке она достает сложенный вчетверо лист.
Байяр порывается вперед, чтобы вырвать документ, но Симон хватает его и останавливает. Она оглядывается, прищуривается, словно только что их заметила, только узнала об их существовании, и посылает им взгляд, полный ненависти, холодный взгляд, от которого Байяр постепенно каменеет, пока она разворачивает бумагу.
Текст не рассмотреть – слишком темно, но Симон как будто различает мелкий убористый почерк. Лист исписан с двух сторон, от начала до конца.
Спокойно, не спеша, Кристева начинает его рвать.
Чем дальше, тем мельче бумажные клочки, разлетающиеся над каналом.
И наконец остается только черный ветер и негромкий шум дождя.
93
«Как думаешь, Кристева знала или нет?»
Байяр пытается разложить все по полочкам.
Симон растерян.
Допустим, Соллерс не понял, что седьмая функция не работает. Но Кристева?
«Сложно сказать. Если бы я мог прочесть документ…»
Почему она предала мужа? И, с другой стороны, почему сама, пользуясь функцией, не стала участвовать?
«Может, она поступила, как мы, – говорит Симону Баайяр. – Решила сначала проверить».
Симон рассматривает толпу туристов, которые словно в замедленной съемке плывут по пустеющей Венеции. Они с Байяром ждут вапоретто, при них – небольшой чемодан, а поскольку карнавал заканчивается, очередь длинная: путешественников, которые направляются на вокзал или в аэропорт, здесь наберется на целый вагон и маленькую тележку. Подходит вапоретто, но не тот, надо еще ждать.
«Что для тебя реальность?» – задумчиво спрашивает Байяра Симон.
Байяр, естественно, не понимает, к чему он клонит, и Симон уточняет: «Как понять, что ты не в каком-нибудь романе? Как понять, что живешь не в вымысле? Что ты реален?»
Байяр глядит на Симона с искренним любопытством и снисходительно отвечает: «Ты совсем уже? Реальность – это то, что мы проживаем, вот и все».
Вот и их вапоретто, пока он, маневрируя, причаливает, Байяр треплет Симона по плечу: «Слушай, не заморачивайся ты так».
Посадка происходит в беспорядочной толчее, команда вапоретто подгоняет этих дебильных туристов, которые кое-как поднимаются на борт с вещами и детьми.
Когда Симон, дождавшись своей очереди, запрыгивает на судно, матрос, который ведет подсчет, задвигает металлическое ограждение прямо за ним. Оставшийся на набережной Байяр пытается было качать права, но итальянец безразлично отвечает: «Tutto esaurito»[492].
Байяр просит Симона дождаться его на следующей остановке, он сядет в очередной катер. Симон в шутку машет ему рукой: прощай.
Вапоретто уходит. Байяр закуривает. И слышит позади громкие возгласы. Оглядывается и видит двух японцев, они ссорятся. Байяр с интересом подходит ближе. Один из японцев говорит ему по-французски: «Вашего друга только что похитили».
Байяру требуется несколько секунд, чтобы переварить информацию.
Несколько секунд, не больше, чтобы затем встать в позу легавого с единственным вопросом, который легавый должен задать: «С чего это?»
«Потому что он позавчера победил», – отвечает второй японец.
Итальянец, которого побил Симон, – очень влиятельный неаполитанский политик, он не смирился с поражением. Известно ли Байяру о нападении после приема в Ка Реццонико? Неаполитанец поручил своим сбирам сделать так, чтобы Симон не смог участвовать в состязании, потому что опасался его, а теперь, проиграв, решил отомстить.
Байяр провожает взглядом удаляющийся вапоретто. Он быстро оценивает ситуацию, оглядывается по сторонам, видит бронзовую статую какого-то… генерала, что ли (с пышными усами), видит фасад отеля «Даниели», видит лодки, пришвартованные к набережной. Видит гондольера в гондоле, ждущего туристов.
Он запрыгивает в гондолу вместе с японцами. Гондольер не особенно удивлен и, встречая их, что-то напевает по-итальянски, однако Байяр велит ему:
– Давай за вапоретто!
Гондольер делает вид, что не понял, тогда Байяр достает пачку лир, и тот начинает орудовать кормовым веслом.
Вапоретто оторвался уже метров на триста, а мобильных телефонов в 1981 году еще нет.
Гондольер удивлен: странно, вапоретто идет не туда, он движется к Мурано.
Речной трамвай отклонился от маршрута.
Симон на борту ни о чем не подозревает, потому что пассажиры практически сплошь туристы и не знают дороги, так что, за исключением пары-тройки итальянцев, которые препираются с кондуктором (на итальянском), никто и не догадывается, что взят неверный курс. Один скандалящий итальянец никого не впечатляет, пассажиры думают, что это такой фольклор, и вапоретто причаливает к острову Мурано.
Сильно отставшая гондола Байяра пытается наверстать время, комиссар и японцы подгоняют гондольера, чтобы быстрее греб, выкрикивают имя Симона, хотят предупредить, но катер слишком далеко, а Симону обращать на них внимание нет причин.
Зато спиной он вдруг чувствует острие ножа и слышит, как сзади произносят: «Prego». Он понимает, что придется сойти. И подчиняется. Туристы, спешащие на самолет, ножа не видят, и вапоретто отправляется дальше.
Симон на набережной, он уверен, что сзади троица, напавшая на него в масках недавним вечером.
Его вталкивают в одну из стеклодувных мастерских, выходящих прямо на набережную. Внутри мастер разминает кусок стеклянной массы, только что из печи, и Симон завороженно следит, как вязкий шар надувается, вытягивается, обретает форму: всего несколько взмахов инструментами – и появляется фигурка вздыбленной лошади.
Возле печи – пузатый мужчина в непарном костюме, с залысиной; Симон его узнает: это его соперник из «Ла Фениче».
«Benvenuto!»[493]
Симон лицом к лицу с неаполитанцем, его окружили три сбира. Стеклодув бесстрастно продолжает делать лошадок.
«Bravo! Bravo! Хотел лично тебя поздравить перед отъездом. Палладио – ловкий ход. Простой, но ловкий. И Порция тоже. Меня-то это не убедило, но судей – да, vero? О, Шекспир… Надо было мне сказать о Висконти… Видел „Чувство“? Про иностранца в Венеции, для которого все очень плохо заканчивается».
Неаполитанец подходит к стеклодуву, который деловито превращает текучую массу во вторую лошадку. Достает сигару, поджигает ее от раскаленного стекла и поворачивается к Симону с нехорошей улыбкой.
«Не хочу, чтобы ты уехал, не получив от меня скромный сувенир. Как это по-французски сказать? „Воздать по заслугам“, si?»
Один из сбиров крепко держит Симона сзади за голову, не давая шевельнуться. Симон пытается вырваться, но второй бьет его под дых так, что ему не набрать воздуха, а третий хватает за правую руку.
Все пихают Симона вперед, сбивают с ног и вытягивают его руку на ремесленном столе. Стеклянные лошадки падают на пол и разбиваются. Стеклодув отпрянул, но, судя по всему, он не удивлен. Симон встречается с ним взглядом, по выражению глаз понимает, что этому человеку сделали предложение, от которого нельзя отказаться, и начинает паниковать: он орет и бьется, но крик – непроизвольный, ведь помощи ждать неоткуда, он не знает, что подкрепление на подходе, что Байяр с японцами догоняют его на гондоле и обещали гондольеру заплатить втройне, если он домчит их быстрее ветра.
«Che dito?»[494] – спрашивает стеклодув.
Чтобы было быстрее, Байяр и японцы гребут вместо весел своими чемоданами, да и сам гондольер пыхтит изо всех сил, ведь даже не зная, из-за чего весь сыр-бор, он понял, что дело серьезное.
«Какой палец? – спрашивает неаполитанец Симона. – Сам выберешь?»
Симон брыкается, как конь, но троица твердо держит его руку на столе. Вопрос, не персонаж ли он романа, отпал, сейчас им движет инстинкт самосохранения, он отчаянно пытается вырваться, но не может.
Гондола наконец причаливает, Байяр швыряет гондольеру все свои пачки лир и выпрыгивает на набережную вместе с японцами, но перед ними линия стеклодувных мастерских, и они не знают, куда повели Симона, поэтому суются по очереди во все подряд, окликая рабочих, продавцов, туристов, но Симона никто не видел.
Неаполитанец затягивается и приказывает: «Tutta la mano»[495].
Стеклодув меняет щипцы на более массивные и перехватывает запястье Симона.
Ворвавшись в первую мастерскую, Байяр и японцы должны описать итальянцам молодого француза, но их не понимают – слишком быстро они тараторят, тогда Байяр выскакивает наружу и бросается в соседние двери, но там француза тоже никто не видел; комиссар прекрасно знает, что вот так, сломя голову, следствие не ведут, однако интуиция ищейки подсказывает, что мешкать в такой ситуации нельзя, даже если не знаешь всех обстоятельств, и он кидается из мастерской в мастерскую, из лавки в лавку…
Он не успел: разрывая мышцы и сухожилия и дробя кости, стеклодув смыкает щипцы на запястье Симона, пока оно не ломается со зловещим хрустом; правая кисть отрывается от руки, и ее заливает фонтаном крови.
Неаполитанец смотрит на искалеченного соперника, рухнувшего на пол, и пару секунд словно колеблется.
Хватит ли этого для сатисфакции?
Он снова затягивается, выдувает несколько колец и произносит: «Andiamo»[496].
Услыхав крик Симона, Байяр и японцы вздрагивают – они наконец нашли нужную мастерскую, где видят, как он, без сознания, истекает кровью среди разбитых лошадок.
Байяр знает, что нельзя терять ни секунды. Он ищет оторванную руку – и не находит, шарит взглядом по полу, но там только осколки лошадок, которые ломаются под его подошвами. Ясно, что если в ближайшие несколько минут ничего не сделать, Симон умрет от потери крови.
Один из японцев выхватывает из еще горячей печи инструмент, похожий на лопатку, и прижимает его к ране. Каутеризация совершается с отвратительным свистом. От боли Симон приходит в чувство и ошалело орет. Запах паленой плоти долетает до соседней лавки, привлекая внимание туристов, которым невдомек, что за драма развернулась в стеклодувной мастерской.
Байяр думает о том, что рану прижгли, и значит, руку пришить уже не удастся, Симон все равно останется калекой; схвативший кочергу японец как будто прочел его мысли и показывает на печь – ничего не поделаешь: внутри потрескивают, догорая, пальцы обугленной кисти, изломанные, как у скульптур Родена.
Часть пятая
Париж
94
«Не может быть! Эта дрянь Тэтчер позволила помереть Бобби Сэндсу!»
Симон топает ногами на П.П.Д.А., который в информационном выпуске «Антенн-2» сообщил о смерти ирландского активиста, шестьдесят шесть дней не прекращавшего голодовку.
Байяр выходит из кухни взглянуть на экран. «Ну, вообще-то, покончить с собой не запретишь», – комментирует он.
«Нет, ты себя послушай, фараон вонючий! – набрасывается на него Симон. – Ему было двадцать семь!»
Байяр пытается возразить: «Он входил в террористическую организацию. ИРА убивают людей, так ведь?»
Симон задыхается от злости: «Прямо слова Лаваля[497] о Сопротивлении! Не хотел бы я, чтобы в сороковом мною занимался легавый вроде тебя!»
Байяр чувствует, что лучше промолчать, подливает гостю портвейна, ставит на журнальный стол плошку с колбасным ассорти и возвращается хлопотать на кухню.
П.П.Д.А. переходит к убийству испанского генерала и запускает репортаж о ностальгии по франкизму – это когда не прошло и трех месяцев после попытки переворота в мадридском парламенте[498].
Симон снова углубляется в журнал, который купил по пути и начал читать в метро. Его заинтриговал заголовок: «Сорок два самых популярных интеллектуала: итоги голосования». Журнал опросил пятьсот «деятелей культуры» (Симон морщится) и предложил назвать трех самых авторитетных, по их мнению, представителей французской мысли из ныне живущих. Первый – Леви-Стросс; второй – Сартр; третий – Фуко. Следом – Лакан, Бовуар, Юрсенар, Бродель[499]…
Симон ищет в списке Деррида, забыв, что его уже нет. (И думает, что он вошел бы в первую тройку, но теперь знать этого нельзя.)
Б.А.Л. десятый.
Мишо[500], Беккет, Арагон, Чоран, Ионеско, Дюрас.
Соллерс двадцать четвертый. Здесь же можно увидеть, кто и как проголосовал, а поскольку Соллерс тоже участвовал в опросе, Симон обнаруживает, что он проголосовал за Кристеву, а Кристева проголосовала за него. (Соллерс и Б.А.Л. – такой же обмен любезностями.)
Симон втыкает вилку в колбаску и кричит Байяру: «Кстати, о Соллерсе что-нибудь слышно?»
Байяр выглядывает из кухни с тряпкой в руке: «Он вышел из больницы. Пока лежал, Кристева все время была рядом. Мне сказали, что он вернулся к нормальной жизни. Насколько я знаю, он похоронил свои тестикулы на острове-кладбище в Венеции. И говорит, что два раза в год будет ездить туда, чтобы их помянуть – по разу каждую».
Небольшая заминка, прежде чем Байяр решается добавить – осторожно, отводя глаза: «Судя по всему, он оклемался».
Альтюссер двадцать пятый: убийство жены не сильно испортило ему репутацию, – думает Симон.
«Слушай, вкусно пахнет – что там у тебя?»
Байяр возвращается на кухню: «Ты пока оливки поешь».
Делез двадцать шестой, поделил место с Клер Бретеше[501].
Дюмезиль, Годар, Альбер Коэн…[502]
Бурдье только тридцать шестой. Симона аж распирает.
Коллектив «Либерасьон» все-таки проголосовал за Деррида, хоть и за мертвого.
Гастон Деффер и Эдмонда Шарль-Ру[503] дружно проголосовали за Бовуар.
Анн Синклер проголосовала за Арона, Фуко и Жана Даниеля[504]. Симон думает, что ее он бы, пожалуй, трахнул.
Некоторые ни за кого не проголосовали, заявив, что настоящих интеллектуалов не осталось.
Мишель Турнье[505] ответил: «Кроме себя, даже не знаю, кого назвать». В другое время Симон, наверное, рассмеялся бы. Габриель Мацнев[506] написал: «Первое имя – мое собственное: Мацнев». Симон задается вопросом, описан ли этот тип регрессивного нарциссизма – желание назвать самого себя – в психоаналитической таксономии.
П.П.Д.А. (проголосовавший за Арона, Грака и д’Ормессона[507]) говорит: «У Вашингтона все основания радоваться повышению доллара: пять и четыре десятых франка…»
Симон пробегает по списку проголосовавших и не может сдержать возмущения: «Твою мать, эта гнида Жак Медсен[508]… бездарь Жак Дютур[509]… и рекламщики, конечно, новое отродье… Франсис Юстер?![510] И этот подонок Элькабаш – за кого он проголосовал?.. за старого мракобеса Повеля!..[511] и за нашего фашика Ширака, ну охренеть!.. Козлы!»
Байяр выглядывает в гостиную: «Ты мне?»
Симон бормочет нечто невразумительно-нечленораздельное; Байяр возвращается к плите.
Выпуск П.П.Д.А. заканчивается, после новостей – прогноз погоды Алена Гийо-Петре[512], который обещает, что этот холодный май (12 градусов в Париже и 9 в Безансоне) наконец станет солнечным.
После рекламы появляется голубая заставка, на которой под помпезную музыку с тарелками и духовыми возникает надпись, сообщающая о начале дебатов «в преддверии выборов президента Республики».
После заставки показывают двух журналистов, которые будут вести эфир.
«Жак, давай сюда! – кричит Симон. – Начинается». Байяр выходит в гостиную к Симону с двумя бутылками пива и кубиками сыра в обертке. Открывает бутылки, пока Жан Буассонна, выбранный Жискаром журналист, обозреватель радиостанции «Европа-1», в сером костюме и полосатом галстуке объявляет программу вечера, всем своим видом давая понять, что сбежит в Швейцарию, если победят социалисты.
Рядом Мишель Котта, журналистка РТЛ[513]: черная копна на голове, блестящая помада, блузка цвета фуксии, лиловый жилет, нервно улыбается и делает вид, будто что-то записывает.
Симон не слушает РТЛ и спрашивает, что это за матрешка в розовой кофточке. Байяр глуповато усмехается.
Жискар выражает надежду, что дебаты будут полезными.
Симон пытается зубами отогнуть язычок на обертке кубика с ветчиной, у него не получается, он нервничает, а Миттеран говорит Жискару: «Для вас, конечно, месье Ширак – плачея»…
Байяр берет кубик из руки Симона и снимает алюминиевую обертку.
Жискар и Миттеран предъявляют друг другу имена неудобных сторонников: Ширак в то время считался представителем устойчивого правого крыла, ультралиберального, на грани фашизма (18 %), а Марше был кандидатом от коммунистов брежневской эпохи загнивающего сталинизма (15 %). Оба финалиста, конечно, нуждаются в их голосах, чтобы выйти во второй тур.
Жискар упирает на то, что в случае переизбрания ему не придется распускать Национальную ассамблею, а вот его соперник будет либо делить власть с коммунистами, либо окажется президентом без большинства: «Нельзя вести за собой народ вслепую. Это народ, способный к самоуправлению, он должен знать, куда идет». Симон обращает внимание, что Жискар не умеет склонять глагол распускать, и говорит Байяру, что политики чудовищно малограмотны. Байяр в ответ, машинально: «Всех коммуняк – в Москву». Жискар – Миттерану: «Французам не скажешь: „Я хочу многое изменить, все равно с кем… пусть даже с нынешней ассамблеей“, потому что тогда вы ее не распустите».
Жискар упирает на парламентскую нестабильность, поскольку не представляет себе ассамблею с социалистическим большинством, и поэтому ответ Миттерана звучит достаточно церемонно: «Я хочу победить на президентских выборах, я рассчитываю победить и, победив, сделаю все допустимое в рамках закона, чтобы выиграть на парламентских выборах. А если вы не способны представить, что будет происходить со следующего понедельника, не чувствуете умонастроения Франции, ее исключительную жажду перемен, значит, вы вообще не понимаете, что творится в стране». Байяр поносит большевистскую заразу, а Симон тем временем распознает двойное высказывание: совершенно очевидно, что Миттеран обращается не к Жискару, а ко всем, кто Жискара ненавидит.
Дискуссия о парламентском большинстве тянется уже полчаса, Жискар исподволь то и дело пугает жупелом в виде министров-коммуняк, и это начинает напрягать, – думает Симон, – но неожиданно Миттеран, который до сих пор только отбивался, наконец решает атаковать в ответ: «Что касается ваших… антикоммунистических, так сказать, посылов, позвольте заметить, что здесь стоит сделать некоторые поправки. А то все как-то слишком просто. (Пауза.) Как вы понимаете, коммунистов много среди рабочих. (Пауза.) Следуя вашей логике, можно подумать: зачем они нужны? Они трудятся на производстве, платят налоги, погибают в войнах, чуть что – сразу они. И при этом они не могут составить во Франции большинство?»
Симон, который собрался подцепить еще одну колбаску, замирает с вилкой. И пока журналисты перескакивают на какой-то малоинтересный вопрос, он, как и Жискар, понимает, что вектор поединка меняется; действующий президент, в свою очередь, вынужден защищаться и сбавляет тон, прекрасно осознавая, что поставлено на кон в нынешнюю эпоху, когда уравнение рабочий = коммунист стало аксиомой: «Но… я вовсе не нападаю на коммунистический электорат. За семь лет, господин Миттеран, я ни одним обидным словом не обмолвился о французском рабочем классе. Ни разу! Я уважаю его труд, его активность и даже политическую позицию».
Симон разражается недобрым смехом: «И то верно, ты ведь каждый год ходишь лопать шпикачки на праздник „Юманите“. Между двумя сафари у Бокассы чокаешься с металлургамииз ВКТ[514], ха, известное дело».
Байяр глядит на часы и возвращается на кухню присмотреть за стряпней, пока журналисты расспрашивают Жискара об итогах президентства. Послушать его, так он молодец. Миттеран насаживает на нос большие очки, желая показать, что все как раз наоборот, и его оппонент продажен – дальше некуда. Жискар в ответ цитирует Ривароля[515]: «Если вы ничего не сделали, вам можно только позавидовать. Но не стоит этим злоупотреблять, – и наступает на больную мозоль: – Ну правда, вы разглагольствуете с шестьдесят пятого. А я с семьдесят четвертого руковожу Францией». Симон нервничает: «Знаем мы как!», но понятно, что возразить тут особо нечего. Байяр из кухни отвечает: «Зато советская экономика процветает!»
Миттеран ловит момент и вонзает острие поглубже: «Вы, похоже, повторяете свой же рефрен семилетней давности: „пассеистский настрой“. Досадно, что ваш настрой стал за это время пассивным».
Байяр смеется: «Ага, эту пилюлю он ему не простил. Семь лет жевал. Ха-ха».
Симон молчит, молчание – знак согласия: неплохо сказано, но импровизация кажется слишком уж хорошо подготовленной. Зато теперь Миттеран может вздохнуть с облегчением – как фигурист, только что выполнивший тройной аксель.
Следует пикировка из-за французской и мировой экономики, чувствуется, что оба героя шоу работают на совесть, и тут Байяр приносит наконец дымящееся блюдо: тажин из ягнятины. «Кто научил тебя готовить?» – удивляется Симон. Жискар рисует ужасающую картину будущего Франции в руках социалистов. Байяр Симону: «Первую жену я встретил в Алжире. Можешь умничать со своей семиологией, но обо мне ты знаешь не все». Миттеран напоминает, что процессы национализации в сорок пятом запустил не кто иной, как де Голль. Байяр откупоривает бутылку красного, кот-де-бон семьдесят шестого года. Симон пробует тажин: «Черт, вкусно!» Миттеран то снимает, то надевает очки. «Семьдесят шестой – очень хороший год для бургундских вин», – объясняет Байяр. «Такая страна, как Португалия, национализировала банки, и она не социалистическая». Симон и Байяр смакуют тажин и кот-де-бон. Байяр специально приготовил блюдо, для которого не нужен полный комплект столовых приборов: тушеное мясо в соусе размягчилось настолько, что отделяется легко, стоит только надавить вилкой. Симон знает, что Байяр знает, что он это знает, но оба делают вид, что так и надо. Вспоминать Мурано никто не хочет.
Миттеран между тем показывает клыки: «Бюрократию устроили вы. Притом что у вас власть. Сегодня вы пеняете в своих проповедях на зло, идущее от администрации, а откуда оно взялось? Власть ваша, вам и отвечать! Вы бьете себя в грудь за три дня до выборов – естественно, я понимаю зачем, но с какой стати мне верить, что следующие семь лет вы действовали бы иначе, чем семь лет предыдущих?»
Симон отмечает причудливое использование условного наклонения, но сочный тажин и горькие воспоминания мешают ему как следует сосредоточиться.
Жискар не ожидал внезапной агрессии и пытается противопоставить ей свое обычное высокомерие: «Прошу вас, давайте сохранять подобающий тон». Однако теперь Миттеран готов лезть на рожон: «Я говорю так, как считаю нужным».
И удар под дых: «Полтора миллиона безработных».
Жискар пытается поправить: «Лиц, ищущих работу».
Но теперь Миттеран ничего не пропускает: «Мне знакома семантическая казуистика, позволяющая избегать слов, которые опасно произносить».
И продолжает: «При вас растут инфляция и безработица, но хуже того – порок, болезнь, рискующая стать смертельной для общества: 60 процентов безработных – женщины, большинство – молодые, и это чувствительно задевает достоинство мужчин и женщин».
Сначала Симон не придает значения. Речь у Миттерана все быстрее, все напористее, точнее и красочнее.
Жискар загнан в угол, но без боя сдаваться не собирается; провинциальный нобиль старается не пришепетывать и бросает сопернику-социалисту: «Минимальная зарплата – насколько больше?» Мелкие предприятия все равно не выживут. А социалисты так безответственны, что заявили в программе о снижении социальных порогов и расширении прав наемных работников на предприятиях с персоналом меньше десяти человек.
Буржуй из Шамальера не намерен капитулировать.
Соперники обмениваются выпадами.
Но Жискар допускает ошибку, попросив Миттерана назвать курс марки – «текущий».
«Я не ваш ученик, – отвечает Миттеран, – и вы здесь не президент Республики».
Симон задумчиво опустошает бокал с красным: есть в этой фразе неуловимые признаки «автореализации» и, следовательно, перформативность…
Байяр идет за сыром.
«Я против отмены семейного коэффициента… – говорит Жискар. – Я за возврат к налоговой ставке, назначаемой в соответствии с типом дохода…» Педантичный отличник политехнической школы излагает целый ряд мер, но слишком поздно: он проиграл.
Однако дебаты продолжаются, все так же жестко и методично: атомная энергия, нейтронная бомба, Общий рынок, отношения Восток—Запад, оборонный бюджет…
Миттеран: «Не имеет ли в виду месье Жискар д’Эстен, что социалисты – плохие патриоты и не хотят защищать свою страну?»
Жискар, за кадром: «Ничего подобного».
Миттеран, не глядя на него: «Раз это не имелось в виду, значит, сказано было впустую».
Симон в замешательстве хватает с журнального стола пиво, прижимает рукой, хочет снять крышку, но бутылка выскальзывает и падает на пол. Байяр ждет, что сейчас Симон взорвется от ярости: он знает, как мучительны для друга повседневные напоминания о его увечье, и, убирая лужу с паркета, торопливо произносит: «Ничего страшного».
А у Симона на лице – странное недоумение. Он показывает на Миттерана и говорит:
– Взгляни на него. Ничего не замечаешь?
– А что?
– Ты ведь сначала слушал? Скажешь – плохо?
– Да нет, всё куда лучше, чем семь лет назад, однозначно.
– Да я про другое. Он ненормально хорош.
– То есть?
– Сложно сказать, но после первого получаса он вертит Жискаром, как хочет, и я не могу объяснить, каким образом. Какая-то неуловимая техника: я ее чувствую, но не понимаю.
– Ты хочешь сказать…
– Смотри, смотри.
Байяр видит, как Жискар из кожи вон лезет, доказывая, что социалисты – безответственные ребята, которым ни в коем случае нельзя доверять военный аппарат и средства ядерного устрашения: «Когда речь заходит об обороне, вы, наоборот… вы ни разу не проголосовали за оборонный курс, вы выступили против всех законов, связанных с программами обороны. Эти законы были представлены вне дискуссии по проекту бюджета, и можно было полагать, что либо ваша партия, либо ваше… либо вы сами, осознавая огромную важность вопроса безопасности Франции, отбросив всякую предвзятость, отдадите свой голос за законы военной программы. Подчеркиваю, что вы не проголосовали ни за один из трех законов военной программы… в частности, 24 января 1963…»
Миттеран даже не удостаивает его ответом, и Мишель Котта переходит к следующей теме, но оскорбленный Жискар настаивает: «Это крайне важно!» Мишель Котта вежливо возражает: «Разумеется! Конечно, господин президент!» И плавно переходит к африканской политике. Буассонна явно думает о другом. Всем пофиг. Его больше никто не слушает. Как будто Миттеран сровнял его с землей.
До Байяра потихоньку доходит.
Жискар все глубже вязнет.
Симон формулирует вывод: «Миттеран получил седьмую функцию языка».
Пока Байяр пытается собрать этот пазл, Миттеран и Жискар дебатируют по поводу военного вмешательства Франции в Заире.
«Симон, мы же убедились в Венеции, что функция не действует».
Миттеран добивает Жискара на эпизоде с высадкой в Колвези[516]: «Короче, вернуть их можно было раньше… если бы вовремя подумали».
Симон тычет пальцем в телевизор «Локатель».
«Эта действует».
95
В Париже дождь, на площади Бастилии начинаются торжества, но верхушка социалистов еще в штабе партии, на рю Сольферино где разряды радости пробегают по наэлектризованным рядам партийных сторонников. Победа в политике – всегда итог и в то же время начало, вот почему возбуждение от нее переходит в головокружительную эйфорию. Алкоголь между тем льется рекой, растут горы канапе и птифуров. «Ничего себе!» – наверное, мог сказать Миттеран.
Жак Ланг по пути без конца пожимает руки, целует щеки, попадает в чьи-то объятия. Улыбается Фабиусу, который после объявления результатов заплакал, как ребенок. На улице, под дождем, песни и крики. Сон наяву и исторический момент. Лично он уже знает, что будет министром культуры. Моати размахивает руками, как дирижер. Бадентер и Дебре исполняют импровизированный менуэт. Жоспен и Килес чокаются за здоровье Жана Жореса. Молодежь лезет на решетку перед зданием. Щелчки и вспышки фотоаппаратов – как тысячи маленьких молний в великой буре Истории. Ланг не знает, за что взяться. Его окликают: «Месье Ланг!»
Он оглядывается и оказывается нос к носу с Байяром и Симоном.
Ланг удивлен и сразу понимает, что эти двое пришли не праздновать.
Начинает Байяр: «Не могли бы вы уделить нам пару минут?» Он уже достал удостоверение. Ланг видит триколор.
– По какому поводу?
– Насчет Ролана Барта.
Имя скончавшегося критика для Ланга как невидимая пощечина.
«Послушайте, э… Нет, правда, сейчас неудачный момент. Как-нибудь позже, на неделе, ладно? Обратитесь в секретариат, вам обязательно назначат встречу. Извините…»
Но Байяр удерживает его за рукав: «Я настаиваю».
«Что-то не так, Жак?» – спрашивает проходящий мимо Пьер Жокс[517].
Ланг высматривает полицейских, которые дежурят у ограды, перед входом. Не знает, как поступить. До этого вечера полиция служила их соперникам, но теперь он запросто может потребовать, чтобы этих двоих выпроводили.
На улице звучит «Интернационал», ритм дружно задают клаксоны.
Симон задирает правый рукав и произносит: «Пожалуйста. Это ненадолго».
Ланг уставился на культю.
– Жак? – произносит Жокс.
– Все хорошо, Пьер. Сейчас приду.
Он находит свободный кабинет – на нижнем этаже, с окном во двор между оградой и зданием. Выключатель не работает, но там достаточно света от огней снаружи, так что все трое стоят в полумраке. Садиться ни у кого нет желания.
Теперь говорит Симон: «Месье Ланг, как вам в руки попала седьмая функция?»
Ланг вздыхает. Симон и Байяр ждут. Миттеран – президент. Можно рассказать. И конечно – Симон уверен – Ланг хочет рассказать.
Он организовал обед с Бартом, потому что узнал, что к нему попала рукопись Якобсона.
– Как? – спрашивает Симон.
– В смысле – «как»? – переспрашивает Ланг. – Как рукопись оказалась у Барта или как я узнал, что она у него?