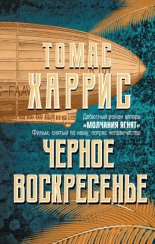Бессмертники Бенджамин Хлоя

— Это и я знаю. Но все дело в углах, геометрия должна быть безупречной, в этом-то и фокус — в расчётах. — Кларин бокал давно пуст, но в кои-то веки она не замечает. — Но самая заветная моя мечта, самый мой любимый номер — «Ясновидение». Придумал его иллюзионист Чарлз Моррит. Зрители давали ему предметы — золотые часы, к примеру, или портсигар, — а ассистентка с завязанными глазами узнавала, что есть что. Нечто похожее делали и другие, с кодовыми фразами: «Интересный предмет, передайте, пожалуйста», а на деле это не просто фраза, а шифр, но Моррит каждый раз говорил: «Да, спасибо» — и только. Секрет он унёс в могилу.
— Повязка была прозрачная.
— Ассистентка стояла лицом к стене.
— Зрители подставные.
Клара качает головой:
— Ни в коем случае, иначе фокус не стал бы таким знаменитым. Над разгадкой бьются уже больше века.
Радж смеётся:
— Чёрт знает что!
— Я же говорила! Сама не один год бьюсь.
— Тогда, пожалуй, — отвечает Радж, — надо нам биться усерднее.
12
Однажды, когда они всей семьёй отдыхали в Лавалетте, штат Нью-Джерси, Шауль разбудил их на рассвете. Герти, вставшая последней, ворчала, а он повел их из домика с жёлто-голубыми ставнями по тропинке, ведущей к пляжу. Все шли босиком, некогда было обуваться, и едва добрались до воды, Клара всё поняла.
— Море как кетчуп, — заметил Саймон, хотя ближе к горизонту оно алело, точно спелый арбуз.
— Нет, — поправил Шауль, — как Нил. — И смотрел на море с такой верой, что Клара с ним согласилась.
Спустя несколько лет, уже в школе, Клара узнала, что такое «красные приливы»: из-за скоплений морских водорослей прибрежные воды меняют цвет и становятся ядовитыми. Новое знание, как ни странно, опустошило ей душу. Нет больше в красном море никакой тайны, нечего ломать голову над разгадкой. Ей дали знания, но взамен забрали нечто другое — чудо преображения.
Когда Клара достаёт у зрителя из уха монету или превращает шарик в лимон, цель её — не обмануть людей, а одарить иным знанием, расширить их представление о возможном. Она стремится не перечеркнуть реальность, а снять завесу, показать жизнь со всеми противоречиями и странностями. Лучшие фокусы — те, что мечтает показывать Клара, — они не лишают жизнь реальности. Они наполняют жизнь тайной.
В восьмом веке до нашей эры Гомер рассказал о Протее, морском боге и пастухе тюленей, умевшем принимать любую наружность; пойманный, он мог предсказывать будущее и, чтобы этого избежать, менял облик. Спустя почти три тысячи лет изобретатель Джон Генри Пеппер продемонстрировал в Лондонском политехническом институте новую иллюзию под названием «Протей: мы здесь, но нас нет». Спустя ещё столетие Клара и Радж ищут доски на свалке строительного мусора на Рыбацкой пристани. В столь поздний час вокруг никого, морские львы и те спят, выставив из воды носы, — и они увозят на грузовичке Раджа девять досок. В полуподвале дома на бульваре Сансет, где Радж с четырьмя товарищами снимает квартиру, Радж мастерит ящик метр на метр восемьдесят. Клара оклеивает ящик изнутри обоями, белыми с золотым узором, как у Джона Генри Пеппера. Внутри Радж устанавливает две зеркальные створки, тоже оклеенные с одной стороны обоями, так что в сложенном виде их не отличишь от стенок. Когда створки открыты и края соприкасаются, внутри образуется свободный угол, в самый раз для Клары, а в зеркалах отражаются боковые стенки.
— Красота! — ахает Клара.
Ни малейшего изъяна! Клара исчезает средь бела дня. Здесь, в нашем привычном мире, существует другой, невидимый глазу.
Прошлое Раджа ничуть не напоминает сказку. Мать его умерла от дифтерии, когда ему было три года; отец был старьёвщик — рылся в грудах мусора в поисках стекла, металла, пластика и продавал их торговцам утилем. А самые негодные обломки приносил Раджу, и тот мастерил из них крохотных изящных роботов и выстраивал рядком на полу в их однокомнатной квартире.
— Он болел туберкулёзом, — рассказывает Радж, — вот и отправил меня сюда. Он знал, что умирает, знал, что больше у меня никого нет, и если он хочет меня вытащить, то надо поторопиться.
Они лежат нос к носу в Клариной постели.
— Как ему удалось?
Радж отвечает не сразу.
— За деньги. Заплатил одному типу, тот сделал фальшивые документы, по ним получалось, что я брат Амита. Другого пути не было, и отец истратил всё, что имел. — В глазах у него новое выражение — то ли тревога, то ли беззащитность. — Теперь уже я легальный, если ты об этом хотела спросить.
— Нет, не об этом. — Клара, переплетя пальцы с его, сжимает руку. — А отец к тебе сюда приезжал?
Радж качает головой:
— Он прожил ещё два года. Но так и не сказал мне, что болен, не хотел, чтобы я приехал с ним проститься. Наверное, боялся, что если я вернусь, то так и останусь подле него. Я один у него был.
Клара представляет своего отца и отца Раджа. В её воображении они друзья, где бы ни были сейчас: играют в шахматы в призрачных парках, ведут богословские споры в дымных райских барах. Клара верит в христианский рай, хоть ей и не положено. Иудейская версия — Шеол, страна забвения, — кажется ей совсем уж беспросветной.
— Что бы они о нас подумали? — спрашивает Клара. — Еврейка с индусом!
— Недоиндус, — Радж щиплет её за кончик носа. — С недоеврейкой.
Радж придумывает себе новую мифическую биографию. Он — сын сына легендарного факира, передавшего самому Говарду Тёрстону секреты индийской магии: как за несколько секунд вырастить из косточки дерево манго; как сидеть на гвоздях; как взбираться вверх по верёвке, подброшенной в воздух. Так и будет он рассказывать антрепренёрам и организаторам выступлений, так и будет написано в программках, и всякий раз его радость будет омрачена стыдом. Ведь неизвестно, на кого он больше похож на самом деле. То ли, как вымышленный внук факира, забирает то, что принадлежит ему по праву, то ли, как жулик Говард Тёрстон, унес с Востока на Запад краденые секреты.
— Не понял, — говорит Радж. — Почему «В поисках бессмертия»?
Они сидят на Кларином диване. Апрель, четыре утра, моросит дождик, но из пекарни внизу поднимается жар, и они открыли окно.
— Что же тут непонятного? — Клара в мешковатой футболке и трусах-боксерах Раджа, её босые ноги на его коленях. — Я никогда не умру.
— Хвастунишка! — Он сжимает её икру. — Я знаю, что ты имеешь в виду. Только не пойму, с чего ты взяла, что играешь именно в это.
— Во что же я играю?
— В перевоплощение. Платок превращается в розу. Шарик — в лимон. Венгерская танцовщица, — он шевелит бровями — Клара рассказывала ему о бабушке, — в звезду американского цирка.
У Раджа большие планы: новые костюмы, новые визитки, более вместительные залы. Он разучивает индийский трюк с иглами: иллюзионист глотает горсть иголок и нитку, открывает рот — публике на обозрение, — а затем выплёвывает те же иголки уже нанизанными на нитку. Он даже договорился о выступлении в театре «Зинзанни», чей хозяин — один из его клиентов в автомастерской.
Клара не помнит точно, когда Радж решил войти в дело, и не помнит, когда фокусы стали для них «делом». Но опять же, она много чего забывает. Зато она любит Раджа, его неуёмную энергию, чудесное умение оживлять предметы. Любит его тёмные прямые волосы, что вечно лезут в глаза, любит его имя, Раджаникант Чапал. Для трюка с исчезающей клеткой он смастерил механическую канарейку, гипсовую, с полым корпусом и настоящими перьями, и приводит её в движение с помощью трости. Кларе нравится, как птица оживает в его руках.
Вершина мастерства Клары — не «Хватка жизни», а сила воли, что позволяет ей не обращать внимания на публику, их пейджеры, их варёные джинсы. На сцене она поворачивает время вспять, к тем дням, когда люди верили в чудеса, а спириты общались с мёртвыми, когда считалось, будто мёртвым есть что сказать живым. Уильям и Айра Дэвенпорт — братья из Рочестера, штат Нью-Йорк, вызывавшие духов, сидя в шкафу со связанными руками, — самые знаменитые медиумы Викторианской эпохи, но вдохновили их сёстры Фокс. В 1848-м, за семь лет до первого выступления Дэвенпортов, Кейт и Маргарет Фокс услышали стук в спальне фермерского дома в Хайдсвилле. Дом Фоксов вскоре прозвали «нехорошим», а девочки стали разъезжать с гастролями по стране. В Рочестере врачи, осматривавшие сестёр, утверждали, что звуки, которые слышатся в их присутствии, они производят сами, щёлкая коленными суставами. Однако другая группа исследователей, побольше, не нашла убедительного объяснения ни звукам, ни системе, которую сёстры использовали для перевода посланий, — шифру, основанному на счёте.
Однажды в мае Клара врывается в ванную, когда Радж стоит под душем:
— Время!
Радж приоткрывает запотевшую дверь душевой кабинки:
— Что?
— «Ясновидение», трюк Моррита! Его разгадка во времени! — И Клара смеётся — до того всё просто, до того очевидно.
— Тот самый трюк с чтением мыслей? — Радж отряхивается по-собачьи, обдав стены фонтаном брызг. — Как они это делали?
— Он и ассистентка, оба одновременно считали, — на ходу развивает свою мысль Клара. — Он знал, что публика ждёт шифра, основанного на словах. Как обойти эту ловушку? Нужен код, основанный на молчании — на длине пауз между словами.
— И паузы соответствуют… буквам? Подумай, сколько времени уйдёт на то, чтобы составлять целые слова.
— Нет, не буквам. Возможно, у них был список, список самых ходовых предметов. Ну, знаешь, кошельки, бумажники, шляпы и прочее… И если Моррит говорил «спасибо» спустя двенадцать секунд, ассистентка знала: это шляпа. А чтобы угадать, какая шляпа, у них был другой список — список материалов: одна секунда — кожаная, две — фетровая, три — вязаная… Можем попробовать, Радж. Знаю, у нас получится.
Радж смотрит на неё как на чокнутую, и он недалёк от истины, да разве это её остановит? Даже спустя годы, когда они исполняли этот трюк уже сотни раз, — даже когда Клара была беременна, даже после рождения Руби, — никогда Радж не казался ей ближе, чем во время «Ясновидения». Вместе они балансируют на грани провала: Радж держит предмет, а Клара ждёт, ждёт условного знака, перебирая в памяти нумерованные списки. Кроссовка «Рибок». Пачка презервативов. Резкий всеобщий вздох — угадала! Немудрено, что после представления ей нужно бокала два-три, чтобы успокоить нервы, и лишь спустя несколько часов, когда все чувства притупятся, она сможет наконец уснуть.
За два дня до премьеры в театре «Зинзанни» Радж приходит к Кларе, отработав смену в мастерской. Им предстоит всю ночь репетировать «Исчезающую клетку».
— Купила проволоку? — кричит Радж, швыряя куртку на стул.
— Не помню. — У Клары перехватывает горло. Радж просил её сходить в магазин для художников на Маркет-стрит за толстой медной проволокой, чтобы он мог доделать клетку. — Кажется, забыла.
— Что значит «кажется»? Одно из двух: или ты ходила в магазин, или нет.
Клара не рассказывала Раджу о провалах в памяти. Вот уже несколько месяцев их не было, но вчера Радж работал сверхурочно, и некому было отвлечь её от мыслей, что кишат в мозгу, когда она остаётся одна: о смерти отца, о разочаровании матери. Как бы хотелось, чтобы Саймон увидел её сейчас — не на крохотной, тускло освещённой сцене клуба на Филмор-стрит, а на большой арене, с декорациями, с партнёром! И Клара пошла в бар на Керни-стрит и пила, пока мозг не отключился.
— Да, забыла, — отвечает Клара, внутренне негодуя: такой уж он, Радж, никогда ничего не забывает. — Проволоки нет — значит, не купила. Завтра куплю.
Клара идёт в спальню, для вида поправляет гирлянду на окне. Радж догоняет её, хватает за руку:
— Не лги мне, Клара. Не купила — так сразу и говори. У нас премьера на носу, и мне иногда кажется, что для меня она важнее, чем для тебя.
Радж придумал и новые визитки — «В поисках бессмертия, с Раджем Чапалом», — и Кларины новые костюмы. Купил на складе одежды смокинг, попросил портниху подогнать его для Клары. Для «Хватки жизни» он заказал платье из каталога для фигуристов, всё в золотых блёстках. Клара заартачилась — мол, дешёвка, совсем не водевильное, — но Радж уверял, что при свете прожекторов оно будет искриться.
— Мне это важно как никому другому, — шепчет Клара, — и я ни за что не унизилась бы до лжи.
— Ладно. — Радж щурится. — Завтра так завтра.
13
В июне 1982-го, через несколько дней после смерти Саймона, Клара приехала на похороны на Клинтон-стрит, семьдесят два. Прилетев ночным рейсом из Сан-Франциско, она стояла у ворот дома, и её била дрожь. Как так вышло, что она столько лет не виделась с родными? По пути наверх по длинной лестнице ей чуть не сделалось дурно. Но когда дверь открыла Варя, бросилась ей на шею — «Клара!» — и прильнула к ней всем своим худеньким телом, нескольких лет разлуки как не бывало. Они сёстры, и это главное, всё остальное неважно.
Дэниэлу исполнилось двадцать четыре. Он учился в Чикагском университете, готовился поступать в медицинскую школу, тренировался в спортзале. Когда он снял футболку, Клара вспыхнула, мельком увидев его бледную мускулистую грудь с двумя кустиками тёмных волос. Юношеские прыщи у него ещё не сошли, но подростковая серьёзность сменилась твёрдостью: шишковатый лоб, волевой подбородок, крупный орлиный нос. В нём проступили черты Опто, их деда.
По настоянию Герти хоронили Саймона по еврейскому обряду. Когда Клара была маленькой, Шауль разъяснял им еврейские законы спокойно и терпеливо, как Иосиф римлянам. Иудаизм — не суеверие, говорил он, а путь к праведной жизни; быть евреем — значит жить по закону, который принёс Моисей с горы Синай. Но Клару законы мало интересовали. В еврейской школе она любила истории — о Мириам-пророчице, чей чудодейственный колодец сопровождал евреев сорок лет во время их скитаний в пустыне; о Данииле, вышедшем невредимым из логова львов. Истории эти наводили на мысль, что человеку доступно всё. Зачем же тогда каждую неделю сидеть по шесть часов в подвале синагоги и зубрить Талмуд?
К тому же это был клуб для мальчиков. Когда Кларе было десять лет, двадцать тысяч женщин, оставив детей и пишущие машинки, вышли на Пятую авеню на демонстрацию за равноправие. Герти с губкой в руках смотрела репортаж по телевизору, и глаза её сияли, как две серебряные ложки, но, когда пришёл домой Шауль, она сразу же выключила старенький «Зенит». И всё-таки Кларину бат-мицву[34] праздновали не отдельно в шаббат, как совершеннолетие братьев, а во время пятничной вечерней службы, не столь торжественной, вместе с десятью другими девочками, и ни одной из них не позволили читать вслух отрывок из Торы или Хафтары[35]. В тот год Комитет по еврейским законам и нормам разрешил учитывать женщин в миньяне, однако вопрос, может ли женщина быть раввином, по их мнению, оставался спорным.
В тот день, когда она стояла рядом со своей поредевшей семьёй и слушала, как Герти читает на иврите Эль мале рахстим[36], что-то в ней перевернулось. Будто открылся шлюз и хлынула исполинская волна скорби — или облегчения? — стоило Кларе услышать знакомые с детства слова. Точного перевода она не помнила, но знала, что молитва соединяет мёртвых, Шауля и Саймона, с живыми — Кларой и Варей, Герти и Дэниэлом. Здесь, в молитве, никто не забыт. Здесь вся их семья вместе.
Спустя три месяца Клара вернулась в Нью-Йорк на Дни трепета[37]. Находиться рядом с людьми для неё было мукой, всё равно что тереть наждачной шкуркой ожог, и всё-таки она добыла денег на авиабилет: если на то пошло, лучше быть рядом с теми, кто тоже любил Саймона. Вначале друг с другом они обращались бережно, к середине недели, однако, от их мягкости не осталось и следа.
Дэниэл резал яблоки, яростно стуча ножом:
— Мне кажется, будто я его вовсе не знал.
Клара выронила ложку, которой черпала мёд:
— Почему? Потому что он был голубой? Так вот кто он для тебя — просто голубой, и всё?
У Клары заплетался язык, Варя глянула на неё брезгливо. В тот вечер Клара отлила водки в пластиковую бутылку и спрятала в корзине под раковиной, среди старых шампуней и гелей для душа.
— Тише, — одёрнула Варя. Герти была в постели — лежала целыми днями, вставала только на молитву.
— Нет, — сказал Дэниэл, обращаясь к Кларе, — потому что он нас вычеркнул из жизни. Ни черта нам не рассказывал! Знаешь, Клара, сколько раз мы ему звонили? Сколько раз оставляли сообщения на автоответчике — умоляли поговорить с нами, спрашивали, почему он сбежал? А ты его покрывала, хранила его тайны, даже не позвонила нам, — голос его сорвался, — даже не позвонила, когда он заболел!
— Я не имела права, — возразила Клара, но вышло неубедительно, потому что её непрестанно жгло чувство вины.
Теперь она понимала, что отъезд Саймона, словно бомба, разорвал в клочки их семью, — именно он, а не смерть Шауля. Варю и Дэниэла отгородила обида, Герти — страдание. И не подговори Клара Саймона на побег, может, он был бы сейчас жив? Это она верила в предсказания, это она сбила Саймона с пути, вынудила переменить курс. И сколько бы она ни вспоминала его слова, сказанные в больнице, — как он сжимал ей руку, благодарил её — всё равно её терзала мысль, что всё сложилось бы по-другому, если бы они уехали в Бостон, или в Чикаго, или в Филадельфию, если бы она держала свои дурацкие убеждения при себе.
— Я не хотела его предавать, — прошептала Клара.
— Вот как? А нас предать было можно? — Дэниэл указал взглядом на Варю: — Ви всю свою жизнь отложила на потом. Думаешь, ей хорошо здесь? В двадцать пять лет жить с мамой?
— Сдаётся мне, это её устраивает. Всё-таки она перестраховщица. Мне кажется иногда, — продолжала она, обращаясь к Варе, — что тебе так спокойней.
— Да пошла ты! — вспылила Варя. — Ты не представляешь, как мне дались эти четыре года. Ты не понимаешь, что такое ответственность, чувство долга. И возможно, не поймёшь никогда.
Если Дэниэл раздался в плечах, то Варя, напротив, словно скукожилась. Уйдя из аспирантуры, она переехала к Герти и устроилась секретарём в фармацевтическую компанию. Однажды вечером Клара застала Варю у постели матери. Герти обнимала её, а Варя рыдала, плечи её вздрагивали. Клара смущённо попятилась. Материнская ласка и поддержка достаются Варе — она заслужила.
Дни трепета Герти провела в тумане отчаяния. После смерти Шауля она сказала себе: второго раза я не выдержу. Не под силу ей снова отвечать за последствия любви — и она оттолкнула от себя Саймона, не дожидаясь, пока он сам порвёт с ней окончательно. «Можешь не возвращаться».
Он не вернулся. И не вернётся уже никогда.
— Три книги открываются на небесах в Рош а-Шана, — вещал рабби Хаим в первую ночь Дней трепета. — Книга законченных грешников, книга совершенных праведников и книга «средних». Нечестивцев записывают в книгу смерти, праведников — в книгу жизни, а судьба «средних» решается лишь в Йом-Кипур, и, что греха таить, — добавляет он, и слушатели улыбаются, — «средние» — это большинство из нас.
Герти не могла заставить себя улыбнуться. Она знала, что грешна. Молись, не молись, ничего не изменишь. «Всё равно надо стараться», — убеждал её рабби Хаим, когда она зашла поговорить с ним наедине. Глаза смотрят ласково сквозь очки, мягкая борода. Герти вспомнила его семью — молчаливую покорную жену, трёх крепких сыновей — и на миг возненавидела его.
Ненависть — тоже грех.
Рабби Хаим положил ей руку на плечо:
— Никто из нас не свободен от греха, Герти. Но Бог никого не оставляет.
Так где же он, Бог? После смерти Шауля Герти с новой силой уверовала в Третий Храм, предалась вере горячо, влюблённо, даже на курсы иврита записалась. Слёз она пролила столько, что самому Гудзону впору выйти из берегов, — но где же перемены, где прощение? Бог оставался недосягаем, как солнце.
На Йом-Кипур Герти приснилась Греция. В Греции она не была никогда, знала её лишь по журнальным фотографиям в приёмной у зубного врача. Снилось ей, будто она стоит на обрыве, а в руках два глиняных горшка. В одном — прах мужа, в другом — сына. Вдали синеют купола храмов, на склонах гор белеют домики, словно призрачный рай. Развеяв над морем пепел, она ощутила безоглядную свободу — безмерное одиночество, такое пьянящее, что тянуло броситься вниз, в пучину.
Проснулась она с чувством омерзения: как же она не похоронила Саймона и Шауля по еврейскому обычаю? И эта тяга к воде, и жалость к себе — до чего отвратительно!
Ночная рубашка пропотела насквозь. Герти завернулась в розовый халат и встала на колени у изножья кровати.
— Ах, Саймон! Прости меня, — шептала она; колени дрожали. За окном светало, и Герти оплакивала солнце, оплакивала все восходы, которых Саймон, свет души ее, уже не увидит. — Прости меня, Саймон. Это всё я, я виновата. Прости меня, сыночек.
Легче ей не стало и уже не станет никогда. Но косые лучи солнца пробивались в окно спальни, пригревали спину На Ривингтон-стрит сигналили такси, оживали магазины.
Герти, пошатываясь, зашла в гостиную, где уснули дети — для неё они всегда будут детьми. Клара свернулась клубочком на диване рядом с Варей, Дэниэл прикорнул в любимом кресле Шауля, свесив с подлокотника длинные ноги. Вернувшись в спальню, Герти застелила постель, а подушку Шауля взбивала, пока та не стала мягкой как пух. Надела тёмное шерстяное платье, телесного цвета чулки, чёрные туфли на высоком каблуке — в них она всегда ходила на работу. Припудрила лицо, накрутила волосы на горячие бигуди. Когда она зашла на кухню, Варя уже готовила кофе.
Варя изумлённо вскинула глаза:
— Мама!
— Сегодня вторник, — сказала Герти хриплым голосом, будто заржавевшим от долгого молчания. — Пора на работу.
Контора: звяканье ключей, гул кондиционера. В 1982-м у Герти уже был компьютер, чудесный серый исполин, послушный её воле.
— Ладно, — проговорила с запинкой Варя. — Хорошо. Отправим тебя на работу.
Через четыре месяца, в январе 1983-го, Клара увидела Эдди О’Донохью в зале ночного клуба в Хайт-Эшбери. Когда она забиралась под потолок перед «Хваткой жизни», его обращённое вверх лицо таяло внизу, блестел при свете прожекторов нагрудный знак. Клара не сразу признала в нём полицейского, что угрожал когда-то Саймону, а когда догадалась, её бросило в пот. Она споткнулась, когда приземлялась, и с неловким поклоном ушла со сцены. Ей припомнилось, сколько раз она запускала руку в чужой карман и прихватывала двадцатку-другую, а иногда и больше, если была в том нужда. Неужто он её выследил? Мстит ей за скандал на крыльце полицейского участка?
Нет. Полная ерунда. Она была осторожна, когда обчищала карманы, подмечала зорким взглядом любую мелочь.
Спустя месяц она увидела Эдди снова, на представлении в Норт-Бич. На сей раз он был в штатском: белый свитер, джинсы. Пришлось ей собрать всю волю, чтобы не сбиться во время трюка с чашей, не замечать его скрещённых рук и натянутой улыбки, — и ту же улыбку она увидела снова в ночном клубе на Валенсиа-стрит. В тот раз она чуть не выронила стальные кольца, а после выступления решительно направилась к Эдди, сидевшему у стойки на круглом кожаном табурете.
— Что вы себе позволяете?
— То есть как? — опешил он, хлопая глазами.
— Да, вы не ослышались. — Клара уселась на соседний табурет, тот скрипнул. — Я вас вижу в зале третий раз подряд. Что происходит?
Эдди нахмурился:
— Я видел в газете фотографию вашего брата.
— Пошли вы нахер! — выругалась Клара, и на душе сразу полегчало, как от глотка виски, выжигавшего заразу, и она повторила: — Нахер! Ничего вы не знаете о моём брате!
Эдди передёрнуло. Он повзрослел со дня их первой встречи на крыльце участка на Мишен-стрит. Морщины под глазами, подбородок в рыжей щетине, светлые волосы всклокочены, будто только что встал с постели.
— Ваш брат был почти ребёнок. Слишком сурово я с ним обошёлся. — Эдди заглянул ей в глаза: — Я хочу извиниться.
Клара остолбенела. Такого она не ожидала и всё же простить не могла. Схватив в охапку плащ и рюкзак, она вылетела из бара, пока её не заметил хозяин, скользкий тип, который всегда искал случая пропустить с ней стаканчик на сон грядущий. На улице холод пробрал её до костей; из соседнего «Валенсия Тул-энд-Дай» выходили хардкорные панки. У Клары защипало глаза. Уму непостижимо, что Саймон умер, а Эдди жив — вот он, тут как тут, трусит за ней следом с решимостью во взгляде.
— Клара, — окликнул он, — я должен вам кое-что сказать.
— Да, поняла, прощения попросить. Спасибо. Я вам отпускаю.
— Нет, другое. О вашем выступлении. Оно меня будто другим человеком сделало.
— Другим человеком? — Клара фыркнула. — Ах, как трогательно! Платье моё понравилось, да? Или как я задом кручу под потолком?
Эдди поморщился:
— Это грубо.
— Зато честно. Думаете, я не знаю, зачем мужчины приходят на меня полюбоваться? Думаете, не понимаю, что вы во мне нашли?
— Ничего подобного. Боюсь, не понимаете. — Эдди был уязвлён, но смотрел Кларе в глаза с упорством, удивившим её.
— Ну хорошо. Итак, что вы во мне нашли?
Эдди открыл было рот, и тут из дверей клуба высыпала кучка панков и остановилась покурить возле витрины закрытого магазина. Бритые затылки, пёстро раскрашенные ирокезы, кожаные пояса с цепями. Эдди, выглядевший рядом с ними до боли заурядным, неловко замолчал. В прежние времена Кларе стало бы его жаль — да и любого на его месте, — но теперь запас сострадания в её душе иссяк. Развернувшись, она поспешила в сторону Двадцатой улицы.
— В детстве, — заговорил Эдди, следуя за ней по пятам, — я с ума сходил по комиксам — «Флэш», «Капитан Атом» и всё такое. Гляну на небо — вижу Зелёный Фонарь. Замечу вдалеке костёр — и думаю: Джонни Блейз. Представлял, что у меня часы Джимми Олсена. Да чёрт подери, я самого себя воображал Джимми Олсеном! «Галлюцинации, — говорил отец, — не иначе». Но нет. Это были мечты.
Клара, поёжившись, запахнула плащ и обхватила себя за плечи, но остановилась, глядя перед собой. Эдди, нагнав её, посмотрел ей в лицо и продолжал:
— Нос моим папашей не поспоришь, он у меня ирландский католик старой закваски, профсоюзный активист, член Древнего ордена ибернийцев. Как пойдёт орать: «Галлюцинации, и точка! И больше о них не заикайся!» «Ладно», — отвечал я. И молчал в тряпочку. Вступил в Братство Пресвятого Сердца, пошёл служить в полицию — и по-прежнему мечтал стать как те ребята из комиксов. Героем, понимаете? Но куда мне до них! Я же обычный человек. Нет, хуже, легавый. Я ненавидел малолеток, геев, хипарей — тех, кому в жизни всё легче давалось, чем мне. Таких, как ваш брат.
Клара плакала. Она могла разрыдаться из-за любого пустяка. Скоро год, как она, лёжа на больничной койке рядом с Саймоном, услышала его последний вздох.
— Я был не прав, — продолжал Эдди. — Когда я смотрел, как вы достаёте карты или стальные колечки из ниоткуда, то вспоминал комиксы. Выходит, можно превзойти себя, стать чем-то большим, чем был. Вы, можно сказать, подарили мне веру. И я решил, что, пожалуй, я ещё не совсем пропащий человек.
На несколько мгновений у Клары отнялся язык. Наконец-то, неведомо для себя, она всё-таки заставила кого-то поверить в чудо. Вселила в Эдди надежду.
— Вы же не издеваетесь надо мной, а? — спросила она.
Эдди улыбнулся простодушно, по-детски, и Клара ещё сильней зарыдала.
— С чего бы? — ответил он и, держа руки в карманах, наклонился и поцеловал её.
Клара потрясённо застыла. Её целовали множество раз, но лишь сейчас она ощутила, сколько сокровенного в поцелуе. После смерти Саймона она сторонилась людей, даже с Робертом почти не виделась, так ей было больно. А сейчас внутри будто захлопала крыльями стая, устремилась навстречу Эдди в отчаянном порыве. Но когда он отстранился с улыбкой, полной изумления и восторга, Кларино отчаяние сменилось вдруг ненавистью. Что подумал бы о ней Саймон?
— Нет, — тихо сказала Клара.
Рука Эдди возникла у нее на загривке, он привлёк её к себе, то ли не услышав, то ли сделав вид, что не слышит, и Клара стерпела ещё один поцелуй. В такие минуты можно притвориться другой, внушить себе, что целуешь мужчину потому, что он тебе нравится, а не чтобы забыть о пропасти, над которой висишь, цепляясь из последних сил.
— Нет, — повторила Клара, но Эдди всё не отпускал её, и она толкнула его в грудь. Он со стоном покачнулся. По Валенсиа-стрит катил двадцать шестой автобус, выпуская облако дыма, и Клара бросилась его догонять. Когда дым рассеялся, Эдди стоял один под фонарём, а Клары и след простыл.
Той осенью, накануне Дней трепета, Клара в третий раз вернулась в Нью-Йорк. Клара и Варя резали яблоки для кугеля, Герти варила лапшу, а Дэниэл рассказывал о своей жизни в Чикаго. Варя — ей было двадцать семь — наконец переехала в отдельную квартиру. Она поступила в аспирантуру Нью-Йоркского университета — изучала молекулярную биологию, занималась экспрессией генов: под руководством приглашённого профессора удаляла мутантные гены у быстрорастущих организмов — бактерий и дрожжевых грибков, червей и дрозофил, чтобы выяснить, снижается ли при этом вероятность болезней. Когда-нибудь, надеялась она, то же самое станет доступно и для людей.
В ту ночь Клара легла в постель, взяв с собой Зою. У той к старости пропала всякая охота ходить, и её всюду носили, как королеву. Устроившись с кошкой на животе, Клара пристала к лежавшей напротив Варе с расспросами о работе. Варины рассказы вселяли в неё надежду: ослепительная игра генов, бессчётные переменные, с помощью которых можно влиять на цвет волос, склонность к болезням, даже на продолжительность жизни. С родными она была близка как никогда — все будто смягчились, даже Герти. Когда Герти предложила перед Йом-Кипуром провести капарот, обряд, когда вертят над головой живую курицу и читают отрывок из Махзора[38], — «Сыны человеческие, обитающие во мраке и тени смертной, — произнесла нараспев Герти, — скованные оковами нищеты и железа», — Клара так и прыснула со смеху, забрызгав Дэниэлу рубашку харосетом[39].
— В жизни ничего не слыхала тоскливей! — сказала она.
— А курица? Тебе её не жалко, бедняжку? — спросил Дэниэл, двумя пальцами соскребая с рубашки яблочное пятно.
Возмущение Герти разом испарилось, и она вдруг тоже прыснула. «Чудо!» — подумала Клара. Она уже забыла, когда в последний раз слышала мамин смех.
И всё же Клара не в силах была никому объяснить, что означало для неё потерять Саймона. Вместе с братом она потеряла и себя, часть души, которую знал только он. Вместе с ним ушла и часть прошлого, целые куски жизни, чьим единственным свидетелем был Саймон. Как она в восемь лет научилась первому фокусу с монетами — доставала у него из ушей мелочь, а Саймон хихикал. Ночи, когда они спускались по пожарной лестнице и убегали на танцы в душные, переполненные клубы Ист-Виллидж, и там он, не стесняясь её, заглядывался на парней. Как загорелись у него глаза, когда она предложила поехать в Сан-Франциско, — будто ему преподнесли небывалый, драгоценный дар. И даже перед концом, когда они ругались из-за Адриана, он оставался её братишкой, самым дорогим на свете человеком. Ускользавшим от неё.
Лёжа с закрытыми глазами на своей детской кровати на Клинтон-стрит, семьдесят два, Клара пыталась ощутить его присутствие. Сто тридцать пять лет назад сёстры Фокс услышали стук в спальне у себя дома в Хайдсвилле. Хмурым ветреным сентябрьским днём 1982-го постучал Саймон.
Нет, это не половица скрипнула и не дверь. Низкий, звучный щелчок исходил из самого нутра старого дома номер семьдесят два на Клинтон-стрит, точно он хрустел костями.
Клара вмиг открыла глаза. Стук сердца гулко отдавался в ушах.
— Саймон? — спросила она несмело.
И затаила дыхание. Тишина.
Клара тряхнула головой. Не пора ли спуститься на землю?
К двадцать первому июня 1986-го, четвёртой годовщине смерти Саймона, стук почти забылся. Прошлые годовщины она проводила в барах — пила водку не разбавляя, покуда не забывала, что сегодня за день, — однако в тот год, пересилив себя, сварила кофе, надела вишнёвые ботинки и пешком отправилась в Кастро. Удивительное дело: многие гей-клубы закрылись вместе с банями, а «Пурпур» по-прежнему на месте, даже стены перекрасили! Жаль, не расскажешь Саймону или Роберту! Роберту «Пурпур» никогда не нравился, но Клара знала: сейчас он был бы рад, что клуб выстоял.
Роберт. Раньше они виделись время от времени в центре города. В 1985-м, когда президент Рейган отказывался признать существование СПИДа, двое больных в знак протеста приковали себя цепями к зданию на площади ООН. Клара и Роберт приносили еду и номера газеты «Бэй Эриа Репортер» пикетчикам, которых становилось больше день ото дня. Они даже ночевали на улице, если Роберт чувствовал себя сносно. Клара упросила медсестру, которая ухаживала за Саймоном, включить Роберта в программу испытаний сурамина, и его вписали последним. Но от лекарства ему стало плохо, так плохо, что не было сил танцевать, и через пару дней он забросил лечение. Клара явилась к нему домой на Эврика-стрит, где он жил теперь один, и стала барабанить в дверь.
— Это твой долг перед Саймоном! — кричала она. — Нельзя бросать!
В августе они уже не разговаривали друг с другом. К началу октября все участники испытаний умерли.
Когда Клара узнала об этом из газеты, она почувствовала, будто плавится от жаркого огня и вот-вот утечёт, просочившись сквозь щели в паркете. Кинулась звонить Роберту, но у него был отключён телефон. Когда она пришла в академию, Фаузи сказал ей, что Роберт уехал домой, в Лос-Анджелес. «Просто взял и уехал». С тех пор прошло семь месяцев. Кларе так и не удалось его найти.
Клара подобрала с земли огненно-рыжую настурцию и продела в ручку двери «Пурпура». В тот вечер она приготовила мясной рулет по рецепту Герти, любимое блюдо Саймона, а потом разделась и нырнула в ванну. Волосы змеились под водой, как у горгоны Медузы. Из подъезда слышались голоса, приглушённые шаги. И вдруг — щелчок! Как тогда, в Нью-Йорке.
Клара выскочила из воды, обдав брызгами пол.
— Если это ты, — сказала она, — если ты настоящий, стукни ещё раз.
Снова щелчок, звонкий, как удар бейсбольной битой по мячу.
— Боже… — Клару затрясло, слёзы дождём застучали по воде. — Саймон.
14
Июнь 1988-го. Радж стоит на сцене театра «Зинзанни», Клара гримируется за кулисами. Гримёрная — лучшая на её памяти, с золочёным туалетным столиком и экраном, где видно, что происходит на сцене.
— Жизнь — не просто отрицание смерти, — слышен голос Раджа из колонок по обе стороны экрана, — жизнь — это ещё и отрицание себя, необходимость перевоплощения. Пока мы способны меняться, друзья мои, смерть нам не страшна. В чём сходство между Кларком Кентом и хамелеоном? Очутившись на краю гибели, оба преображаются. Где они? Их нет. Хамелеон обернулся веткой. Кларк Кент — Суперменом.
Крохотный Радж на экране раскинул руки. Клара обводит контур губ ярко-алым карандашом.
Спустя три месяца Клара летит в Нью-Йорк, проводить Дни трепета с родными стало для неё традицией. Голова кругом от счастья. Трюк с ясновидением удался, а сложенная клетка хоть и выпирала из-под рукава, как набухшие вены (надо попросить портниху перешить смокинг), зрители как будто ничего не заметили. Театр «Зинзанни» заключил с ними контракт ещё на десять представлений.
Клара хочет познакомить Раджа с родными, но два билета до Нью-Йорка для них дорогое удовольствие. Скоро, обещает Радж, денег у них будет столько, что они смогут поехать куда угодно. На Рош а-Шана Клара уводит Варю в спальню. Во всём теле небывалая лёгкость; кажется, скинешь туфли — и взмоешь под потолок, как надутый гелием шарик.
— Возможно, мы поженимся, — говорит Клара.
— Вы же начали встречаться в марте! — удивляется Варя. — Всего полгода назад.
— В феврале, — поправляет Клара, — Семь месяцев.
— Но Дэниэл ещё даже не сделал Майре предложение.
Майра — девушка Дэниэла. Познакомились они год назад, когда Майра училась на факультете искусствоведения, и Дэниэл уже представил её Варе и Герти. Как только Дэниэл устроится на работу, он сделает Майре предложение и подарит кольцо с рубином, то самое, что Шауль подарил Герти.
Клара поправляет Варе локон.
— Завидуешь? — Клара не упрекает Варю, а лишь подмечает, но именно это — и ласковый Кларин голос — заставляет Варю вздрогнуть.
— Да что ты! — отвечает Варя. — Я за тебя рада.
Варя считает, что для Клары замужество — очередной фокус, что через месяц-другой она и думать о нём забудет. Варя не знает, что к свадьбе почти всё готово, что Клара уже купила платье, а Радж — костюм, что они собираются расписаться в мэрии, как только Клара вернётся из Нью-Йорка. И разумеется, Варя не знает о ребёнке.
Это был, можно сказать, ожидаемый сюрприз. Клара знает, что надо соблюдать осторожность, но одно дело знать, другое — соблюдать. И это ещё не всё: на риск она шла с упоением, будто танцевала на острие возможности — «А вдруг? Что тогда?» — с любимым человеком. И разве зачать ребёнка — не такое же чудо, как сотворить из воздуха цветок или из одного платка сделать два?
Пить она бросила. К седьмому месяцу в голове совершенно прояснилось, провалы в памяти исчезли, но их сменила пустота, долгие-долгие часы раздумий. Чтобы отвлечься, Клара представляет ребёнка. Когда он бьёт в животе ножкой, она видит крохотные пятки. Раджу она сказала: назовём его Саймон. На девятом месяце, когда ноги отекают так, что уже не налезают туфли, а поспать без перерыва удаётся не больше получаса, Клара мысленно рисует лицо Саймона и обиды на малыша уже не чувствует. И когда ветреной майской ночью врач достаёт ребёнка и Радж кричит: «Девочка!» — Клара уверена, что он ошибся.
— Не может быть. — Клара сходит с ума от боли, внутри будто взорвалась бомба, и тело — пустая оболочка — вот-вот распадётся на куски.
— Нет, Клара, — откликается Радж, — так и есть.
Ребёнка пеленают и приносят Кларе. Личико красное, невероятно живое, глаза чёрные, как маслины.
— Ты была так уверена! — говорит Радж. И смеётся.
Девочке дают имя Руби. Клара помнит Варину подругу, что жила выше этажом на Клинтон-стрит, семьдесят два. Рубина. Имя индийское, матери Раджа наверняка бы пришлось по вкусу. Радж переезжает к Кларе и нянчит Руби, напевает ей колыбельные на подзабытом хинди. Soja baba soja. Mackhan roti cheene[40].
В июне приезжают Кларины родные. Клара ведёт их в Кастро — Герти прижимает к себе сумочку, проходя мимо шумной компании трансвеститов, — а потом на спектакль «Корпуса». Клара сидит рядом с Дэниэлом, и сердце ёкает — что подумает он, увидев мужской балет? — но когда танцоры кланяются, он аплодирует громче всех. В тот вечер, пока в духовке печётся фирменный мясной рулет Герти, Дэниэл рассказывает Кларе о Майре. Познакомились они в университетской столовой и с тех пор пропадают в ночных забегаловках Гайд-парка, обсуждают Горбачёва, катастрофы челноков НАСА и достоинства фильма «Инопланетянин».
— Она тебе задаёт высокую планку, — отмечает Клара. Руби спит у неё на руках, прильнув тёплой щёчкой к груди, и в кои-то веки Клара полностью довольна жизнью.
В другое время Дэниэл разозлился бы — «Задаёт планку? С чего ты взяла, будто я в этом нуждаюсь?», — но на этот раз он кивает:
— Это уж точно. — И вздыхает так умиротворённо, что Кларе почти неловко.
Герти на ребёнка не надышится — не спускает с рук, любуется носиком величиной с ягодку, зацеловывает крохотные пальчики. Клара ищет сходство между бабушкой и внучкой и наконец находит: уши! Небольшие, изящные, похожие на морские раковины. Но когда Герти впервые увидела Раджа, то молчала как рыба, только рот раскрыла, а затем захлопнула. Однако Клара заметила, как та смерила Раджа оценивающим взглядом — смуглое лицо, рабочие ботинки, вальяжную позу. Клара потащила Герти в ванную.
— Мама, — шикнула она, — не будь расисткой!
— Расисткой? — Герти побагровела. — Я всего лишь за то, чтобы ребёнка воспитали в еврейских традициях. Разве я слишком многого хочу?
— Да, — отрезала Клара. — Слишком многого.
Варя раздаёт советы. «Ты пробовала подогревать молоко? — спрашивает она, когда Руби плачет. — Не пора ли прогуляться с коляской? Есть у вас детские качели? Животик у неё не болит? Где пустышка?»
У Клары голова кругом.
— Какая ещё пустышка?
— Какая ещё пустышка? — повторяет Герти.
— Ты что, смеёшься? — изумляется Варя. — У неё нет пустышки?
— И эта квартира, — продолжает Герти, — совершенно для ребёнка не обустроена. Вот подождите, научится она ходить — чего доброго, голову об стол расшибёт или с лестницы полетит!
— Всё хорошо, — заверяет Радж. — У неё есть всё, что нужно.
Он хочет забрать девочку у Вари, но та не спешит отдавать.
— Ну же! — Дэниэл шутя толкает Варю в бок, та шлёпает его по руке, а Руби пищит так громко, что Клара готова их выставить вон.
Но на другой день, когда они уезжают (Герти протискивается на переднее сиденье такси, сзади машут Дэниэл и Варя), у Клары от тоски сжимается сердце. Когда они были рядом, ей легче было переносить отсутствие Саймона и Шауля. Её отец любил малышей. Клара помнит, как они ходили в больницу, когда родился Саймон — с тазовым предлежанием, шея обвита пуповиной, словно ожерельем. Шауль стоял под дверью реанимации, будто охранял этого хилого синюшного младенца, последыша. Дома он мог часами носить сына на руках, а когда Саймон возился во сне или надувал губки, умилению Шауля не было предела.
В детстве они верили, что у отца найдётся ответ на любой вопрос, но с возрастом Клара и Саймон стали принимать его ответы в штыки. Они смотрели свысока на его скучную работу и изучение Торы, на неизменные габардиновые брюки, шляпу и плащ. Теперь Клара стала лучше понимать отца. Шауль был из семьи иммигрантов и наверняка боялся в одночасье лишиться всего, что имел. К тому же теперь Клара на себе испытала родительское одиночество, одиночество памяти — когда служишь перемычкой между будущим, которого не увидят твои родители, и прошлым, неведомым твоему ребёнку. Подрастёт Руби, придёт к Кларе с вопросами. Что ответит ей Клара, в чем будет убеждать неистово — и напрасно? Для Руби Кларино прошлое будет сказкой, а Саймон и Шауль — мамиными призраками.
Октябрь; перерыв в выступлениях растянулся на долгие месяцы. Когда Клара была беременна, она не могла исполнять «Хватку жизни», и сейчас, после бессонных ночей с Руби, в голове туман и во время «чтения мыслей» она сбивается со счёта. Расходы на реквизит так и не окупились. Их скудные сбережения уходят на игрушки и подгузники, на одежду, из которой Руби вырастает не по дням, а по часам. Радж обходит ночные клубы и театры от Тендерлойна до Норт-Бич, но почти везде получает отказы. С хозяином театра «Зинзанни» удаётся договориться всего на четыре выступления осенью.
— Надо уезжать, — говорит за ужином Радж. — Покажем миру, на что мы способны. Сан-Франциско выдохся. Здесь не люди, а роботы, компьютеры ходячие. Чтоб они все сдохли! — Он машет в воздухе кулаками, сражаясь с невидимым компьютером.
— Погоди! — Клара поднимает палец. — Слышал?