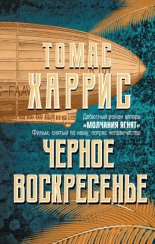Бессмертники Бенджамин Хлоя

Посвящается моей бабушке, Ли Круг
THE IMMORTALISTS by Chloe Benjamin
Copyright: © 2018 by Chloe Benjamin
Перевод с английского Марины Извековой
* * *
Пролог
Гадалка с Эстер-стрит
1969. Варя
Варе тринадцать.
За последнее время она выросла на три дюйма, между ног уже темнеет пушок. Груди умещаются в ладонях, розовые соски — с мелкую монету. Волосы до пояса, русые — ничего общего ни с тёмным ёжиком Дэниэла, ни с лимонно-жёлтыми кудрями Саймона, ни с Клариными медно-рыжими локонами. По утрам она заплетает их в две французские косы; приятно, когда они на ходу хлещут по спине лошадиными хвостами! Нос пуговкой — ни на чей в семье не похож, так она пока думает. К двадцати годам он вытянется, обретёт орлиную величавость — точь-в-точь как у мамы. Но до этого ещё далеко.
Они шагают по кварталу дружной четвёркой: Варя, старшая; одиннадцатилетний Дэниэл, девятилетняя Клара и семилетний Саймон. Дэниэл впереди, ведёт их с Клинтон-стрит на Деланси-стрит, потом налево, на Форсайт-стрит. Они огибают парк Сары Рузвельт, держась в тени деревьев. Вечерами в парке буянят, однако во вторник утром здесь почти никого, лишь кое-где молодые люди валяются лицом в траву, отсыпаясь после антивоенных акций.
По Эстер-стрит они идут молча. Надо скорей миновать отцовское ателье «Мастерская Голда»; отец, конечно, их вряд ли заметит — Шауль обычно с головой погружен в работу, будто не брюки шьет, а вселенную творит, — и всё-таки он может разрушить очарование этого душного июльского дня, стать преградой на пути к зыбкой, призрачной цели, что маячит впереди на Эстер-стрит.
Саймон хоть и младший, но не отстаёт. На нём обрезанные джинсы, доставшиеся от брата; Дэниэлу в семь лет они были впору, а худенькому Саймону великоваты. В руке болтается сумка из китайки, затянутая шнурком, внутри шуршат банкноты да весело позвякивает мелочь.
— Где это? — спрашивает Саймон.
— Кажется, здесь, — говорит Дэниэл.
Они смотрят на старый дом, расчерченный зигзагами пожарных лестниц, на тёмные окна пятого этажа, за которыми, по слухам, обитает та, кого они ищут.
— Как туда попасть? — спрашивает Варя.
Дом почти такой же, как их собственный, только не коричневый, а бежевый, и этажей не семь, а пять.
— Давайте позвоним, что ли, — предлагает Дэниэл. — Пятый этаж.
— Ага, — кивает Клара. — А номер квартиры?
Дэниэл достаёт из заднего кармана скомканный магазинный чек. И краснеет.
— Не знаю точно.
— Дэниэл! — Варя, привалившись к стене, обмахивается: жара под тридцать градусов, лицо в испарине, влажная юбка липнет к ногам.
— Погодите, — просит Дэниэл, — дайте вспомнить.
Саймон садится прямо на асфальт, матерчатая сумка медузой плюхается между колен. Клара выуживает из кармана ириску, но едва успевает развернуть, как дверь подъезда распахивается и выходит парень в лиловых очках и распахнутой рубашке в «индийский огурец».
Он кивает Голдам:
— Хотите зайти?
— Да, — отвечает Дэниэл. — Пошли.
И делает шаг вперед, благодарит парня в лиловых очках и, не дожидаясь, пока дверь захлопнется, первым заходит в подъезд, подавая пример остальным, — Дэниэл, их бесстрашный незадачливый вожак, он-то всё и затеял.
На прошлой неделе он зашёл к Шмульке Бернштейну в лавку кошерной китайской еды — захотелось горячего пирожка с заварным кремом, вкусного даже в жару — и услыхал разговор двух мальчишек. Очередь длинная, вентиляторы на всю катушку — пришлось вытянуть шею, чтобы расслышать, что они говорили о постоялице с верхнего этажа дома на Эстер-стрит.
По дороге домой, на Клинтон-стрит, семьдесят два, сердце у Дэниэла подпрыгивало. В спальне Клара и Саймон играли на полу в «горки-лесенки»[1], Варя лежала с книгой у себя наверху. Зоя, чёрно-белая кошка, растянулась на батарее, нежась в солнечном квадрате.
Тут Дэниэл и выложил им свой план.
— Ничего не понимаю. — Варя упёрлась грязной подошвой в потолок. — Чем именно она всё-таки занимается?
— Я же говорил! — Дэниэл весь кипел. — У неё есть сверхсилы!
— Какие? — спросила Клара, передвигая фишку. Всю первую половину лета она разучивала карточный фокус «туз Гудини», но получалось пока не ахти.
— Говорят, — объяснил Дэниэл, — она судьбу умеет предсказывать. Знает, что тебя ждёт — хорошая жизнь или плохая. И кое-что ещё. — Дэниэл наклонился вперёд, упершись обеими руками в дверной косяк. — Она знает, кто когда умрёт.
Клара встрепенулась.
— Ерунда! — фыркнула Варя. — Этого никто сказать не может.
— А если может? — не сдавался Дэниэл.
— Тогда я не хочу знать.
— Почему?
— Потому что. — Варя отложила книгу и села на кровати, свесив ноги. — А вдруг что-нибудь плохое скажут? Вдруг она скажет, что ты умрёшь маленьким?
— Тогда уж лучше знать, — решил Дэниэл. — Чтобы все дела успеть доделать.
Все замолчали. И вдруг Саймон расхохотался, трепеща всем телом, как птичка. У Дэниэла вспыхнули щёки.
— Я не шучу, — сказал он. — Возьму да пойду. Ни дня больше не выдержу здесь, взаперти. С меня хватит. Кто, чёрт подери, со мной?
Может статься, вся затея кончилась бы ничем, не будь на дворе макушка лета — позади полтора месяца душной скуки, впереди ещё столько же. Кондиционеров в квартире нет, и вдобавок в тот год, 1969-й, им кажется, будто всё самое интересное в жизни проходит мимо. Другие упиваются в стельку в Вудстоке и горланят «Волшебника пинбола»[2], смотрят «Полуночного ковбоя» — фильм, на который детей Голд не пускают. Они устраивают беспорядки в «Стоунволл-инн»[3], вышибают двери парковочными счётчиками, бьют стёкла, крушат музыкальные автоматы. Их убивают самыми изуверскими способами — взрывают, расстреливают очередями по пятьсот пятьдесят пуль, — а их лица тут же, с немыслимой быстротой, появляются в телевизоре на кухне у Голдов. «Сукины дети, по луне ходят!» — сказал Дэниэл (с недавних пор он щеголяет крепкими словечками, но лишь на безопасном расстоянии от матери). Джеймс Эрл Рей[4] осуждён, Серхан Серхан[5] тоже, а дети Голд знай себе играют в камушки и вышибалы, да метают дротики, да вытаскивают Зою из её нового дома в дымоходе за плитой.
И ещё кое-что создавало нужный для паломничества настрой: в то лето они были едины, как никогда уже не будут. На следующий год Варя поедет в Катскильские горы с подругой Авивой, Дэниэл приобщится к тайным ритуалам дворовых мальчишек, а Клара и Саймон останутся неприкаянными. А сейчас, летом 1969-го, они близки, и братство их нерушимо.
— Я с тобой, — вызвалась Клара.
— И я, — подал голос Саймон.
— А как к ней попасть? — спросила Варя. К тринадцати годам она успела усвоить, что даром ничего на свете не даётся. — Сколько она берёт?
Дэниэл нахмурился:
— Узнаю.
Так всё и началось — как тайна, как опасное предприятие, как предлог улизнуть от неповоротливой грузной матери, без конца что-то требовавшей, стоило ей застать их без дела в спальне, — то бельё развесить, то вытащить из трубы чёртову кошку. Дети Голд расспросили кого могли в округе. Хозяин магазинчика для фокусников в китайском квартале слыхал о женщине с Эстер-стрит. Она кочует с места на место, объяснил он Кларе,колесит по стране, предсказывает людям судьбу. Когда Клара уже собралась уходить, он поднял палец, исчез в чулане и вернулся с увесистой «Книгой гаданий». На обложке — шесть пар распахнутых глаз в окружении символов. Клара заплатила шестьдесят пять центов и с книгой в обнимку поспешила домой.
Кое-кто из соседей на Клинтон-стрит, семьдесят два, тоже слыхал о гадалке. Миссис Блюменстайн встречалась с ней в пятидесятых, на роскошном приёме — так она сказала Саймону. Она вывела на парадное крыльцо своего шнауцера, и тот оставил катышек величиной с пилюлю на ступеньке, где сидел Саймон, а миссис Блюменстайн даже не потрудилась убрать.
— Она прочла мне по руке. Сказала, что жить я буду очень долго. — Миссис Блюменстайн наклонилась к Саймону для выразительности. Саймон старался не дышать: изо рта у миссис Блюменстайн пахло тленом, будто она ещё при рождении запаслась воздухом и только сейчас, спустя девяносто лет, выдохнула. — Как видишь, мой мальчик, она не ошиблась.
Индусы с шестого этажа говорили, что она ришика, пророчица. Варя завернула в фольгу кусочек кугеля[6], что испекла Герти, и принесла Руби Сингх, своей соседке и однокласснице по школе номер 42, в обмен на тарелку тушёной курятины с маслом и специями. Они ели на пожарной лестнице, свесив голые ноги и глядя, как заходит солнце.
Руби знала про гадалку.
— Два года назад, — рассказывала она, — когда мне было одиннадцать, заболела бабушка. Врач сказал, сердце. И жить ей осталось месяца три, не больше. А другой врач говорит: сил у неё пока много, поправится, пару лет ещё протянет.
Внизу просвистело по Ривингтон-стрит такси. Руби, обернувшись, покосилась на пролив Ист-Ривер, бурозелёный от ила и нечистот.
— Индус умирает дома, — продолжала она, — в кругу семьи. Даже папины родные из Индии рвались сюда, но что бы мы им сказали — поживите у нас пару лет? А потом папа услыхал о ришике. Пошёл к ней, и она назвала дату — день, когда дади[7] должна умереть. Мы поставили кровать дади в гостиной, изголовьем на восток.
Зажгли лампу и бодрствовали у её постели — молились, пели гимны. Папины братья прилетели из Чандигарха. Я сидела на полу с двоюродными братьями-сёстрами. Было нас человек двадцать, а может, и больше. Когда дади умерла шестнадцатого мая, как предсказала ришика, все мы плакали от облегчения.
— И не злились?
— А на что злиться?
— Что она не спасла бабушку, — объяснила Варя, — не вылечила.
— Зато дала нам возможность проститься, а это бесценно. — Руби доела последний кусочек кугеля, свернула пополам фольгу. — Да и не смогла бы она вылечить дади. Она, ришика, знает будущее, но изменить не в силах. Она же не Бог.
— Где она сейчас? — спросила Варя. — Дэниэл слышал, она снимает квартиру на Эстер-стрит, но номера он не знает.
— И я не знаю. Она нигде подолгу не задерживается. Так безопаснее.
В квартире у Сингхов что-то упало и разбилось, кто-то закричал на хинди.
Руби вскочила, стряхнула с юбки крошки.
— То есть как — безопаснее? — спросила, тоже вставая, Варя.
— Таких, как она, всегда кто-нибудь да преследует, — объяснила Руби. — Мало ли что ей известно.
— Рубина! — позвала миссис Сингх.
— Мне пора. — Руби влезла в окно и закрыла его за собой, а Варя спустилась по пожарной лестнице на четвёртый этаж.
Варя удивилась: о гадалке идёт такая слава, но при этом знают о ней не все. Когда она спросила о пророчице у продавцов в лавке Каца, с вытатуированными на руках номерами, те уставились на неё в ужасе.
— Мелюзга, — сказал один, — вам зачем в это ввязываться? — Голос у него был резкий, будто Варя его оскорбила. Взволнованная Варя ушла, забрав свой бутерброд, и больше разговоров о гадалке ни с кем не заводила.
В конце концов те же ребята, чей разговор подслушал Дэниэл, дали ему адрес. Не прошло и недели, как он наткнулся на них на пешеходной стороне Вильямсбургского моста — те, свесившись через перила, попыхивали косячками. Они были старше, лет по четырнадцать, и Дэниэл заставил себя признаться, что подслушивал, а потом спросил, знают ли они ещё что-нибудь.
Ребята, похоже, были не в обиде. Номер дома, где, по слухам, жила гадалка, они назвали охотно, но как к ней попасть, не знали. Кажется, к ней нельзя с пустыми руками, следует что-то принести в дар. Одни говорят, деньги, другие — что денег у неё и так полно, надо выдумать что-нибудь этакое. Один мальчишка подобрал на обочине раздавленную белку — подцепил щипцами, положил в пакет, завязал и принёс. Но Варя возмутилась — мол, никому такая пакость не нужна, даже гадалке, — и они сложили в матерчатую сумку все свои сбережения в надежде, что им хватит.
Когда Клары не было дома, Варя достала из-под её кровати «Книгу гаданий» и залезла к себе на верхний ярус. И, лёжа на животе, повторяла вслух слова: гаруспиция (гадание по внутренностям жертвенных животных), ксероскопия (на растопленном воске), лозоискательство (с помощью прута). В прохладные дни трепещут на сквозняке родословные древа и старые фотографии, пришпиленные к стене возле Вариной кровати. Они помогают Варе постичь прихотливую тайную игру генов — те прячутся, а потом всплывают снова, передаются через поколение. Дэниэл, к примеру, уродился долговязым не в отца, а в дедушку Льва.
Лев прибыл в Нью-Йорк на пароходе с отцом, торговцем тканями, в 1905-м, после того как во время погромов погибла его мать. На острове Эллис их осмотрел врач, потом им задавали вопросы по-английски, а они отвечали, глядя на гигантский кулак железной статуи, равнодушно взиравшей на них со стороны моря, которое они только что пересекли. Отец Льва ремонтировал швейные машины, а Лев работал на швейной фабрике, хозяин которой, немецкий еврей, разрешил ему соблюдать шаббат. Лев дослужился до помощника управляющего, затем — до управляющего. В 1930-м он завёл своё дело — «Швейную мастерскую Голда», обустроившись в полуподвале на Эстер-стрит.
Варю назвали в честь бабушки — она работала у Льва бухгалтером, пока оба не отошли от дел. О родных по материнской линии она знает не так много — лишь то, что другую бабушку звали Кларой, как Варину младшую сестру, и что приехала она из Венгрии в 1913 году. Но бабушка умерла, когда Вариной маме, Герти, было всего шесть лет, мама о ней почти не рассказывает. Однажды Клара с Варей прокрались в спальню матери, поискать какие-то следы бабушки и деда. Словно ищейки, они чуяли тайну, окружавшую эту пару, пьянящий дух интриг и страстей — потому и сунули нос в комод, где Герти хранила бельё. В верхнем ящике обнаружилась небольшая деревянная шкатулка, лаковая, с золотым замочком. Внутри лежала стопка пожелтевших фотографий смешливой брюнетки — стриженая невысокая девушка с тяжёлыми веками. Вот она в трико с юбочкой, подбоченилась, подняв над головой трость. Вот скачет на лошади, выгнувшись назад, в амазонке с глубоким вырезом. Но самая, пожалуй, удачная фотография — где она болтается в воздухе, держась за верёвку зубами.
В том, что брюнетка на фото — их бабушка, они скоро убедились. Ещё на одной карточке, измятой, захватанной жирными пальцами, она стояла рядом с высоким мужчиной и маленькой девочкой. В девочке с пухлыми кулачками, цеплявшейся за руки родителей, Варя и Клара без труда узнали мать — это испуганное выражение лица ни с чем не спутаешь.
Клара тут же присвоила шкатулку вместе со всем содержимым.
— Чур, моё! — заявила она. — Меня в честь неё назвали! А мама всё равно туда не заглядывает.
Но, как очень скоро выяснилось, она ошибалась. Наутро после того, как Клара утащила шкатулку к себе в комнату и спрятала под кровать, из родительской спальни донёсся вопль, а следом — гневный голос Герти и виноватое бормотание Шауля. Спустя несколько секунд Герти ворвалась в детскую:
— Кто взял?! Кто?!
Ноздри её раздувались, а внушительные бедра заслонили весь свет, что обычно лился из прихожей. От ужаса Клару бросило в жар, она чуть не расплакалась. Когда Шауль ушёл на работу, а Герти вернулась в кухню, Клара прошмыгнула в родительскую спальню и водворила шкатулку на место. Но, оставаясь одна в пустой квартире, Клара неизменно разглядывала фото миниатюрной женщины. И, любуясь её дерзостью, клялась быть достойной своего имени.
— Хватит озираться, — шипит Дэниэл. — Ведите себя как дома.
Бежевая краска на стенах облупилась, в подъезде темно. Они взбегают по лестнице. На пятом этаже Дэниэл останавливается.
— Ну и что дальше? — шепчет Варя. Ей нравится подзуживать Дэниэла.
— Подождём, — отвечает Дэниэл. — Кто-нибудь да выйдет.
Но Варе не терпится. Дрожа от нежданного страха, она пускается вдоль лестничной площадки одна.
Варя ожидала, что волшебство хоть как-то себя проявит, но все двери на одно лицо, с исцарапанными медными ручками и номерами. Вот квартира номер пятьдесят четыре — четвёрка на двери покосилась. Внутри бубнит то ли радио, то ли телевизор: бейсбольный матч. Варя отходит в сторону — вряд ли ришика станет интересоваться бейсболом.
Остальные разбрелись кто куда. Дэниэл застыл у перил, руки в карманах, разглядывает двери. Саймон, пристроившись к Варе, встаёт на цыпочки и поправляет покосившуюся четвёрку. Клара куда-то убрела, но вскоре возвращается, становится рядом. Вокруг неё облако аромата — шампунь «Брек Золотая Формула», Клара неделями откладывала на него карманные деньги; вся семья пользуется «Преллом» — в тюбиках, как зубная паста, серо-зелёным, как морская капуста. Варя хоть и посмеивается над Кларой — как можно спускать столько денег на шампунь? — но в глубине души завидует сестре, пахнущей розмарином и апельсинами. Клара тем временем стучит в дверь.
— Ты что? — шикает Дэниэл. — Мало ли кто там живёт! А вдруг…
— Кто там? — Голос за дверью басовитый, неприветливый.
— Мы к гадалке, — робко произносит Клара.
Тишина. Варя стоит не дыша. В двери прорезан глазок, такой узенький, что не вставишь и карандаш.
За дверью слышен кашель.
— По одному, — командует голос.
Варя ловит взгляд Дэниэла. Они не были готовы к тому, что им придётся разлучаться. Но посовещаться они не успевают: щёлкает задвижка, и Клара — о чём она только думает? — проскальзывает внутрь.
Никто не знает точно, сколько времени нет Клары, — Варе кажется, много часов. Она садится на корточки, вжавшись в стену, колени к груди. Ей вспоминаются сказки про ведьм, как те заманивают детей и съедают. Страх, зародившийся в сердце, прорастает, пускает корни. Наконец дверь приоткрывается.
Варя вскакивает, но Дэниэл оказывается проворней. Сквозь узкую щёлку не видно, что делается в квартире, но слышна музыка — ансамбль мариачи? — и звяканье кастрюль на плите.
Дэниэл, уже стоя в дверях, оборачивается.
— Не бойтесь, — подбадривает он Варю и Саймона.
Но как тут не бояться?
— Где Клара? — спрашивает Саймон, когда Дэниэл исчезает за дверью. — Почему не вышла?
— Там, внутри, — заверяет Варя, хотя её мучает тот же вопрос. — Мы с тобой зайдём, а они там, Клара и Дэниэл. Наверное, просто… ждут нас.
— Зря мы всё это затеяли, — бурчит Саймон. Его золотые локоны прилипли ко лбу. Варя старшая, должна его опекать, но Саймон для неё загадка; одна Клара его понимает. Он самый молчаливый из них. За ужином сидит насупившись, глаза стеклянные. Зато шустрый как заяц! Бывает, идёшь с ним в синагогу, и вдруг оказывается, что идёшь одна. Подумаешь, что забежал вперёд или отстал, но всякий раз кажется, будто испарился.
Когда вновь приоткрывается дверь — как в прошлый раз, самую малость, — Варя кладёт руку Саймону на плечо. Варя не из храбрых: хоть она и старшая, но предпочитает зайти последней.
— Смелей, Сай. Заходи, а я тут покараулю, хорошо?
Непонятно, зачем караулить — в подъезде всё так же пусто, — но Саймон как будто приободрился. Откинув со лба завиток, он заходит.
Одной еще страшнее. Варя отрезана от сестры и братьев, будто смотрит с берега, как исчезают вдали их корабли. Надо было их отговорить. Дверь открывается снова. Над верхней губой у Вари выступила испарина, пояс юбки влажен от пота, но отступать уже некуда, младшие ждут. Варя толкает дверь.
Крохотная квартирка так захламлена, что в первый миг среди скарба не видно хозяйки. На полу громоздятся стопки книг, словно игрушечные небоскрёбы, стеллажи в кухне вместо продуктов заняты газетами, а на длинном столе свалены припасы — крекеры, сухие завтраки, супы в банках, разноцветные пачки чая всевозможных сортов. Игральные карты, Таро, астрологические схемы и календари — один с китайскими иероглифами, другой с римскими цифрами, третий с фазами Луны. На пожелтевшем плакате — гексаграммы И-Цзин, знакомые Варе по Клариной «Книге гаданий». Ваза с песком, гонги и медные кубки, лавровый венок; тонкие деревянные палочки с резным узором; чаша с камнями, к некоторым привязаны длинные куски бечёвки.
Лишь крохотный закуток возле двери расчищен от хлама. Здесь приютились складной стол и два таких же стула. Рядом столик поменьше, с букетом искусственных алых роз и раскрытой Библией. Вокруг Библии — два белых гипсовых слоника, свеча, деревянный крест и три статуэтки: Будда, Дева Мария, а третья с табличкой, где написано от руки: «Нефертити».
Варю захлёстывает чувство вины. В еврейской школе им рассказывали об идолопоклонстве, и она внимательно слушала, как рабби Хаим читал отрывки из трактата Авода Зара[8]. Знай родители, что Варя здесь, были бы недовольны. Но ведь и Вариных родителей, и гадалку — всех создал Бог, разве нет? В синагоге Варя исправно молится, но Бог никогда ей не отвечает. А ришика, если на то пошло, хотя бы ответит.
Хозяйка, стоя возле раковины, насыпает заварку в изящный металлический шарик. На ней свободное хлопчатобумажное платье, кожаные сандалии, голова повязана тёмно-синим платком; длинные каштановые волосы заплетены в две тощие косицы. Хоть она и грузная, но движения легки и точны.
— Где мои братья и сестра? — спрашивает Варя хрипло, стесняясь своего голоса, в котором сквозит отчаяние.
Женщина достаёт с верхней полки кружку и опускает туда металлический шарик. Шторы задёрнуты.
— Скажите, — просит Варя, на этот раз громче, — где мои братья и сестра?
На плите свистит чайник. Хозяйка выключает горелку, наклоняет чайник над кружкой. Мощной чистой струёй льётся вода, аромат трав наполняет комнату.
— Вышли, — отвечает хозяйка.
— Неправда. Я ждала в подъезде, но никто не появился.
Женщина подходит к Варе. Дряблые щёки, нос картошкой, губы бантиком. Кожа смугло-золотистая, как у Руби Сингх.
— Если не доверишься мне, ничегошеньки у меня не выйдет, — говорит она. — Разувайся. А потом можешь сесть.
Пристыженная, Варя скидывает двухцветные туфли и оставляет под дверью. Может быть, гадалка права. Если ей не доверять, значит, зря они сюда пришли — зря рисковали, прятались от родителей, зря копили деньги. Она садится возле складного стола. Хозяйка ставит перед ней кружку чая, и Варе тут же приходят на ум зелья, яды, Рип ван Винкль, уснувший на двадцать лет. И тут она вспоминает о Руби Сингх. «Ришика всё знает, — говорила Руби. — Это бесценно». Варя подносит кружку к губам и отпивает.
Ришика садится напротив, оглядывает Варю — сведённые плечи, вспотевшие ладони, застывшее лицо.
— Тяжело у тебя на душе — да, детка?
От неожиданности Варя сглатывает, качает головой.
— Ждёшь, когда полегчает?
Варя сидит неподвижно, лишь сердце колотится.
— Что-то тебя гнетёт, — кивает женщина. — Ты измучилась. На лице у тебя улыбка, а на сердце тяжесть. Несчастлива ты, одинока. Верно?
Варя беззвучно шевелит губами в знак согласия. Сердце так и рвётся от нахлынувших чувств.
— Вот беда, — продолжает гадалка. — А теперь за дело. — И, щелкнув пальцами, указывает на Варину левую ладонь: — Руку.
Варя съезжает на краешек стула и протягивает ришике руку; та берёт её в свои прохладные ладони, ощупывает проворными пальцами. Варя прерывисто дышит. Обычно она избегает касаться чужих людей, от посторонних её отделяет защитная преграда, словно невидимый плащ. Возвращаясь домой из школы, где парты испещрены отпечатками грязных пальцев, а на игровой площадке кишит сопливая малышня, она моет руки чуть не до мозолей.
— Вы правда такое умеете? — спрашивает Варя. — Вы знаете, когда я умру?
Варю пугают неожиданные зигзаги судьбы: обычные на вид таблетки, которые расширяют сознание и переворачивают мир вверх тормашками; или когда солдат, выбранных случайно, посылают в бухту Камрань или на гору Донг-Ап-Биа, где в зарослях бамбука и трёхметровой слоновой травы полегла в мае тысяча человек. Был у неё одноклассник в сорок второй школе, Юджин Богопольски, и троих его братьев отправили во Вьетнам, когда Юджину с Варей было по девять лет. Все трое вернулись, и семья устроила праздник в квартире на Брум-стрит. А через год Юджин нырнул в бассейн, ударился головой о цементное дно и погиб. Дата смерти — главное и, может быть, единственное, что ей хочется знать наверняка.
Гадалка смотрит на Варю, чёрные глаза блестят, как стеклянные шарики.
— Я могу тебе помочь, — говорит она, — изменить твою жизнь к лучшему.
И принимается изучать Варину ладонь: общий рисунок, пальцы — короткие, с квадратными ногтями. Осторожно оттягивает Варин большой палец, он почти не гнётся. Смотрит на промежуток между мизинцем и безымянным, ощупывает кончик мизинца.
— Что вы там высматриваете? — беспокоится Варя.
— Твой характер. Слыхала о Гераклите? (Варя мотает головой.) Греческий философ. «Характер — это судьба» — так он говорил. Характер и судьба идут рука об руку, как брат с сестрой. Хочешь будущее узнать? Загляни в зеркало.
— А вдруг я изменюсь? — Варе не верится, что судьба уже внутри неё, словно актриса, десятилетиями ждущая за кулисами выхода на сцену.
— Значит, ты особенная. Обычно люди не меняются.
Ришика кладёт Варину руку на стол ладонью вниз.
— Двадцать первого января 2044-го, — сообщает она сухо, будто объявляет прогноз погоды или результат бейсбольного матча. — Времени у тебя хоть отбавляй.
Варино сердце будто взлетает на миг. В 2044-м ей будет восемьдесят восемь, возраст весьма почтенный. Тут Варя задумывается.
— Откуда вы знаете?
— Что я тебе говорила о доверии? — Ришика хмурит кустистые брови. — А теперь ступай домой и подумай над моими словами. Послушаешься меня — и тебе полегчает. Только никому не говори, ладно? Ни про свою руку, ни про то, что я тебе сказала, — это между нами.
Они смотрят друг на друга, Варя и гадалка. Теперь, когда они поменялись ролями и Варя уже не ждёт оценки, а сама оценивает, происходит нечто любопытное. Глаза гадалки вдруг потускнели, перед Варей обычная полная женщина. Слишком уж счастливая судьба предсказана, наверняка обман. Видно, ришика всем говорит одно и то же, никакая она не пророчица, не ясновидящая — шарлатанка, мошенница, вот она кто. Как волшебник из страны Оз. Варя встаёт.
— Мой брат за всех заплатил, — говорит она, обуваясь.
Встаёт и гадалка. Подходит к боковой двери — Варя думала, та ведёт в чулан; с дверной ручки свисает бюстгальтер, сетчатые чашечки размером с Варин сачок для бабочек, — но нет, наружу. Хозяйка приоткрывает дверь, Варя видит полоску красного кирпича, соломинку пожарного выхода. Снизу долетают голоса младших, и Варино сердце взмывает воздушным шариком.
Но ришика, преградив Варе путь, щиплет её за руку.
— Всё у тебя будет хорошо, милая. — В голосе её звенит угроза, будто она силой добивается, чтобы Варя услышала, поверила. — Всё будет хорошо.
На руке у Вари остаётся белый след.
— Пустите меня, — просит она, и голос звучит неожиданно холодно.
Взгляд гадалки мгновенно заволакивается, будто занавесом. Посторонившись, она пропускает Варю.
Варя, стуча двухцветными туфлями, стремглав сбегает вниз по пожарной лестнице. Ветерок ласково обдувает руки, от золотистого пушка, недавно появившегося на ногах, щекотно. Спустившись в узкий проулок, Варя видит, что нос у Клары красный, на щеках дорожки от слёз.
— Что с тобой?
— Разве непонятно? — шмыгает Клара.
— Да, но ведь это непра… — Варя с надеждой смотрит на Дэниэла, но тот застыл с каменным лицом. — Неважно, что она тебе сказала, враньё это. Она всё выдумала. Верно, Дэниэл?
— Ага. — Дэниэл, развернувшись, шагает прочь. — Пошли.
Клара тянет за руку Саймона. Тот несёт матерчатую сумку, по-прежнему полную.
— Ты же должен был заплатить! — спохватывается Варя.
— Я забыл, — отвечает Саймон.
— Не заслужила она наших денег. — Дэниэл стоит на тротуаре, руки в боки. — Пошли!
Домой они возвращаются молча. Варя чувствует себя всем чужой, никогда раньше такого не было. За ужином она ковыряет говяжью грудинку, а Саймон и вовсе к еде не притрагивается.
— Что случилось, сынок? — беспокоится Герти.
— Есть не хочется.
— Почему?
Саймон пожимает плечами. Его льняные кудри при электрическом свете кажутся белоснежными.
— Ешь без капризов, что приготовила мать, — велит Шауль.
Но Саймон ни в какую — сидит, подложив под себя ладони.
— Да что же такое, м-м? — кудахчет Герти, вскинув бровь. — Стряпня моя не нравится?
— Не трогайте его. — Клара треплет Саймона по макушке, но тот отшатывается, со скрипом отодвинув стул.
— Ненавижу вас! — Он вскакивает. — Ненавижу, всех ненавижу!
— Саймон. — Шауль тоже встаёт из-за стола. Он в костюме, недавно пришёл с работы. Волосы у него необычного оттенка — светлее, чем у Герти, с рыжинкой. — Нельзя так разговаривать с родными.
Роль строгого отца ему несвойственна. Дисциплину в семье поддерживает Герти, но на этот раз она молчит, разинув рот.
— А я разговариваю! — кричит Саймон. На лице у него застыло изумление.
Часть первая
Будешь танцевать, малыш
1978–1982. Саймон
1
Когда умирает Шауль, Саймон сидит на уроке физики, рисует концентрические круги, призванные изображать электронную оболочку атома, и сам не понимает, что они означают. Саймону, с его дислексией и витанием в облаках, учёба никогда не давалась, и что такое электронная оболочка — зачем эти орбиты электронов вокруг ядра атома, — он не улавливает. В этот самый миг его отец хватается за сердце посреди пешеходного перехода на Брум-стрит. Сигналит и останавливается такси. Шауль падает на колени, от сердца отхлынула кровь. Смерть его представляется Саймону столь же бессмысленной, как переход электронов от атома к атому: раз — и нет.
Из колледжа Вассара приезжает Варя, из Бингемтонского университета — Дэниэл. Оба в полном недоумении. Да, Шаулю приходилось нелегко, но худшие времена для Нью-Йорка — финансовый кризис, перебои с электричеством — наконец позади. Профсоюзы спасли город от банкротства, и жизнь налаживается. В больнице Варя спрашивает о последних минутах отца. Страдал ли он? Совсем недолго, отвечает медсестра. Он что-нибудь говорил? Никто не слышал. Жену и детей, привычных к его молчанию, этим не удивишь, и всё же Саймона будто обокрали, лишили воспоминаний об отце, таком же безмолвном в последние мгновения, как и всю жизнь.
Следующий день приходится на шаббат, поэтому хоронят Шауля в воскресенье. Встречаются в синагоге Тиферет Исраэль, где Шауль был прихожанином и жертвователем. У входа рабби Хаим протягивает каждому из Голдов пару ножниц для криа[9].
— Нет, не буду, — упирается Герти, которую приходится проводить через всю церемонию похорон за руку, как на таможне при въезде в чужую нелюбимую страну. Платье-футляр сшито для неё Шаулем в 1962-м: плотный чёрный хлопок, вытачки на талии, ряд пуговиц впереди, съёмный пояс. — Не дождётесь, — добавляет она, а взгляд мечется от рабби Хаима к детям, покорно разрезавшим себе одежду над сердцем, и сколько ни толкуй рабби Хаим, что не он от неё этого ждёт, а Бог, кажется, её и сам Бог не заставит. Наконец рабби протягивает ей чёрную ленту, и Герти, разрезав её, победно садится на место.
Саймону никогда здесь не нравилось. В детстве он думал, что под каменными сводами синагоги, тёмными и сырыми, обитают призраки. Службы, те были ещё хуже: бесконечное немое поклонение, горячие молитвы о возрождении Сиона. Сейчас он стоит у закрытого гроба, воздух холодит кожу сквозь разрез на рубашке, и Саймон понимает, что никогда больше не увидит лицо своего отца. Он представляет отцовские глаза, взгляд будто обращён внутрь, и улыбку, кроткую, почти женственную. Рабби Хаим называет Шауля «человеком большой души и твёрдой воли», но Саймону отец всегда казался чопорным и боязливым; всю жизнь он избегал неприятностей и ссор — человек без страстей, уму непостижимо, почему он выбрал в жёны честолюбивую, вспыльчивую Герти: на ней можно было жениться только по большой любви, но уж никак не по расчёту.
После службы все идут за гробом на кладбище Маунт-Хеброн, где похоронены родители Шауля. Девочки обе плачут: Варя — тихо, Клара — в голос, как мать; Дэниэл держится — видимо, машинально, из одного чувства долга. А Саймон не может плакать, даже когда гроб опускают в яму Всё, что он чувствует, — горечь утраты, скорбь не просто по отцу, а по тому настоящему Шаулю, которого уже не суждено узнать. За ужином они сидели на разных концах стола, каждый был погружён в раздумья. Когда кто-то из них поднимал голову и взгляды встречались, Саймона всякий раз словно ударяло током — вроде бы случайность, но их отдельные миры вновь объединял на миг общий стержень.
Сейчас общего стержня нет. Шауль, хоть дома и держался особняком, позволил им принять роли: он сам — добытчик, Герти — командир, Варя — примерная старшая дочь, Саймон — младший, беззаботный. Если отцовский организм, надёжный и внешне здоровый — холестерин ниже, чем у Герти, сердце как мотор, — попросту отказал, каких новых бед ждать? Что ещё может пойти прахом? Варя прячется от всех, забившись под одеяло. Двадцатилетний Дэниэл, еще совсем мальчик, встречает гостей, раскладывает еду, читает молитвы на иврите. Клара, чей угол в спальне самый захламлённый, драит кухню до блеска, так что руки болят. А Саймон присматривает за Герти.
До нынешнего дня всё было наоборот — Герти нянчилась с Саймоном больше, чем со старшими. В юности она мечтала о карьере учёного, любила лежать у фонтана в парке Вашингтон-сквер с томиком Кафки, Ницше или Пруста. Но в девятнадцать встретила Шауля, который, окончив школу, вошёл в дело отца, а в двадцать забеременела. Она ушла из Нью-Йоркского университета, где получала стипендию, и перебралась в квартиру неподалёку от «Швейной мастерской Голда», которая перейдёт к Шаулю, когда его родители отойдут от дел.
Вскоре после рождения Вари Герти устроилась в юридическую фирму администратором — до неприличия рано, по мнению Шауля. По вечерам она по-прежнему уверенно правила их семейной лодкой, а по утрам надевала платье, подкрашивалась румянами из круглой коробочки и, оставив детей у миссис Альмендингер, неслась со всех ног на работу. Зато когда родился Саймон, Герти вместо обычных пяти месяцев задержалась дома на девять, а там и на полтора года. Она везде носила его на руках, в ответ на его плач не выходила из себя, а тетёшкала, пела ему песенки — занятия, прежде для неё тягостные, теперь вызывали сладкую грусть. Ведь она знала, что это не повторится: вскоре после рождения Саймона, когда Шауль был на работе, Герти сходила к врачу, вернулась с пузырьком пилюль — «Эновид» было написано на этикетке — и спрятала его поглубже в ящик с бельём.
— Саймон! — завывает она как сирена. — Подай мне вот это! — И указывает на подушку, лежащую на кровати прямо возле её ног. Или зловещим шёпотом: — У меня пролежень — слишком долго с постели не вставала.
И Саймон, превозмогая отвращение, осматривает её заскорузлую пятку
— Это не пролежень, ма, — объясняет он, — это мозоль.
Но Герти уже не слушает, а требует текст кадиша, или кусочек рыбы, или шоколад с поминальной тарелки, принесённой рабби Хаимом.
Саймон мог бы подумать, что Герти нравится им командовать, если бы она не плакала по ночам — в подушку, чтобы дети не слышали, но Саймон всё равно слышал — и не лежала бы, сжавшись в комок, на постели, которую двадцать лет делила с Шаулем, и не выглядела бы беспомощной девочкой, словно в тот день, когда они встретились. Шива[10] она соблюдает с неожиданным для Саймона рвением, ведь Герти всегда верила в приметы сильнее, чем в Бога: встретит похороны — трижды сплюнет; рассыплет соль — бросит щепотку через плечо, а когда была беременна, старалась не ходить мимо кладбища, и вся семья постоянно меняла маршруты с 1956-го по 1962-й. Шаббат она всегда встречала обречённо, как нежеланного гостя, однако всю траурную неделю не пользуется косметикой, не носит украшений и кожаной обуви. Будто бы в знак покаяния за отказ от криа, день и ночь ходит в чёрном платье-футляре, не замечая пятна от подливки на юбке. Так как деревянных табуреток в доме нет, кадиш она читает, сидя на полу, даже Книгу Иова пытается читать, щурясь и поднося поближе к глазам Танах. Отложив книгу, она дико озирается, как потерявшийся ребёнок; затем следует крик: «Саймон!» — и какая-нибудь будничная просьба: принести фрукты, кекс, открыть или закрыть окно, подать одеяло, тряпку, свечу.
Когда в доме собирается достаточно людей для миньяна[11], Саймон помогает ей застегнуть новое платье, подаёт домашние туфли, и Герти выходит на молитву С ними те, кто много лет прослужил у Шауля, — счетоводы, швеи, закройщики, продавцы и младший компаньон Шауля Артур Милавец, тридцатидвухлетний, тощий, с орлиным носом.
В детстве Саймону нравилось у отца в мастерской. Счетоводы давали ему для игры скрепки и лоскутки, и Саймон гордился, что он сын Шауля — по его светлому кабинету и всеобщему почтению ясно было, что Шауль здесь главный. Качая Саймона на коленях, отец показывал ему, как кроить и шить. Когда Саймон подрос, Шауль стал брать его с собой на ткацкие фабрики за твидом и шелками, что будут в моде в новом сезоне, и в магазин «Сакс Пятая авеню», где он покупал последние модели, чтобы взять их за образцы. После работы, когда мужчины собирались у Шауля в кабинете поиграть в черву или покурить сигары и обсудить забастовку учителей или ассенизаторов, Суэцкий канал или войну Судного дня, Саймону разрешалось посидеть рядом.
Тем временем мало-помалу проступило из мрака и предстало наконец перед Саймоном во всей неотвратимости его будущее. Дэниэл с детства мечтал стать врачом, а младшему, Саймону, всегда было неуютно даже в собственном теле, не говоря уж о двубортном костюме. Когда он стал подростком, женские тряпки ему прискучили, а от прикосновения к шерсти стали чесаться руки. Ему было не по себе от напряжённого внимания Шауля — он чувствовал, что не за горами день, когда отец удалится от дел, пусть в это пока и не верилось. Он огрызался на Артура, который всегда был на стороне отца, а его, Саймона, гонял туда-сюда, как собачонку. А главное, с сожалением понял, что мастерская для Шауля настоящий дом, а работники знают его лучше, чем родные дети.
Сегодня Артур явился с закусками и подносом копчёной рыбы. Вытянув длинную, как у гуся, шею, он целует Герти в щёку.
— Что же нам делать, Артур? — причитает Герти, уткнувшись ему в пиджак.
— Ужас, — откликается Артур. — Кошмар.