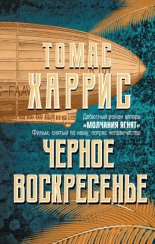Бессмертники Бенджамин Хлоя

— Имя… — говорит, поколебавшись, Герти, — имя сменилось. Была «Мастерская Голда», стала «Мастерская Милавеца». Артур теперь хозяин.
Саймона захлёстывает чувство вины. Но Артур всегда убеждал Шауля идти в ногу со временем. Излюбленные фасоны Шауля — габардиновые брюки, пиджаки с широкими лацканами — вышли из моды ещё до рождения Саймона, и теперь он с облегчением думает: мастерская в надёжных руках.
— Артур справится, — заверяет он. — С ним мастерская от жизни не отстанет.
— Мне нет дела до моды, для меня главное — семья. У нас есть обязательства перед теми, кто заботился о нас.
— А ещё есть обязательства перед собой.
Никогда он не позволял себе так дерзить матери, но убедить её — для него жизненная необходимость. Он представляет, как Герти приходит в академию на него полюбоваться, как аплодирует его прыжкам и пируэтам, сидя на складном стуле.
— Ах да! Для себя ты пожить успеваешь. Клара говорила, ты танцор.
Её презрение прорывается через трубку с такой силой, что слышно в кабинете — полицейский и тот прыскает со смеху.
— Да, танцор. — Саймон сердито сверкает глазами. — И что?
— Я не понимаю. Ты же ни дня в жизни не танцевал!
Что ей ответить? Для него самого загадка, как занятие, прежде ему чуждое, источник боли, усталости и постоянного стыда, стало для него мостиком в другой мир. Вытягиваешь ногу — и она будто вырастает на несколько дюймов. А во время прыжков паришь над землёй, точно за спиной у тебя крылья.
— Ну, — отвечает он, — теперь танцую.
Герти вздыхает шумно и прерывисто, потом долго молчит. И в её молчании вместо привычных нравоучений, а то и угроз Саймону слышится обещание свободы. Если бы в Калифорнии сбежавших из дома подростков преследовали по закону, он был бы уже в наручниках.
— Раз ты для себя уже всё решил, — говорит Герти, — домой можешь не возвращаться.
— Что?..
— Можешь, — повторяет Герти, отчеканивая каждое слово, — не возвращаться домой. Ты сделал выбор — бросил нас. Вот и расхлёбывай. Оставайся.
— Да что ты, ма, — бормочет Саймон, прижав к уху трубку, — хватит преувеличивать.
— Я не преувеличиваю, Саймон. — Герти, умолкнув, вздыхает. Тихий щелчок — и разговор обрывается.
Потрясённый, Саймон застывает с трубкой в руке. Разве не об этом он мечтал? Мать предоставила ему свободу, отпустила в мир, частью которого он стремился стать. И тут же укол испуга: его будто лишили страховки, выдернули из-под ног защитную сетку, и долгожданная головокружительная свобода внушает ужас.
Полицейский ведёт его к выходу. Снаружи, на крыльце, хватает за шкирку и дергает вверх с такой силой, что ноги у Саймона отрываются от земли.
И говорит:
— Вы, бегуны, у меня уже в печёнках сидите, знаешь?
Саймон хватает воздух, пытаясь ногами нащупать опору. Глаза у полицейского светло-карие, водянистые, ресницы жиденькие, на щеках веснушки. На лбу, возле корней волос, несколько круглых шрамов.
— Когда я был мальцом, — продолжает полицейский, — вашего брата привозили пачками каждый божий день. Я-то думал, до вас наконец дошло, что вас здесь не ждут, а от вас всё отбоя нет, засоряете город, как жир забивает сосуды. Пользы от вас никакой, город вас кормит, как паразитов. Я родился на бульваре Сансет, и родители мои, и их родители — и так далее, вплоть до наших предков-ирландцев. Хочешь знать моё мнение? — Он наклоняется к самому лицу Саймона, розовые губы — как туго стянутый узел: — Всё, что с вами случается, — по заслугам.
Саймон, кашляя, вырывается. Краем глаза он видит огненную вспышку — рыжее пятно — сестру. Клара стоит у подножия лестницы в чёрном мини-платье с рукавами-фонариками и в тёмно-вишнёвых ботинках «Доктор Мартинс», волосы развеваются, словно плащ. Клара точь-в-точь как супергерой, лучезарный и грозный. Она похожа на мать.
— Как ты сюда попала? — выдыхает Саймон.
— Бенни мне сказал, что видел полицейские машины. А ближайший участок здесь. — Клара взлетает по гранитным ступеням на крыльцо и застывает лицом к лицу с полицейским. — Какого хрена вы тут вытворяли с моим братом?
Полицейский хлопает глазами. Что-то пробегает между ним и Кларой — искры, жар, ярость, оставляющая во рту едкий металлический привкус. Клара обнимает Саймона за плечи, и молоденького полицейского передёргивает. Вид у него такой прилизанный, добропорядочный, чужеродный в этом современном городе, что Саймону его почти жаль.
— Как вас зовут? — Клара косится на значок на его голубой рубашке.
— Эдди, — отвечает он, задрав подбородок. — Эдди О’Донохью.
Сильная Кларина рука лежит на плече Саймона, все их недавние беды позади. Её защита и тепло напоминают Саймону о Герти, и горло распирает. Между тем Эдди не спускает глаз с Клары. Щёки у него порозовели, лицо слегка вытянулось, будто он видит мираж.
— Что ж, запомню, — говорит Клара. И ведёт Саймона вниз по ступеням крыльца, а оттуда — в самое сердце Мишен-стрит. Жара под тридцать градусов, лотки на тротуарах ломятся от фруктов — настоящий райский сад, — и никто не пытается их остановить.
— Что будешь пить? — спрашивает Саймон.
Он роется в тесной кладовой — это даже не кладовая, а стенной шкаф, где на узеньких полках хранятся припасы: крупы, супы в банках, алкоголь.
— Сделать тебе коктейль? Могу водку с тоником, виски и колу…
Октябрь: короткие серебристо-серые дни, тыквы на парадном крыльце академии. Скелет из папье-маше нарядили в мужские балетные трусы и поставили в приёмной, возле стойки администратора. Саймон и Роберт уже не раз уединялись в академии — целовались в мужском туалете или в пустой раздевалке перед занятиями, — но Роберт ещё никогда не был у него дома.
Роберт откидывается в кресле с бирюзовой обивкой:
— Я не пью.
— Совсем? — Саймон высовывается из чулана, держась за ручку двери, и ухмыляется. — У меня где-то травка есть — это по твоей части?
— Не курю. Уж точно не травку.
— Никаких пагубных пристрастий?
— Никаких.
— Не считая мужчин, — уточняет Саймон.
За окном качается на ветру ветка, заслоняя солнце, и лицо Роберта вдруг гаснет, будто лампа.
— Это не порок.
Встав с кресла, Роберт пробирается мимо Саймона к раковине, плещет в стакан воды из-под крана.
— Да ну, — говорит Саймон, — Ты же сам прячешься!
Перед занятиями Роберт по-прежнему разминается один. Как-то раз Бо их застукал, когда они вместе выходили из туалета, и аж присвистнул им вслед в два пальца, но в ответ на его расспросы Саймон сделал вид, будто не понял. Он уверен, что если бы разболтал, Роберт не одобрил бы, а минуты наедине с Робертом — его низкий воркующий смех, ласковые ладони — слишком ему дороги, чтобы рисковать.
Роберт стоит, облокотившись на раковину.
— Если я не болтаю об этом на каждом углу, это ещё не значит, что я прячусь.
— А в чём разница? — Саймон просовывает пальцы Роберту за ремень. Ещё недавно он даже не думал, что отважится на подобную дерзость, но Сан-Франциско для него как наркотик. За те пять месяцев, что он здесь прожил, Саймон повзрослел лет на десять.
— Когда я в студии, — объясняет Роберт, — я на работе. Я молчу из уважения — к моей работе и к тебе.
Саймон привлекает его к себе, тесно прижимается бёдрами, шепчет ему в самое ухо:
— Так наплюй на уважение.
Роберт смеётся.
— Неправда, ничего ты такого не хочешь.
— Хочу. — Расстегнув Роберту молнию, Саймон лезет к нему в джинсы, хватает и стискивает член. Они так до сих пор и не переспали.
Роберт отступает:
— Ну хватит, не будь таким.
— Каким?
— Пошлым.
— Горячим, — поправляет Саймон. — У тебя же стоит!
— Ну и что?
— И что? — повторяет за ним Саймон. «И всё, всё сразу! — хочет он сказать. — И — пожалуйста!» Но вместо этого у него вырывается: — Трахни меня как сучку.
Так сказал однажды Саймону репортёр из «Кроникл». Роберт как будто снова готов рассмеяться, но лишь кривит рот.
— Думаешь, чем мы с тобой тут занимаемся? Ничего здесь постыдного нет. Ничего.
У Саймона горит шея.
— Да, понимаю.
Роберт хватает со спинки бирюзового кресла пиджак, набрасывает на плечи.
— Понимаешь? Я порой не уверен.
— Слушай, — тревожится Саймон, — мне не стыдно, если ты это имел в виду.
Роберт медлит на пороге.
— Вот и хорошо, — отвечает он. И, аккуратно закрыв за собой дверь, сбегает по лестнице.
В день убийства Харви Милка Саймон сидит в гримёрке «Пурпура», ждёт начала общего собрания. Понедельник, полдвенадцатого утра; танцоры недовольны, что их созвали в неурочное время, и ещё сильнее недовольны, что Бенни запаздывает. Все ждут, работает телевизор. Леди лежит на кушетке с пакетиками чая на глазах; Саймон пропускает занятия в академии.
Настроение мрачное, обречённое: неделю назад проповедник Джим Джонс организовал в Гайане массовое самоубийство.
Когда на экране вырастает лицо Дайан Файнстайн и она срывающимся голосом объявляет: «Мой долг — сообщить вам, что мэр Москоне и член Наблюдательного совета Харви Милк застрелены», Ричи вопит так истошно, что Саймон подпрыгивает на стуле. Колин и Лэнс потрясённо молчат, Адриан и Леди плачут навзрыд, и когда наконец врывается Бенни, бледный, запыхавшийся, — в нескольких кварталах близ района Сивик-Сентер перекрыто движение, — глаза у него заплаканы. «Пурпур» закрывают на весь день, повесив на дверь чёрный шарф Леди, а вечером они вместе с жителями Кастро выходят на марш.
Конец ноября, но улицы согреты теплом тысяч людей. Толпа такая огромная, что даже в магазин за свечами Саймон идёт в обход. Продавец даёт ему двенадцать штук по цене двух и в придачу бумажные стаканчики для защиты от ветра. За пару часов к шествию присоединились полсотни тысяч человек. К зданию мэрии шагают под бой одного-единственного барабана, а те, кто плачет, плачут беззвучно. Щёки у Саймона мокры от слёз. Он плачет о Харви, но не об одном Харви. В толпе взрослых людей, рыдающих, как осиротевшие дети, Саймон думает о родителях, теперь для него потерянных навсегда. Когда хор геев Сан-Франциско поёт гимн Мендельсона — «Прибежище моё, Бог мой», — Саймон никнет головой.
Где его Бог, его прибежище? В Бога Саймон не верит, но опять же, верит ли Бог в него? Согласно Третьей книге Моисеевой, он «мерзость перед Господом». Что же это за Бог, который создал человека, столь ему отвратительного? На ум приходят лишь два объяснения: либо нет никакого Бога, либо он, Саймон, — выродок, ошибка природы. И неизвестно ещё, что страшнее.
Когда Саймон вытер щёки, остальные танцоры из «Пурпура» уже затерялись в суматохе. Вглядываясь в толпу, Саймон вдруг замечает знакомое лицо: добрые карие глаза, при свете яркой белой свечи блестит в ухе серебряная серёжка. Роберт.
Они не обменялись ни словом с того октябрьского вечера в квартире у Саймона, но сейчас пробираются друг к другу сквозь толчею, протягивают руки и наконец встречаются посреди людского моря.
Однокомнатная квартирка Роберта затерялась среди кривых улочек близ Рэндалл-парка. Роберт отпирает дверь, и они вваливаются в прихожую, на ходу расстёгивая друг другу рубашки и ремни. На двуспальной кровати у окна Саймон трахает Роберта, потом Роберт трахает Саймона. Только слово «трахать» тут вряд ли уместно: едва минует первый порыв страсти, Роберт становится нежен, внимателен, ласкает Саймона с таким чувством — или всё из-за Харви? — что Саймона сковывает несвойственная ему робость. Роберт берёт в рот член Саймона и сосёт. Когда Саймон вот-вот взорвется от наслаждения, Роберт поднимает на него глаза, и они смотрят друг на друга так напряжённо, что Саймон подаётся вперед и, взяв лицо Роберта в ладони, кончает.
Потом Роберт зажигает ночник. Против ожиданий Саймона, обстановка у него в доме далека от спартанской — квартира полна сувенирами, привезёнными из первых международных гастролей «Корпуса». Здесь и хохломские миски, и японские статуэтки-журавлики. Презервативы и те в лакированной коробочке. Напротив кровати — деревянная полка с книгами: «Сула»[22], «Человек футбола»[23], — а в крохотной кухоньке висят сковородки. Вход в спальню сторожит картонная фигура — футболист в прыжке, в полный рост.
Они курят, облокотившись на подушки.
— Я его как-то раз видел, — говорит Роберт.
— Кого — Милка?
Роберт кивает.
— После его поражения во второй кампании — кажется, в семьдесят пятом? Видел его в баре рядом с фотоателье. Толпа его качала, а он смеялся, и я подумал: вот кто нам нужен. Тот, кто не падает духом. А не старый нытик вроде меня.
— Харви был старше тебя. — Саймон улыбается, но улыбка гаснет, едва он понимает, что говорил сейчас о Харви в прошедшем времени.
— Да, старше. Впрочем, держался он по-молодому. — Роберт пожимает плечами. — Вот что, на парады я не хожу. И в клубы не хожу. А в бани и подавно.
— Почему не ходишь?
Роберт вглядывается в лицо Саймона:
— Много ли ты здесь видишь таких, как я?
— Попадаются чернокожие. — Саймон краснеет. — Но не так уж много.
— То-то и оно! Не так уж много, — подтверждает Роберт. — А попробуй-ка отыщи хоть одного в балете. — Роберт тушит сигарету. — Тот полицейский, который тебя задержал… подумай, как бы он поступил, будь ты как я.
— Знаю, — кивает Саймон, — я бы так легко не отделался.
Роберт так ему нравится, что Саймон не желает признавать пропасти между ними. То, что оба геи, в глазах Саймона их уравнивает. Но Саймону легко скрыть, что он гей. А расу не спрячешь, тем более что почти все в Кастро белые.
Роберт опять закуривает.
— А ты почему не ходишь в бани?
— Кто сказал, что не хожу? — переспрашивает Саймон, но Роберт в ответ лишь фыркает, и Саймон подхватывает. — Сказать по-честному? Побаиваюсь. Для меня это, пожалуй, слишком.
Может ли удовольствия быть через край? При мысли о банях Саймону видится разгул плоти, дно, преисподняя: засосёт — и уже не выплывешь. Роберту он не солгал: он чувствует, что для него это слишком, и в то же время боится, что войдёт во вкус и похоть его будет безмерна, неутолима.
— Понял тебя. — Роберт морщит нос: — Гадость.
Саймон приподнимается на локте:
— Так почему ты переехал в Сан-Франциско?
— В Сан-Франциско я переехал, потому что выбора у меня не было. Я из Лос-Анджелеса — район под названием Уоттс, слыхал?
Саймон кивает:
— Да, там беспорядки были.
В 1965-м, когда Саймону было почти четыре года, Герти повела их с Кларой в кино, пока старшие дети были в школе. Что за фильм, он забыл, зато хорошо помнит кинохронику перед сеансом. Весёленькая заставка «Юнивёрсал Студиос» и знакомый ровный голос Эда Хёрлихи — ни то ни другое совершенно не вязалось с чёрно-белыми кадрами, что за этим последовали: тёмные улицы в дыму, горящие здания. И под зловещую музыку Эд Хёрлихи пустился расписывать, как чёрные громилы кидаются кирпичами, как снайперы стреляют с крыш в пожарных, как мародёры тащат всё, от бутылок с вином до детских манежей, — но Саймон видел лишь полицейских в бронежилетах и с револьверами, шагавших по пустым улицам. Под конец показали двух негров, но то были явно не громилы, которых описывал Эд Хёрлихи: в наручниках, под конвоем белых полицейских, они шли обречённо, с достоинством.
— Да. — Роберт тушит сигарету о голубое блюдце. — Учился я неплохо — мама у меня учительница, — но, главное, я был сильный. В футбол играл. В десятом классе меня взяли в сборную школы. Мама надеялась, что мне выделят стипендию и я поступлю в колледж. А когда к нам приехал футбольный агент из Миссисипи, стал надеяться и я.
Другие любовники Саймона не говорили с ним по душам. Саймон, если на то пошло, с ними тоже не откровенничал, тем более о семье. Впрочем, такая уж в Кастро публика — люди без прошлого, застывшие во времени, словно мухи в янтаре.
— Ну и как, дали тебе стипендию?
Роберт медлит с ответом, будто испытывает Саймона.
— Я очень сблизился с одним пареньком из нашей команды, — продолжает он, — Данте. Я был защитником, а Данте — принимающим игроком. Я чувствовал, что он отличается от других. И он тоже чуял, что я не такой, как все. Ничего между нами не было до одиннадцатого класса, до последней тренировки перед каникулами. Данте в то лето собирался уезжать, ему предложили стипендию в Алабаме. Я думал, мы с ним больше не увидимся. Мы дожидались в раздевалке, пока все разойдутся, нарочно долго натягивали уличную одежду. А потом снова разделись.
Роберт затягивается, выпускает дым. За окном до сих пор светло — шествию нет конца. Каждый огонёк свечи — один человек. Мерцают белые язычки, точно опустились на землю звёзды.
— Ей-богу, я не слыхал, чтобы кто-то зашёл. Но наверное, всё-таки зашёл. На другой день меня выгнали из команды, а Данте лишили стипендии. Даже барахло из шкафчиков забрать не дали. В последний раз я его видел на автобусной остановке — шапка на глаза надвинута, подбородок трясётся. И смотрит на меня так, будто убить готов.
— Боже… — Саймон ёрзает на постели. — Что с ним стряслось?
— Его подстерегли ребята из нашей команды. Меня тоже подкараулили, но я легко отделался. Я был крупнее, сильнее — защитник как-никак. Другое дело Данте. Ему лицо изуродовали, бейсбольной битой сломали позвоночник. А потом оттащили на поле и привязали к ограде. Сказали, что убивать не собирались, да какой мудак им поверил бы?
Саймон качает головой, от страха его мутит.
— Судья, вот кто поверил, — продолжает Роберт. — Я знал, что если там останусь, то с ума сойду. Вот и приехал в Сан-Франциско. Стал учиться танцам — из балета не выгоняют за то, что ты гей. Нет ничего на свете голубей балета. Но ведь недаром Линн Суонн[24] танцами занимается. Нагрузка адская. И делает тебя сильнее.
Роберт залезает под одеяло, прячет лицо на груди у Саймона, и Саймон прижимает его к себе. Как ему утешить Роберта — взять за руку? Поговорить с ним? Погладить по голове? Новое, взрослое чувство ответственности за другого человека пугает его; здесь гораздо легче допустить промах, чем в сексе.
В апреле Гали звонит Саймону и вызывает в театр, срочно. Саймон хватает спортивную сумку и, не пожалев денег, едет на такси. Гали встречает его у служебного входа.
— Эдуардо получил травму на репетиции, — сообщает он. — Делал со-де-баск[25] и подвернул ногу. Нелепая случайность… ужасно. Надеемся, это всего лишь растяжение, а не что похуже. Даже если так, он выбыл из строя на месяц. — Гали кивает Саймону: — Ты знаешь хореографию.
Его не спрашивают — ему предлагают партию в «Рождении человека». У Саймона сжимается сердце.
— То есть… да, знаю. Но я…
Он хочет сказать: «Но я не потяну».
— Будешь стоять последним, — распоряжается Гали. — Выбора у нас нет.
Саймон следует за ним по длинному коридору к гримёрным. Эдуардо скрючился на полу, нога на деревянном ящике, на лодыжке пакет со льдом. Глаза у него красные, но при виде Саймона он всё-таки находит силы улыбнуться.
— Хотя бы, — шутит он, — костюм для тебя подбирать не надо.
В «Рождении человека» весь костюм танцора — балетные трусы, ягодицы и те наружу. В этом смысле «Пурпур» — неплохая школа: на сцене Саймон полностью раскован, нагота не мешает сосредоточиться на движениях. Огни рампы светят так ярко, что не видно зрителей, и Саймон внушает себе, что их и вовсе нет, только он сам и Фаузи, Томми и Во, все направляют Роберта на пути сквозь рукотворный туннель. Когда они выходят кланяться, Саймон так стискивает руки товарищей, что ладони горят. После спектакля они как были, в гриме, едут в клуб «Кью-Ти» на Полк-стрит. Саймон в порыве восторга хватает Роберта и целует при всех. Все их подбадривают, и Роберт улыбается так смущённо и радостно, что Саймон снова его целует.
А осенью Саймону дают партию в «Крепком орешке», «корпусовской» версии «Щелкунчика». После хвалебной статьи в «Кроникл» продажи билетов вырастают вдвое, и Гали по такому случаю устраивает вечеринку у себя в Аппер-Хайт. Коричневая кожаная мебель; апельсины в золотой вазе на камине благоухают на весь дом. Пианист из академии играет Чайковского на «Стейнвее» Гали. Дверные проёмы увиты омелой, и то и дело средь общего гула раздаются радостные вопли, когда случайным парочкам приходится целоваться. Саймон приходит с Робертом, тот в бордовой рубашке и нарядных чёрных брюках, вместо серебряной серёжки в ухе сверкает бриллиант размером с горошину перца. Посреди беседы со спонсорами Роберт уводит Саймона из-за стола с закусками в коридор, а оттуда — через стеклянные двери в сад.
Они садятся на деревянный настил. Даже в декабре сад стоит в цвету: толстянки, настурции, калифорнийские маки — здешние туманы им нипочём. Саймон вдруг ловит себя на мысли: вот бы и мне такую жизнь — успех, свой дом, любимый человек. Он всегда считал, что всё это не для него, что он создан для другой жизни, не столь благополучной и чистой. И дело не только в том, что он гей, а ещё и в пророчестве. Саймон мечтал бы о нём забыть, но все эти годы оно разъедало ему душу. Он ненавидит и гадалку за то, что предсказала ему такое будущее, и себя за то, что поверил. Если пророчество — ядро на ноге, то его вера — цепь; будто кто-то ему нашёптывает: «Скорей! Беги! Не жди!»
Роберт говорит:
— Я переезжаю.
На прошлой неделе он откликнулся на объявление о сдаче квартиры на Эврика-стрит. Квартира с кухней и палисадником, оплата фиксированная. Саймон ходил смотреть её вместе с Робертом и дивился стиральной машине, посудомойке, остеклённой веранде.
— Сосед у тебя уже есть? — спрашивает Саймон.
Настурции весело кивают рыжими головками. Роберт, сев поудобнее, улыбается:
— Хочешь жить со мной?
Звучит так заманчиво, что Саймона пробирает дрожь:
— Это рядом с академией. Машину подержанную купим, в дни спектаклей будем вместе в театр ездить. Сэкономим на бензине.
Роберт смотрит на него так, будто Саймон признался, что он не гей.
— Хочешь жить со мной, чтобы экономить на бензине?
— Нет! Нет… При чём тут бензин? Не в бензине дело, конечно.
Роберт качает головой, по-прежнему улыбаясь и не сводя с Саймона глаз:
— Не хватает духу признаться?
— В чём признаться?
— Как ты ко мне относишься.
— Да запросто!
— Ну давай. Как ты ко мне относишься?
— Ты мне нравишься, — отвечает Саймон слишком уж поспешно.
Роберт хохочет, запрокинув голову.
— Врун из тебя херовый!
Они в новой квартире, распаковывают вещи — Саймон, Роберт и Клара, которая была не против переезда брата. Она даже как будто рада, что квартира на Коллингвуд-стрит останется в её распоряжении. На смену тёплому декабрю пришли холода, столбик термометра не поднимается выше плюс десяти. Для Нью-Йорка это обычная зимняя погода, но Калифорния изнежила Саймона, потому он бегает между квартирой и грузовиком, надев под спортивный костюм гетры. Проводив Клару, они целуются в закутке за посудомоечной машиной. Роберт крепко обнимает Саймона за талию, Саймон ласкает ягодицы Роберта, член, гордое лицо.
1980-й: новый год, новое десятилетие. Здесь, в Сан-Франциско, Саймона не волнуют ни мировой экономический спад, ни ввод советских войск в Афганистан. Они с Робертом покупают на общие деньги телевизор, и пусть вечерние новости слегка их тревожат, Кастро для них как бомбоубежище, Саймону здесь спокойно и безопасно. Его репутация в «Корпусе» упрочилась, и к весне он уже не дублёр, а полноправный член труппы.
Клара снова работает, днём — администратором в зубном кабинете, по вечерам — официанткой в ресторане на Юнион-сквер. По выходным корпит над сценарием своего шоу, каждый месяц откладывает деньги, хоть по чуть-чуть. По воскресеньям Саймон с Кларой вместе ужинают в индийском ресторане на Восемнадцатой улице. В один из воскресных вечеров Клара приносит с собой папку из манильской бумаги, перетянутую резинкой и набитую фотокопиями: зернистые чёрно-белые фото, вырезки из газет, старые программки и рекламные листовки. В разложенном виде они занимают весь стол.
— Это, — объясняет она, — бабушка.
Саймон склоняется над столом. Мать Герти ему знакома по фотографии над Клариной кроватью. На первом снимке она вместе с высоким брюнетом стоит на спине у скачущей лошади — низенькая, плотная, в шортах и блузке-ковбойке, завязанной узлом на животе. На следующем — это титульный лист программки — у неё осиная талия и крохотные изящные ступни. Одной рукой она придерживает край юбки, в другой сжимает шесть поводков, на каждом по мужчине. Внизу текст: «КОРОЛЕВА БУРЛЕСКА! Посмотрите, как мисс КЛАРА КЛАЙН исполняет ТАНЕЦ ЖИВОТА, и мускулы её дрожат, как холодец на ветру, — из-за этого ТАНЦА потерял голову сам Иоанн Креститель!»
Саймон хмыкает:
— Мамина мама?
— Ага. А это, — Клара указывает на наездника, — мамин отец.
— Ничего себе! — Красавцем его не назовёшь — толстые брови, густые усы, крупный нос, как у Герти, — но есть в нём некое властное обаяние. Он чем-то похож на Дэниэла. — Как ты узнала?
— Собирала материалы. Бабушкиного свидетельства о рождении я не нашла, но знаю, что прибыла она на остров Эллис в 1913-м, на корабле «Альтония». Она была из Венгрии, и, думаю, сирота. Тётя Хельга приехала позже. А бабушка приплыла с женской танцевальной труппой и жила в пансионе — «Доме баронессы де Хирш для трудящихся девушек».
Клара показывает листок с копиями нескольких фотографий: большое каменное здание; столовая, где сидят девушки, — целое море тёмных голов; портрет суровой дамы — той самой баронессы де Хирш — во всём чёрном: блузка с воротником-стойкой, перчатки, квадратная шляпка.
— Подумай, что бы с ней стало — еврейка, без родных. Если бы не пансион, она, скорее всего, оказалась бы на улице. Но место это было и вправду приличное. Девушек там учили шитью, готовили к раннему замужеству, а бабушка была не такая. В конце концов она оттуда сбежала — и занялась этим, — Клара указывает на программку бурлеска, — стала артисткой водевиля. Выступала в танцзалах, паноптикумах, парках развлечений и в пятицентовых помойках, так называли тогда дешёвые кинотеатры. А потом встретила его.
Клара бережно достаёт спрятанный под программкой листок и протягивает Саймону. Свидетельство о браке.
— «Клара Клайн и Отто Горски», — читает вслух Клара. — Он был наездник-ковбой в цирке Барнума и Бейли, чемпион мира. Итак, моя теория: бабушка встретила Отто на гастролях, влюбилась и пошла работать в цирк.
Очередная фотография: Клара-старшая съезжает вниз из-под купола цирка на верёвке, держась за неё зубами. Внизу подпись: «Клара Клайн и её „Хватка жизни“».
— Для чего ты мне всё это показываешь? — не понимает Саймон.
У Клары пылают щёки.
— Готовлю программу, фокусы плюс смертельный трюк. Учусь делать «Хватку жизни».
Саймон давится овощным карри.
— Ты с ума сошла! Ты же не знаешь, как она это делала! Наверняка есть какой-то секрет.
Клара качает головой:
— Нет никакого секрета — всё было по-настоящему. А Отто, бабушкин муж? Упал с лошади и разбился насмерть в 1936-м. После этого бабушка с мамой вернулись в Нью-Йорк. В 1941-м она делала «Хватку жизни» на Таймс-сквер — съезжала на верёвке с крыши «Эдисон-отеля» на крышу театра «Палас». И на полпути сорвалась. И погибла.
— Боже! Почему мы ничего не знали?
— Мама никогда не рассказывала. В те времена это был большой скандал, и, мне кажется, мама всегда стыдилась бабушки. Ведь та была не такой, как все. — Клара кивком указывает на фото, где мать Герти скачет на лошади в ковбойке, завязанной узлом на животе. — Да и дело это давнее — маме было всего шесть лет, когда бабушка погибла. После этого маму взяла к себе тётя Хельга.
Саймон знает, что Герти растила бабушкина сестра, старая дева с ястребиным носом, говорившая в основном по-венгерски. На все еврейские праздники она приходила к ним на Клинтон-стрит, семьдесят два, приносила карамельки в цветной фольге. Но ногти у неё были длинные, острые, и пахло от неё как из шкафа, который не открывали лет десять, и Саймон всегда её побаивался.
Он смотрит, как Клара складывает фотографии обратно в папку.
— Клара, не надо. Ты рехнулась.
— Умирать я не собираюсь.
— Откуда ты, чёрт подери, знаешь?
— Знаю, и точка. — Клара открывает сумочку, прячет туда папку, застёгивает молнию. — Отказываюсь умирать, и всё тут.
— Да, — отвечает Саймон, — как и все на свете люди до тебя.
Клара молчит. Она всегда так, если что-то вбила в голову. «Как собака с костью», — говорила Герти, но это не совсем точно. Просто Клара замыкается в себе, до неё не достучаться, будто уходит в другой мир.
— Вот что, — Саймон касается её руки, — а название ты уже придумала? Для своей программы?
Клара улыбается по-кошачьи: острые клычки, блеск в глазах.
— «В поисках бессмертия», — заявляет она.
Роберт держит лицо Саймона в ладонях. Саймон только что проснулся в ужасе после очередного дурного сна.
— Чего ты так боишься? — спрашивает Роберт.
Саймон качает головой. Четыре часа дня, воскресенье, и почти весь день они провалялись в постели, не считая получаса, когда ели яйца в мешочек и хлеб с вишнёвым вареньем.
Слишком уж всё хорошо — хочет он сказать, — это ненадолго. Следующим летом ему исполнится девятнадцать — долгая жизнь для кошки или птицы, но не доя человека. Он никому не рассказывал ни о гадалке с Эстер-стрит, ни о её приговоре, а срок как будто приближается с удвоенной скоростью. Однажды в августе он, прыгнув в тридцать восьмой автобус, доезжает до парка «Золотые ворота» и шагает по каменистой тропе до мыса Лендс-Энд. Кипарисы, полевые цветы, развалины купален Сатро. Сто лет назад здесь был настоящий человеческий аквариум, теперь от него остались руины. Но ведь были же они роскошными когда-то! Даже рай — в первую очередь рай — и тот не вечен.
Зимой «Корпус» начинает готовить весеннюю программу, «Миф». В первой части Томми и Эдуардо изображают Нарцисса и его Тень, в точности повторяя движения друг друга. Затем следует «Миф о Сизифе»: девушки исполняют ряд движений, что-то вроде рондо. В заключительной части, «Мифе об Икаре», у Саймона первая в жизни главная роль: он — Икар, Роберт — Солнце.
На премьере он парит вокруг Роберта. Круги сужаются. За спиной у него пара широких крыльев из воска и перьев, как те, что сделал доя Икара Дедал. Оттого что приходится танцевать с девятью килограммами за спиной, у Саймона кружится голова, и он рад, когда Роберт наконец снимает с него крылья, пусть это и означает, что воск растаял, а Саймон — Икар — должен погибнуть.
Когда музыка — «Варшавский концерт» Ричарда Аддинселла — близится к кульминации, душа Саймона будто взмывает над землёй. Тоска по родным теснит ему сердце. «Видели бы вы меня сейчас!» — думает он. Но никого из родных рядом нет, и он льнёт к Роберту, когда тот выносит его на руках в середину сцены. Свет вокруг Роберта затмевает всё: и зрителей, и других артистов, что смотрят на них из-за кулис.
— Я тебя люблю, — шепчет Саймон.
— Знаю, — откликается Роберт.
За громкой музыкой никто их не слышит. Роберт опускает Саймона на пол. Саймон ложится, как учил Гали: ноги поджаты, руки тянутся к Роберту. Роберт, прикрыв Саймона крыльями, отступает вглубь сцены.
Так проходит два года. Саймон варит кофе, Роберт стелет постель. Всё для Саймона ново — но вскоре уже не ново: и поношенные тренировочные брюки Роберта, и его стон наслаждения, и еженедельная стрижка ногтей — аккуратные полупрозрачные полумесяцы в раковине. И чувство собственности, непривычное, хмельное: он мой! мой! Когда Саймон оглядывается назад, ему кажется, что эта пора пролетела как миг. Мелькают в памяти сцены, как кинокадры: Роберт на кухне, готовит гуакамоле. Роберт разминается у окна. Роберт выходит в сад нарвать тимьяна и розмарина, что растут у них в глиняных горшках. По ночам фонари светят так ярко, что и в темноте виден сад.
— Твои движения, — учит его Гали. — Должны. Быть. Цельными.
Декабрь 1981-го.
На мужском занятии учатся делать фуэте — вращение на одной ноге, стоя на пальцах, другая нога открывается в сторону. Саймон уже два раза падал, и вот Гали стоит позади него, положив одну ладонь ему на живот, другую на спину, а остальные смотрят.
— Подними правую ногу. Не расслабляй центр. Держи равновесие.