Отрочество 2 Панфилов Василий
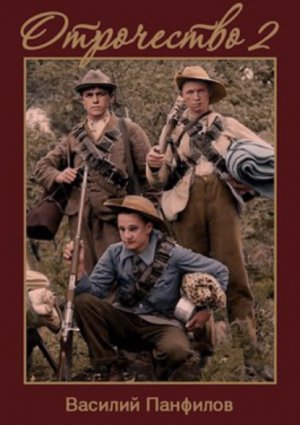
Лезет и лезет в голову всякое… заговорщицкое! Сам себя накрутил так, што чуть не каждая переглядка гриква наполнена высоким смыслом, и с большим трудом удаётся уговорить себя, што даже если и да, то мне какое дело?! Это их, ну и Ройаккеров, междусобойчик.
Сделали несколько вариантов — от относительно тонкостенной бревнины с жерлом чуть не на полведра, перетянутого канатами, до небольшой пушчонки, которую можно перетаскивать на хребте по зарослям, — гриква обтянули её кожей по какой-то хитрой технологии. С испытанием получился затык, за неимением должного количества пороха.
На творение пороха в сарайных условиях мы с братом глядели сперва со скепсисом, а потом издалека. Вышла, как и ожидалось, редкая дрянь — обычная механическая смесь селитры, серы и угля, сгорающая самым непредсказуемым образом.
— Нормально, — ничуть не смутился папаша, снаряжая первую пушку, — «Роёры» под такой порох и делали.
Толстостенность ружей пришла нам с Санькой в голову одновременно. Переглянувшись, отошли подальше, ведомые скепсисом и здоровой сцыкливостью.
К превеликому моему удивлению, все модели пушек бахнули уверенно по паре раз, не думая разлетаться на половинном заряде при стрельбе картечью. Дальше рисковать не стали, и началась подборка под…
… ситуацию…
— А как именно мы будем их применять, — озадачился Корнелиус, выпрямляясь с постнеющей на глазах физиономией.
А действительно?!
— Не воспринимайте кайзера всерьёз, господин президент, — предупредил Крюгера консул Трансвааля в Германии, — вся его риторика, все поступки сводятся к тому, чтобы расхаживать с важным видом, вставая в горделивые позы и бряцать невынутым из ножен мечом[65]. Ему хочется ощущать себя подобием Наполеона и походить на него, но без участия в битвах.
Не говоря ни слова, Крюгер остро глянул на дипломата, поправляя перед зеркалом орденскую ленту на сюртуке.
— Британские офицеры, — продолжил тот невозмутимо, — считают его дураком и называют «Дымящий Вилли», сравнивая с первым паровозом Стефенсона — скорее шумным и дымным, нежели полезным.
Дядюшка Поль кивнул, принимая сказанное к сведенью, и замер на миг.
— Родс и союзные ему британские промышленники, владеющие шахтами на наших землях, заигрались, — сказал он хрипловато, — до поры мы терпели их, помня о священном праве частной собственности, но англичане раз за разом показывают нам, что законов они придерживаются только тогда, когда их можно трактовать в свою пользу.
— Национализация… — выдохнул восторженно консул.
— Да, — кивнул Крюгер, начиная с неотвратимостью ледокола двигаться к выходу, спускаясь к экипажу, — сегодня в Претории зачитают моё письмо перед Фолксраадом. Мы не будем больше терпеть враждебные действия иностранных подданных.
— Думаю, — он усмехнулся суховато, — такое событие заставит Его Величество перейти от воинственной риторике к действиям.
Глава 32
— Развод караула, — негромко говорит Санька, не отрываясь от наблюдений за британцами.
— Угу… — щёлкаю крышкой часов и сверяю время, записывая в тетрадь. Хронометраж у нас абсолютный, насколько это вообще возможно.
У наблюдателей две тетради — одна с поминутным хронометражом, другая с наблюдениями. Кто из солдат близорук, кто хромает или несёт службу спустя рукава — всё заносится!
— … рыжий хромец мается животом, — в тон моим мыслям говорит Санька.
— Смените, — прошу гриква, видя братову усталость и всю его излишне напряжённую фигуру. Веит охотно подхватывает бинокль, поправив мимолётно тубусы из бумаги поверх окуляров. Может, и перестраховка, но чуть меньше шансов, што засекут отблеск стекла…
С биноклем осанка чернокожего полководца меняется, и прямо-таки вижу, как поверх потрёпанного пиджака вырастают офицерские эполеты. Ох и непрост… ну да не моё то дело, и если гриква имеют таки гражданское самосознание и собственное мнение о судьбах Африки, то кто я такой? Пусть.
Покачав головой, гляжу на Саньку, полуприкрывшему усталые глаза и затеявшего игру с изумрудной змейкой, переползающей на соседнюю ветку. Подставив руку, он шепчет што-то, и вот ей-ей, змея будто прислушивается, приподняв треугольную голову и переползая на руку.
— Чево? — поворачивается он на взгляд.
— Так… шаман, однако!
— Скажешь тоже! — качает тот головой, — Змеи, они никогда зазря не укусят!
В голосе убеждённость, которую не перешибить ничем.
— Ага, ага… а шепчешь тогда што?
— Так! — он краснеет буряково, делая вид независимый и вольный, — Бабка научила.
— Ты не подумай! — вскидывается он, поняв моё молчанье по своему, — Хочешь, научу?
— Потом, — задумчиво гляжу на змейку, пригревшуюся на его руке, обвившись причудливым браслетом поверх рукава рубахи. Вроде как и да… но лёгкая сцыкливость даёт о себе знать. Сильно подозреваю, што дело не в шепотках бабкиных, а в плавных движениях и уверенности брата, да и действительно — змеи по большей части совершенно не агрессивны… но проверять не хочется. По крайней мере, пока.
В высоком кустарнике влажная духота, пропахшая пряными запахами цветов и трав, жужжаньем насекомых и короткими перебежками ящерок, замирающих при каждом движении. Изредка проползёт по своим делам змея, да вспорхнёт на крохотную поляну мухоловка, обманутая нашей недвижностью.
Обмахиваемся изредка от насекомых и наблюдаем, наблюдаем, наблюдаем… Папаша с Корнелиусом, сменяясь, караулят в нескольких милях отсюда надёжно укрытую в одной из крохотных долин повозку и скот.
Подойдя к кустам, слегка сдвигаю ветки и разглядываю укрывшийся в небольшой долине концлагерь. Сейчас мне не нужны никакие биноклевые подробности, а просто наглядность перед глазами.
Долина узкая, трещиноватая, будто расколовшая гору. Стены не то штобы вовсе отвесные, и с немалым трудом можно вскарабкаться на склоны, которые чуть повыше становятся вполне себе пологими проходимыми, но дальше зась! Броди по ним хоть как, а проскользнуть мимо британцев из долины не выйдет, если только ты не опытный скалолаз.
Гриква с Корнелиусом за два дня обошли всю долину по гребню горы, и если они говорят нет, то это весомое нет. Выросли они в этих местах, и ходить по горам и промеж них умеют, а если не пройдут они, то женщины и дети, которых в лагере большинство, тем паче.
Шатры и палатки буров, а то и безлошадные повозки, раскинуты по всей узкой долине, тулясь в основном рядышком с двумя тонкими ручейками, стекающими с гор. Народ в лагере вялый, как это бывает от весенней бескормицы, да так оно и есть.
Видно, как народ ковыряется в земле, ища коренья и любую поживу. Везде проплешины — как бывает, если скот долго остаётся на месте.
Мишку видели пару раз, но мельком и вовсе уж издали. Вроде как без повязок, но што, как…
Фактически, единственный затык, это британский блокпост, перегораживающий долину на входе, но и тот скорее от побега, нежели для отражения врага. Колючая проволока широкой дугой, мешающая пройти заключённым к британцам, в паре десятков метров за ней мешки с песком, сложенные едва ли по грудь высотой, и наконец — палатки.
Парочка складских, с продовольствием, амуницией и патронов.
Офицерская, в которой обитает дрищеватого вида второй лейтенант с явно купленным офицерским патентом. Мальчишка, от силы лет семнадцати, с упоением играющийся в солдатики и старательно соблюдающий все законы и поконы Офицера и Джентельмена, часто утрированно и всегда — без должного понимания.
По утрам он делает зарядку, умывается над тазиком, шумно фыркая, отплёвываясь и отсмаркиваясь, и бреет прыщи, ходя потом с заклеенной бумагой физиономией. Затем лейтенант изволит устраивать смотр, завтракает, и развлекает себя шагистикой подчинённых и выполнением ружейных приёмов. Просителям лейтенант явно раздражается, полагая эту часть своих обязанностей низменными и тягостными.
В штабной палатке строго по одному принимают буров, и в ней же обитает сержант, переслуживший все сроки и тянущий лямку по инерции. Душевно вялый, немолодой, высохший, с замедленными движениями ревматика и въевшимся намертво индийским загаром. Производит впечатление служаки, сделавшего карьеру преимущественно в канцелярии, и собравшегося уже в отставку, но вот незадача… война!
Вся его натура уже на пенсии, и главное — дождаться наконец, скинуть опостылевший мундир… Старается не напрягаться лишний раз, будь то душевно или тем паче физически.
Две солдатские потрёпанные палатки четвёртого срока службы, в которых обитает семнадцать вояк, грозных скорее своей многочисленностью, нежели чем иным. Тот случай, когда второй сорт не брак.
Будь нас чуток побольше… Обрываю эти свои мысли, потому как затевать длительную перестрелку не по мне, да и защита, пусть даже и заметно худшая, у британцев не только со стороны концлагеря.
Въезд в долину перекрывают частично мешки, почему-то с одной только стороны, шлагбаум и колючая проволока в два ряда. Прорваться атакой можно, но буры атаки не любят, так што в принципе и да, вполне надёжно, тем более для тыла.
Какую-то часть бриттов можно пострелять со склонов, откуда мы за ними наблюдаем, но подумав как следует, оставляю эту мысль в сторону. Увы, но для прицельной стрельбы далеко. Штучный выстрел — быть может, но делать ставку… нет, точно нет.
Да и неизвестно, какие у них приказы — может быть, расстрелять или повесить в случае нападения «мятежников». Слыхивали про такие случаи. Женщинам и детям ничего не грозит, но Мишка…
В голове потихонечку вызревает план — невероятно авантюрный и рискованный, но за неименьем десятка-другого особо метких стрелков, пожалуй, што и единственный.
Начало темнеть, и мы, стараясь не потревожить лишний раз растительность и зверьё, криком орущее при нарушении покоя, спустились в лагерь, где уже вовсю булькал на костре ужин. Немного крупы, коренья и много-много мяса. Очень вкусно! Папаша расстарался, и хотя обычно буры обходятся в походе вяленым мясом и сухарями, готовить в походе мужчины умеют.
На меня поглядывают, чуя новости, но не спешу, говорить начинаю уже за кофе, тем паче чую, што спать нас севодня ложиться позднёхонько.
— Есть, — дую в кружку, — план. Намётки скорее. Схема такая себе… несложная и действенная…
— … но, — обвожу всех глазами, — суть в том, што для его выполнения нам потребуются стальные яйца.
Зафыркали, фраза в переводе не нуждается, понятна интуитивно. Молчу, жду ответа…
Решительно кивнул Санька… гриква… Переглянувшись, кивают буры, тут же вопрошая глазами о подробностях.
— Значит, так…
Не доезжая метров двадцати до шлагбаума, остановили быков. Папаша, пользуясь моментом, невозмутимо достал трубку и начал раскуривать. По правую сторону от него, зайдя чуть вперёд, переминаются гриква. Сбросившие дорогие их сердцу европейские одёжки и стоящие в одних набедренных повязках с грузом за спиной, выглядят они точь-в-точь как провинившиеся слуги, особенно если не слишком разбираться в расовых особенностях местных уроженцев.
— Оёёюшки, — поёжился брат, потянувшись лопатками назад и готовясь скинуть куртку.
— Ждём… — сидя в циновке поверх пушек с раскуренной сигарой в руке, шиплю я змей, — ждём, Саня…
Болезненного вида капрал, вышедший нам навстречу с двумя подчинёнными, требовательно махнул рукой.
— Стоять! — запоздало пролаял он, пока рядовые навели на нас ружья.
Папаша в ответ завёл медленный разговор, мешая африкаанс с дрянным британским, вставляя в речь имена Родса и чиновников Капской колонии. Сморщившись, как от зубной боли, капрал заглянул внутрь, но увидел двух мальчишек на груде барахла, и ощутимо расслабился, рявкнув што-то солдатикам, опустившим ружья.
В животе у него забурлило, и сделав отчаянное лицо, капрал дал знак проезжать, мелкими шагами засеменив назад. Не спеша, папаша сделал несколько затяжек, поделился с солдатами табаком, и только потом тронул вожжи.
Заведя быков, он развернул их задом, будто готовясь сгружать привезённое к складской палатке, где уже сгрудилось несколько солдат. Санька тут же соскочил, откидывая задний полог, и взмахом руки подзывая их.
Улыбнувшись рыжеватому молоденькому солдату с лицом вечного чмошника, заглянувшего в повозку, вжимаю сигару в запальное отверстие…
… и каменная дробь, да с близкого расстояния, сделала из них фарш. Оглушённый близким разрывом, я пропустил пару секунд, а когда очухался, успел увидеть присевшего за повозку папашу, выпускающего из магазинки пули с самой невозмутимой физиономией…
… Саньку, закружившегося с револьвером промеж палаток, подхватывающего на лету ружьё из пирамиды…
… вывалившегося из-под повозки Корнелиуса, передёргивающего затвор…
… и Веита, упавшего на четвереньки и склонившего голову. Выстрел из закреплённой на спине пушки смёл двух британцев и штабную палатку, а гриква уже вскакивал, а на четвереньки падал Гирд…
Выдернув из-под шкур карабин, включаюсь в веселье… и не успев сделать выстрела, понимаю, что всё, враги внезапно закончились.
— Это было… — стараюсь не глядеть не человечину, густо разбросанную по земле, — легко.
— Мы мужчины, — невозмутимо заметил Веит, слегка морщась при движениях. Всё-таки отбило ливер, несмотря на подстеленную под пушку доску и пару циновок.
— Со стальными яйцами, — широко улыбнулся Гирд.
Широко вздохнув похуделой грудью и сморгнув непрошенные слёзы, Бляйшман оглядел выстроившееся на площади коммандо… его коммандо! Триста человек отборных молодцев, и это только пока! Потом будет ого, а может даже и совсем два раза!
Фима уже видел сибе генералом с орденами, героически идущего по Одессе, на зависть всем, и особенно всяким, кто говорил разное. Да, за такое можно поступиться прибылью, особенно с надеждой на после войны.
Героические карьерные мечты прервал Бургер Шал, вышедший из Фолксраада вместе с парламентариями на принятие присяги.
— И всё-таки — почему? — неожиданно спросил он Бляйшмана в наступившей тишине.
— Мы… — Фима хотел было сказать заготовленные умные слова, но его таки вдохновенно понесло, в лучших традициях Привоза, только через высокое, — видим народ праведный на землях обетованных! Народ, который живёт по Книге, и имеет дерзновение говорить нет Сильным Мира Сего, и стоять за Правду вооружённой рукой!
— И… — он сглотнул и выдохнул жарко, на всю площадь, в каждое открывшееся ухо, — мы хотим встать рядом с вами, и отражать нашествие Врага, потому что так — правильно!
— А потом… — он оглянулся на коммандо, обведя взглядом, — те из нас, кто пожелает этого, осядет на освободившиеся от Врага земли, и заживёт так, как должно. По Книге.
Молчанье… и площадь будто выдохнула, а у некоторых буров увлажнились глаза.
«— Ой, — думал Фима озабоченно через несколько потом, закрывшись у себя в кабинете и делая вид через работу, — мине кажется, или я сказал такую сибе красоту, шо вышла уже таки политика? Ой вэй…»
— Зато, — попытался приободрить он сибе, — если это будет да, то я таки в истории и практически в сказке! Осталось только сделать её такой, где жили они долго, счастливо и богато!
Глава 33
Мишка моргает воспалёнными веками, щурясь на нас навстречу солнцу, время от времени прижмуривая их и распахивая вновь. В глубине его глаз — неверие в собственное счастье и отчаянное желание, што всё это не окажется сном.
— Вы… — и выдох счастливый, и плевать ему и нам на человеческое мясо под ногами. Шагнули, да и обнялись втроём, и долго-долго не распускали руки. Только три сердца бухали вразнобой, норовя проломить грудные клетки.
Расцепились когда, буры уже растаскивали колючую проволоку в сторону, деловито собирая чужие трофеи, прежде всего оружие. Ну… пусть, не тот случай, когда нужно считаться такими вещами.
Гриква ушли, как и не было, и упоминать о них, согласно уговору, нельзя. Не было и нет, а если кто и видел своими глазами, то обознался, вот! Такая себе политика с этнографией, которая хоть и любопытна, но лезть в неё с головой, становясь этаким Миклухо-Маклаем на здешний лад, ну никакого желания! А ежели без головы, то и оно и тово… буквально может осуществиться. Без понимания момента, но с дурным любопытством не к месту.
Это только на первый взгляд — аборигены объевропеенные, а на деле — за ними пастбища, пахотные земли и военная сила, не слишком шуточная по здешним диковатым местам. Политика здесь не проще, чем на Кавказе, а гриква и бастеры — вполне себе козырные карты в здешних раскладах.
Папаша, взобравшись на повозку, толкнул речь, надрывая глотку на все полторы сотни собравшихся, натягивая жилы на тощей шее и багровея лицом.
— … вот герои… — слова его время от времени пропадали для меня, и попытавшись протереть уши пальцем, я уставился на подсохшую кровь, осыпающуюся чешуйками.
«— Перепонки»
… знать бы ещё, што это, и насколько опасно…
— … подобно Иуде Маккавею[66], собрал всех ревнителей Бога… — голосина у папаши знатный, ну да здесь такое нормально. Окаём! Доорёшься пока до напарника, да через стадо голов сотни этак в полторы, то-то глотка лужёная станет!
Слух снова пропал, но взгляды у собравшихся в нашу сторону самые благожелательные и уважительные, так што сделал на всякий случай вид бравый и скромный, как и положено хвалимому. Судя по пунцовеющему Саньке и гордому нами Мишке, вроде как и да, хвалят.
Мы вроде как и со всеми, но чуть с краешку, не ввинчиваясь в толпу чужих для нас людей, едко пахнущих потом и болезнями.
Затем пели псалмы, и Мишка со всей серьёзностью, а мы с Чижиком и не так, штобы очень, но показываем как да. После псалмов на повозку влез Корнелиус, закатив проповедь, и судя по взглядам буров — зашло, да ещё как!
Закончилась проповедь, и сразу буднично всё, деловито. Бабы взялись кашеварить из найденных припасов, наводить какие-то жидкие болтушки. Мужики, знамо дело, за оружие да за инструменты, ну и так — любопытствовать.
Инвентаризация трофейного оружия не заняла много времени.
Девять винтовок «Ли-Метфорд», из которых одна пришла в полную негодность от картечи. Двенадцать винтовок «Ли-Энфилд», и почти три тысячи патронов к ним, почему-то преимущественно россыпью.
В палатке лейтенанта нашлось два охотничьих карабина, весьма недешёвых, и три револьвера, один из которых, украшенный перламутром и больше похожий на игрушку для светской дамы, озадаченные буры пустили по рукам.
Саблю за оружие не посчитали, но Санька вытребовал себе законный трофей.
— Так себе, — констатировал он пренебрежительно, проверив сталь и сделав пару взмахов, — металл качественный, а баланса толком нет, да и в руке плохо лежит.
— Над кроватью повешу, — не сдержал он сурового вида, расплываясь в совершенно мальчишеской улыбке.
— Там-тамы уже есть, осталось только щенка бульдога[67], — поддразнил я его.
— А и да? — брат раскраснелся, додумав недосказанную цитату.
— Да я разве против? — у меня пошёл откат после боя, и настроение дурашливое до глупости, — Главное, ты сам понял, чево хотишь!
— Да я-то да… — вздохнул он прерывисто, — а она… Надя ещё девчонка совсем.
Трофейное оружие, всё до последнего ствола, разобрали буры, причём по здешней патриархальности, исключительно мужчины. Я закусил было губу, и вознамерился набычиться и вмешаться, но Мишка успел уцепить меня за локоть.
— Не лезь, — тихохонько сказал он, подтягивая назад, — всё равно не послушают.
Войско наше приросло численностью, но вот грозность под сильным сомнением. Мужчины в лагере сплошь или престарелые, или пораненные. Отощавший Мишка, часто моргающий воспалёнными глазами и явно не отошёдший ещё на здешних скудных харчах от лёгких ранений, на их фоне вполне себе бравый вояка.
И… они никак с нами собрались!? Я-то думал выцепить Мишку, да и уйти тихохонько через горы кружным путём. Долго, но надёжно и почти полностью безопасно — с поправкой на неизбежные случайности. Втроём, да не спехом, избегая лишних встреч, оно вполне себе и действенный план.
Планы мои споткнулись о местные реалии, и после речи о Маккавеях народ воспринял всё несколько… буквально. Дескать, пойдут избранные Богом, войско грозное… религиозность буров, она иногда удивительно не к месту!
Сделал мысленную пометку, што Айзек Ройаккер недоговороспособен, потому как изначально уговаривались, што по окончанию операции он выделит нам трёх верховых лошадей, и будем уходить отдельно. А теперь, значица, так… глаза отводит, как и не помнит такого.
Дабы не наговорить всякого сгоряча, отошёл в сторонку и поглядел, как копают ямину для британцев. В живых никого не осталось, всех дурниной покрошили, н-да… Не спросишь даже, когда у них смена, или там пополнение, подвоз припасов… Неудачно получилось.
А другой стороны, чего Боженьку-то гневить?! Живы, целы, Мишка свободен, што ещё надо?! Уйти бы отсюдова целыми…
Место для могилы выбрали помягче, штоб не утруждать себя, и как это водится в Африке, лёгкая земля без особых каменьев, оказалась насквозь пропитанной ходами землероек, бурозубками, червями, многоножками и крохотными змейками. Едва ли не каждый взмах мотыгой перерубает пополам какую-то извивающуюся гадоту. Вёдрами для курей набирать можно.
— Самое то для бриттов, — мстительно сказал подошедший Мишка, ткнув в бешено извивающуюся многоножку носком ботинка, — знал бы ты…
— Так хреново?
— Ну… — он покусал потрескавшуюся губу, — особой жесточи не было, но паёк скудный, а списаться с родными на предмет помочь провизией, одеждой или хоть лекарствами запрещено. Такое, знаешь… цивилизованное скотство.
— Нецивилизованного тоже хватает…
Мишка поймал мой взгляд на папашу, суетящегося у повозок, и вздёрнул бровь. В нескольких словах объяснил всю суть, но к моему удивлению, брат не стал возмущаться, только похмыкал чему-то своему.
— Забудь, — сказал он наконец, — тот случай, когда што ни сделаешь — всё плохо. Я… хм, могу потом словами перемолвиться с нужными людьми в нужном месте, и будет у Ройаккера моральный долг.
— На безрыбье и рыбу раком, — нехотя соглашаюсь с Пономарёнком, — но всё равно раздражает. Если бы без платы, на одном патриотизме взялся…
— Забудь, — ещё раз повторил брат, — ну или если хочешь — дяде Фиме скажи, он ему деловую и прочую репутацию подпортит.
— Картечницу нашли! — добежал до нас Санька, ковырявшийся вместе с трофейщиками, — Айда!
Двухствольная картечница Гарднера, устаревшая и изрядно ненадёжная, без треноги и всего-то с парой сотен патронов, по здешним условиям пусть и не вундервафля, но вполне себе оружие. Гадать, почему она оказалась в ящике под бамбуковыми жердями, можно долго, но у лейтенанта уже не спросишь.
— К повозке приделать, а? — вопросительно посмотрел на меня Санька, — Штоб как с пушкой при нужде.
— Ну… можно, — соглашаюсь с ним, — только надо предусмотреть возможность палить не только с повозки.
Пока Санька объясняет бурам, што я слесарь не из последних, иду ковыряться в куче трофейного металла, на ходу придумывая возможные эрзац-станины. Несколько буров, не чуждых кузнечного искусства и знаний механики, взялись помогать.
В десяток рук сделали нехитрый вертлюг с раскладывающимися распорками, продырявив коловоротом дно повозки и укрепив отверстие металлом. Установили картечницу, отстреляли на пробу несколько патронов, правя заодно прицел. Нормально!
После обеда общее собрание, на котором постановили отложить выход на завтра. Повозок у нас всего три — папаши и две британских. А упереть надо продовольствие на всю толпу, да пяток обезноженных и полтора десятка тех, кто еле-еле ногами шоркает, от возраста или бескормицы.
Благо, быки и лошади не то што в избытке, но есть, так что взялись делать лёгонькие повозки с запасными колёсами из трофеев. За недостатком колёс и ненужности излишней крепости, возки делали самые простые: бамбуковый каркас, обшитый полотном, два колеса сзади, а спереди повозка жердинами опиралась на бычье ярмо.
Набежали тучи, и порывистый ветер сбросил на нас тяжёлые капли дождя. Пятнадцать минут ливня, когда вода бросается ветром со всех сторон, и всё, снова солнышко, только ручьи по раскисшей земле текут.
Снова закипела работа, а у меня в голове засело почему-то, как ветер повозки двигал, будто игрушки детские. Одна, почти готовая, обтянутая уже полотном, даже подлетела — к счастью, невысоко. Гвоздём в башке момент этот!
И будто я не я, а руки сами потянули бамбучины, а потом — ощущение полёта! Краешком этак, но…
… теперь я знаю, как. Делал. Именно такой, самодельный — на спор. Причины спора уже не помню, да они и не важны.
Набросав чертёж, и с трудом не то вспоминая, не то вычисляя заново нужное соотношение площади и веса, я мотанул головой братьям.
— Крылья, — отвечаю на незаданный вопрос, — увидите.
— Ф-фу… — тихохонько выдохнул Санька, и выставил вперёд ладонь, останавливая Мишку. Незаметные… как им кажется, переглядки… и вот мы в четыре руки делаем с Чижиком каркас, а Пономарёнок, наш бравый портняжка, уверенно кроит лейтенантскую палатку плотного шёлка.
Буры косятся, но не лезут, а уже вырубаю из жести кольца нужных размеров, скрепляя места стыков. И на всякий случай — верёвочками!
Дольше было обшивать каркас полотном, но бурские женщины то ли от любопытства, то ли в знак благодарности, взялись помогать, и за пару часов до заката дельтаплан был готов.
— Ну… — сердце колотится отчаянно, — бежим вместе, а когда скажу — отпускаете.
— Ага! То есть поняли! — отозвался Санька, на лице которого начало проявляться понимание, што может быть, я и не дуркую после контузии…
Разбег наш с пологого склона, смотрели, наверное, все буры…
— Отпускай! — поджимаю ноги, и воздух мягко подхватывает парусиновые крылья. Руки неуверенно пытаются вспомнить, как надо управлять неуклюжим летательным аппаратом, а в голове — эйфория!
… впрочем, скоро закончившаяся. Пролетев пару сотен метров, я так и не поймал восходящие потоки, и приземлился, гася скорость бегом. Оборачиваюсь…
… и вижу Корнелиуса, несущегося галопом на неосёдланной лошади. На морде лица — восторг неизбывный, как у человека, узревшего Чудо. За ним буры, братья… все вперемешку, в глазах сияние небесное.
Назад дельтаплан несли чуть не полсотни человек, настолько всем хотелось прикоснуться к Небу. Снова разбег, подживаю ноги, вдевая их в петлю, и… лечу!
И это не сон, подо мной — Африка! Крохотные фигурки людей машут руками, а у меня — счастье.
— Небо будет нашим! — ору я истошно, а на глазах — слёзы.
Глава 34
Круша африканскую твердь, мотыги мерно вгрызаются в землю, зарываясь всё глубже. Раз за разом вытягивается кожаное ведро на верёвке, и красноватая глинистая земля высыпается на растущий отвал земли.
Наконец могильщики выбираются из глубокой ямины и садятся на отвалы, закуривая трубки. Глаза сухие и кажется, даже умиротворённые, но…
… это только кажется. Кто сам не хоронил близких, умерших от болезней или злой бескормицы по весне, никогда не поймёт…
Короткая молитва, проповедь, пение псалмов, и маленькое тело Клааса, зашитое в парусину, опускается на протянутые руки.
— Никогда, наверное, не привыкну, — вздрогнул Санька, заслышав шорох осыпаемой земли, отворачиваясь с прикушенной губой.
Не первая смерть после освобождения, и скорее всего, не последняя.
Первым умер старый Франс с вытекшим от побоев глазом, всё радующийся, што умирает свободным и просящим похоронить его непременно на пригорке.
Потом Стэйн укусила какая-то ядовитая членистоногая гадота, и хотя обычно от укусов этой гадоты не умирали, но женщине, ослабленной длительным недоеданием, хватило.
Теперь вот четырёхлетний Клаас. В лагере ещё маялся животом, да так и не отошёл. Тяжело уходил, долго, искричался весь, а под самый конец — исхрипелся. Так вот…
— Я тут подумал, — начал Санька после ужина, да и замолчал, отвлёкшись на мысли.
— Ну?
— Ась?! А… о маскировке подумал, — брат подбросил дровишек в костёр, и пламя, затрещав искристо, начало облизывать смолистую толстую ветку, — У бриттов вон, поначалу все в красных мундирах были, а сейчас шалишь! В хаки переодеваются от бурских глаз, прицеливание штоб затруднить, да и так — не высмотришь уже колонну издалека.
— Ну и… — он взглянул на меня остро, — я тут за небо подумал. Эта… летадла твоя, она грязно-белая, так што сразу и не заметишь.
— Точнее, — он захмыкал весело, щуря глаза от дыма, — даже если глаза заметят, мозги не поверят.
— Ага, — весело отозвался Мишка, — люди не летают, и точка!
— Вот! — Санька вздел указательный перст, снисходительно кивнув Пономарёнку с видом гимназического учителя, и некоторое время они весело пихались, сталкивая друг дружку с брёвнышка, — О чём это я? А… И если немножечко помочь, раскраской… а? Контуры разлохматить, например — одни белее, другие серее. Штоб не треугольник твоей летадлы в небе виднелся, а такое себе… облачко рваное. Для обману глаз.
— Тогда и мне што-то шить надо.
— Угу… угу, — ещё раз повторил Мишка, меряя меня взглядом, — сейчас и начну.
— Охота тебе глаза трудить у костра!
— Охота или нет, — рассудительно отозвался брат, — а надо. Сам постоянно примочки к глазам после каждого полёта прикладываешь, а тут — тьфу! Тебе ж, по сути, два мешка балахонисто сшить, делов-то!
— Пойду баб озадачу, — поднялся Санька, — они тутейшие, наверняка ведь красят ткани, не могут не знать нужных трав.
Поутру подошёл ко мне папаша, выбранный в капитаны каравана, как местный и имеющий соответствующий опыт. Взгляд такой себе… между виноватым и задиристым. Когда человек осознаёт, што не прав, но и виноватым себя не считает, и как бы выпячивает, што если бы вдруг ещё — так же поступил бы!
Дёрнул губой на моё невставание с бревна, но смолчал, присев рядом с кружкой кофе и тощей лепёшкой в руках, поверх которой лежал кусище мяса фунта на полтора. Помолчали, подавили друг дружке нервы…
Я после его нарушенного слова перестал вести себя как бурский малолетка, равно как и Санька. Ну а што? Для маскировки, так больше и не надобно, а ради уважения… так разве только к возрасту, но — зась! Не уважаю.
Мишка же… я не сразу понял его слова насчёт переговорить и повлиять. А он, на минуточку, авторитетный боевой офицер, притом не назначенный, а выбранный в коммандо, што для европейца, а тем паче малолетки, такое себе ого! Собственно, даже и не ого, а единственный пока, прецедент.
И в лагере потом, из обмолвок буров, уверенно себя поставил… и мал-мала британцев построил, што и вовсе — не каждому дано. Мягко говоря.
Для меня-то он по-прежнему тот самый застенчивый хромоножка, вздыхающий на гоняющих мячик футболистов, а оно вишь ты как интересно вышло?! На деле же — офицер, притом настолько для буров свой, насколько это вообще возможно.
Будь у него опыт вождения именно караванов, хрен бы там Ройаккеру капитанство бы обломилось! Папаша наш не из последних людей, но среди освобождённых есть народ поавторитетней. Вылез он отчасти как местный, то бишь знающий местность до последней сурочьей норки, а отчасти — как освободитель. Но ни я, ни Корнелиус не намерены скрывать и не скрываем, што план по освобождению — мой!
Такая вот у нас в караване ерундистика, с высокими отношениями. Сложно закрученная.
— К полудню надо будет решать, куда поворачивать, — неспешно сказал папаша, кусанув мясо.
— Взлечу, — отвечаю после короткой паузы. Посидели так, поели… не то штобы хлеб переломили, но — вместе. Может, и в самом деле… моральный долг и всё такое? Надо будет уточнить у брата, што это вообще такое в понимании буров.
Трое мальчишек, выслушав Ройаккера, унеслись вдаль на рысях, разведывать подходящую площадку для подлёта. Я же забрался под… хм, летадлу, прячась от солнца.
Совестно немного вот этак, чуть не в паланкине ехать, а куда деваться? Ветрище на высоте ажно веки выворачивает, и без очков типа шофёрских — зась! Пялиться-то надо вовсю, навстречу ветер, на насекомые, ети их насекомьих мамаш!
После первого полёта глаза промывал, да с примочками лежал. Вот и сейчас — лежу, пока летадлу вместе со мной тянут по вельду три бабьих силы. А куда деваться?!
Переть-то я могу, сила в ногах есть, а вот глаза поберечь надо. Вслепую же по вельду тащиться, так это не до первой норы или кочки, так до второй! Вот… барствую.
… разбег…
— Пускай! — поджимаю ноги, вкладывая в лямки, и ощущая всеми крылами, как меня подхватывает ветер. Летадла моя тяжеловата в управлении, и вот ей-ей, есть там што править и переделывать! Но потом. А пока так, как есть, ибо работает — не тронь! В полевых-то условиях.
На высоте довольно холодно, и если бы не надетая заранее одёжка с преизбытком, да мешковатая братова парусиновая шинелка с ногами, так и совсем бы зазяб! Несколько минут набираю высоту, кружа вокруг да около каравана, и старательно примечая всё-всё…
Начинаю кружить по кривым спиралям, охватывая всё большую и большую территорию, и остро жалея об отсутствии фотоаппарата. Такие кадры! Но вот ей-ей, в Претории понаделаю — придумал уже, как и што. Единственная заковыка, так это выставить нужное расстояние, но и то — решаемо.
Горы, ущелья, складки местности и самомалейшие ручейки ложатся в голову, и я уже поворачиваю было назад, когда замечаю тонкую колонну в походном строю. Британцы! До полуроты людей, шесть… нет, всё-таки семь повозок, все верхом. Драгуны или полноценная кавалерия, с высоты не видно, а снижаться не хочу.
Пару минут трачу на запоминание и уточнение, привязку к координатам и соотношение масштабов. С высоты расстояние сильно иньше виднеется, так што помимо опыта из прошлой жизни, пытаюсь соотноситься с фигурками пасущихся буйволов, к примеру.
Кружанув, возвращаюсь назад, и подлетев к каравану, начинаю снижаться. Круг, ещё круг… ветер игриво подхватывает летадлу, и вместо мягко приземления, бегу на отбитых пятках, снижая скорость.
Летадлу подхватывают за бамбучины, не давая опуститься на кочкастую землю. Отношение к ней, да и отчасти ко мне, у буров самое трепетное. Сперва — глазами своими наблюдали человека в небе, притом вроде как по наитию — то бишь несомненно с Божьей помощью, в чём никто не сомневается.
Да и практическая польза сразу пошла — несколько взлётов всего, а маршрут поправить, навести охотников на стадо антилоп, вставших в распадке самым неудачным для себя образом. Уже немало.






