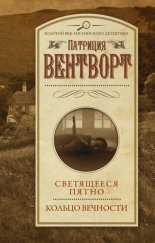Кошачий глаз Этвуд Маргарет
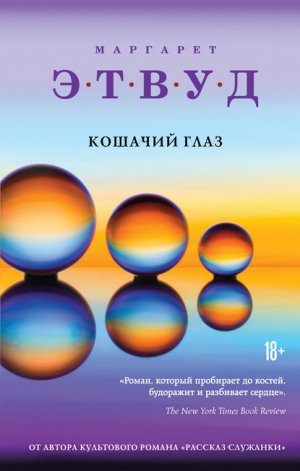
– Джон, когда ты наконец повзрослеешь?
– А мистер «Сосиска с фасольками»?
– Да ладно. Ты тоже не ангелом был. Все эти тощие девицы к тебе так и липли. Это ведь ты не хотел никаких обязательств, забыл?
Сара все еще спит в кроватке. Мы в безопасности, можно заняться выяснением отношений, высказыванием обличительных истин, которые не совсем истинны. Но, раз начав, остановиться трудно. В этом есть некое упоение.
– Я хотя бы ничего не скрывал, – говорит он. – Не прятался. Не притворялся чистеньким и невинным, в отличие от тебя.
– А может быть, я тебя любила, – говорю я. Мы оба замечаем, что глагол стоит в прошедшем времени.
– Да откуда тебе знать, что такое любовь!
– Зато Моника это хорошо знает, да? Хочешь сказать, что ты и сейчас ничего не скрываешь? Я находила чужие шпильки в своей собственной постели! Не мог хотя бы водить девок куда-нибудь в другое место!
– А ты-то? Тебя вечно нет дома. Кто знает, чем ты занимаешься.
– Я? И когда я, по-твоему, этим занимаюсь? Я даже думать толком не успеваю! У меня нет времени на живопись! Мне посрать сходить некогда! Я все время работаю, чтобы было чем платить за эту чертову квартиру!
Я сказала самое ужасное, зашла слишком далеко.
– То-то и оно, – говорит Джон. – Всё вертится вокруг тебя. Сколько ты работаешь да сколько всего терпишь. Я как будто и не при делах.
Он находит свою куртку и открывает входную дверь.
– Идешь на свидание с Моникой? – я вкладываю в реплику максимальное количество яда. Я ненавижу эти перебранки, достойные школьного двора. Я хочу объятий, слёз и прощения. Но только чтобы они возникли сами, без усилий с моей стороны, как радуга на небе.
– С Патрицией, – отвечает он. – Моника – просто приятельница.
Зима. Отопление выключается, снова включается, снова выключается через неравномерные промежутки времени. Сара простужена. Ночью она кашляет, я встаю, вливаю в нее несколько ложек сиропа от кашля, приношу ей водички попить. Днем мы обе усталые и без сил.
Той зимой я сама часто болею. Я заражаюсь от Сары. Утром по будним дням я лежу в постели, глядя в потолок. Голова мутная, будто ватой набита. Мне хочется, чтобы меня поили имбирным элем и свежевыжатым апельсиновым соком, чтобы издалека доносились звуки радио. Но все это в прошлом. Мне никто ничего не приносит в постель. Если я хочу имбирного эля, я должна сходить в магазин или на кухню, купить или налить его сама. Сара в гостиной смотрит мультики.
Я вообще бросила живопись. Я не могу о ней даже думать. Я получила небольшой грант от государственной программы развития искусств, но не могу организоваться так, чтобы было время взяться за кисть. Я тащу себя волоком – на работу, в банк за деньгами, в магазин за продуктами. Иногда я смотрю по телевизору дневные мыльные оперы – в них больше кризисов, чем в жизни, и люди одеваются лучше. Я обихаживаю Сару.
Кроме этого я ничего не делаю. Я больше не хожу на собрания женщин, потому что они будят во мне чувство вины. Джоди звонит и предлагает встретиться, но я отказываюсь. Я знаю, что она попытается меня подбодрить, начнет давать оптимистические, позитивные советы, которым я все равно не смогу последовать. От этого я только почувствую себя еще большим ничтожеством.
Я не хочу никого видеть. Я лежу в спальне, задернув занавески, и пустота омывает меня медлительной волной. Во всем, что со мной творится, виновата исключительно я сама. Я сделала что-то плохое – настолько ужасное, что я этого даже не вижу, и теперь оно тянет меня ко дну. Я бесполезна и глупа. Если я умру, от этого всем будет только лучше.
Как-то ночью Джон не приходит. Это необычно: по нашему с ним молчаливому соглашению он, даже если где-то задерживается, к полуночи возвращается домой. Сегодня мы не ссорились; вообще почти не разговаривали. Он не позвонил, чтобы сказать, где он. Его намерения ясны: он бросил меня, оставил в снегу.
Я лежу в темноте, скрючившись, завернувшись в старый спальник Джона и прислушиваясь к хриплому дыханию Сары и шелесту мокрого снега в окне. Любовь притупляет зрение; но, когда она проходит, видишь ясней прежнего. Как будто прибой отступает, открывая все, что было выброшено в море: битые бутылки, старые перчатки, ржавые консервные банки, обглоданные рыбьи тушки, кости. Все это видишь, когда сидишь в темноте с открытыми глазами, не зная, что лежит впереди. Видишь сотворенные тобой руины.
Мое тело инертно, безвольно. Я думаю, что надо подвигаться, восстановить кровоток – как делают в мороз, чтобы не замерзнуть до смерти. Я заставляю себя встать. Я пойду на кухню и заварю чай.
По улице, по мокрому снегу пролетает машина – приглушенный шорох. В гостиной темнота, лишь свет уличных фонарей падает через окно. В этом полумраке сверкают инструменты на рабочем столе Джона: плоское лезвие резака, молоток. Я чувствую, как тянет к себе земля, как я скольжу по темной гравитационной кривой, как огромны межатомные пространства, куда так легко провалиться.
Именно тогда я слышу голос – вовсе не у меня в голове, но в комнате, совершенно отчетливый: «Ну-ка, давай. Давай же. Вперед». Этот голос не предлагает никакого выбора: он обладает силой приказывать. Есть разница – прыгаешь сам или тебя сталкивают.
Я беру резак и полосую. Даже не больно – набегает шелестящий шепот, пространство смыкается вокруг, и я оказываюсь на полу. В этой позиции меня находит Джон. Кровь в темноте черная и не блестит, и он ее видит, только включив свет.
В отделении неотложной помощи я говорю, что это несчастный случай. Я художница, говорю я. Я резала холст, и лезвие соскользнуло. Рука левая, так что объяснение правдоподобно. Я боюсь и хочу скрыть правду: я не желаю, чтобы меня упрятали в дом № 999 по Куин-стрит, сейчас или когда-либо еще.
– Среди ночи? – уточняет доктор.
– Я часто работаю по ночам.
Джон подтверждает мою легенду. Он испугался не меньше меня. Перевязал мне руку посудным полотенцем и отвез меня в больницу. Кровь промочила полотенце насквозь и испачкала сиденье в машине.
– Сара! – вдруг вспомнила я.
– Она внизу, – ответил Джон. Внизу, на первом этаже под нами, живет домовладелица, вдова-итальянка средних лет.
– Что ты ей сказал?
– Сказал, что у тебя аппендицит. – Я посмеялась, но совсем чуть-чуть. – Что это на тебя такое нашло?
– Не знаю. Теперь тебе придется чистить салон.
Я чувствовала себя белой, обескровленной, окруженной любовью, очищенной. Умиротворенной.
– Вы уверены, что не хотите с кем-нибудь поговорить? – спрашивает врач в больнице.
– Нет, все в порядке, – отвечаю я. Именно говорить мне и не хочется. Я знаю, кого он имеет в виду – психиатра. Кого-нибудь, кто скажет мне, что я чокнутая. Я знаю, кто слышит голоса: те, кто злоупотребляет алкоголем, выжигает себе мозги наркотиками, съезжает с катушек. Я же чувствую себя абсолютно адекватной, у меня даже тревожность прошла. Я уже решила, что сделаю – чуть позже, завтра. Надену перевязь и буду всем говорить, что сломала запястье. Так что я не обязана рассказывать этому врачу, или Джону, или вообще кому угодно про голос.
Я знаю, что его на самом деле не было. И в то же время знаю, что я его слышала.
Сам по себе он был не страшный. Не угрожающий, а возбужденный, словно предлагал какое-то хулиганство, выходку, забаву. Нечто драгоценное и тайное. Голос девятилетнего ребенка.
Снег растаял, оставив по себе грязное кружево, ветер носит по воздуху пыль и песок – наследие зимы, на загаженных газонах из земли пробиваются крокусы. Если я останусь тут, то умру.
Я думаю о том, что должна покинуть не только Джона, но и этот город. Именно он меня убивает.
Он убьет меня внезапно. Я буду идти по улице, не думая ни о чем особенном, и вдруг развернусь и нырну с тротуара под колеса. Брошусь без предупреждения под прибывающий поезд метро. Прыгну с моста, сама того не желая. Буду слышать только этот голосок, манящий, заговорщический, радостный, подначивающий. Я знаю, что способна на такое.
(Хуже того: хотя я боюсь этой идеи и стыжусь ее, хотя при дневном свете считаю чересчур мелодраматичной, смешной и отказываюсь воспринимать всерьез, я еще и наслаждаюсь ею. Так алкоголики помнят про спрятанную утылку: я, может быть, не собираюсь пускать ее в дело прямо сейчас, но мне спокойней знать, что она есть. Это запасной вариант, тайная утеха, выход. Это оружие.)
По ночам я сижу у кроватки Сары, глядя, как трепещут ее веки во сне, прислушиваясь к ее дыханию. Она останется одна. Или не одна – у нее есть Джон; без матери. Немыслимо.
Я включаю свет в гостиной. Я знаю, что нужно паковаться, но не знаю, что взять с собой. Одежду, игрушки Сары, ее плюшевого кролика. Это кажется непосильным, и я иду спать. Джон уже в постели, отвернулся к стене. Мы успели пройти фазу притворного перемирия и исправления и немедленно уперлись рогами друг в друга. Я не бужу его.
Утром, когда Джон уходит, я пристегиваю Сару в колясочку, иду в банк и снимаю часть денег от гранта. Я не знаю, куда ехать. Понимаю только, что прочь отсюда. Я покупаю билеты до Ванкувера – там хотя бы тепло (во всяком случае, я на это надеюсь). Я запихиваю вещи в дорожные сумки, купленные в магазине армейских товаров.
Я хочу, чтобы Джон вернулся и остановил меня; теперь, начав действовать, я сама не могу поверить, что наконец решилась. Но Джон не приходит.
Я оставляю ему записку, делаю сэндвич с арахисовой пастой. Разрезаю пополам и половину даю Саре со стаканом молока. Вызываю такси. Мы сидим за кухонным столом, уже в пальто, едим сэндвич и пьем молоко, и ждем.
Тут приходит Джон. Я продолжаю есть.
– Куда это ты, черт побери, намылилась?
– В Ванкувер.
Он садится и смотрит на меня. У него такой вид, будто он не спал несколько недель, хотя на самом деле он в последнее время спит много, даже слишком много.
– Я не могу тебя остановить. – Это констатация факта, а не уловка: он отпустит нас без борьбы. Он тоже устал.
– Кажется, такси уже здесь, – говорю я. – Я тебе напишу.
Я умею уходить. Главный фокус в том, чтобы захлопнуть створки. Не слышать, не видеть. Не оборачиваться.
Мы едем не в купе, поскольку я вынуждена экономить. Я сижу всю ночь, Сара сопит, раскинувшись у меня на коленях. Она поплакала немножко, но она еще мала, чтобы понять, что я сделала. Что мы делаем. Другие пассажиры вытягивают ноги в проход; багаж расползается, к спертому воздуху добавляется табачный дым, унитазы в туалетах забиваются обертками от еды. В одном конце вагона играют в карты и пьют пиво.
Поезд бежит на северо-запад, через сотни миль чахлого леса и скальных выступов, сотни маленьких безымянных синих озер, окруженных болотами, камышами и сухостойными ёлками, в тенях еще прячется снег. Я смотрю в окно вагона, полосатое от дождя и пыли, и вижу пейзаж своего раннего детства – размазанный, лишенный запахов, недосягаемый, убегающий назад.
Изредка поезд пересекает дорогу – посыпанную гравием или узкую асфальтированную с белой полосой посередине. Кажется, что здесь царят тишина и пустота, но для меня здесь не пусто и не тихо. Это пространство полно отголосков.
«Дом», – думаю я. Но нет такого места, куда я могла бы вернуться.
Всё складывается хуже, чем я думала, и одновременно – лучше.
Порой мне кажется, что отъезд был безумием; а в другие дни – что это самый здравый поступок, совершенный мною за много лет.
В Ванкувере всё дешевле. Пожив немного в гостинице, я нахожу дом, который мне по карману снять – на склоне над пляжем Китсилано. Один из этих игрушечных домиков, которые внутри оказываются больше, чем кажутся снаружи. Из дома открывается вид на залив и горы вдали, а летом его затапливает бескрайний свет. Я устраиваю Сару в детский садик, созданный и управляемый группой родителей. Какое-то время мы живем на мой грант, потом я нахожу работу на неполный день – реставрирую мебель для торговца антиквариатом. Работа мне нравится – она не требует умственных усилий, к тому же мебель не умеет говорить. Я изголодалась по молчанию.
Я лежу на полу, меня омывает ничто, я вишу на ниточке. Я плачу по ночам. Я боюсь услышать голоса. Или голос. Я дошла до самого края, до края обрыва. Меня могут столкнуть.
Я решаю, что можно пойти к психиатру – теперь это в порядке вещей для утративших душевное равновесие, а я точно его утратила. Психиатр – мужчина. Вроде неплохой человек. Он просит, чтобы я рассказала ему абсолютно обо всем, что происходило со мной до шести лет. О том, что было после шести, он слышать не хочет. Он считает, что после шести лет человек уже отлит в бронзе. То, что происходит потом – неважно.
У меня хорошая память. Я рассказываю ему про войну.
Я рассказываю про запястье и резак, но не про голос. Не хочу, чтобы психиатр счел меня чокнутой. Я хочу, чтобы он был обо мне хорошего мнения.
Я рассказываю ему про омывающую меня пустоту.
Он спрашивает, бывают ли у меня оргазмы. Я говорю, что проблема не в этом.
Он считает, что я от него что-то скрываю.
Через некоторое время я перестаю к нему ходить.
Постепенно я исцеляюсь, понемногу опять завладеваю собственными руками. Я начинаю вставать рано утром, когда Сара еще спит, и заниматься живописью. Оказывается, у меня есть определенная, несколько двусмысленная, репутация – после той выставки в Торонто, и меня приглашают на вечеринки. Сперва у местных в общении со мной проскакивает неприязнь – потому что я «оттуда, с востока», и предположительно по этой причине пользуюсь несправедливыми преимуществами. Но, пожив здесь сколько-то, я становлюсь своей и уже сама могу подпустить неприязни в общении с пришельцами с востока – и мне это сходит с рук.
Еще меня иногда приглашают участвовать в групповых выставках. В основном приглашают женщины: они слышали о брошенной чернильнице, читали злобные рецензии – все это служит мне верительной грамотой, хоть я и с востока. Здесь смешиваются и реагируют, как в тигле, самые разные художницы, самые разные женщины, они кипят сжатой энергией, как сила взрыва, запертая в тесном пространстве, и максималистским пылом, свойственным любой религии в самом начале. Недостаточно выражать лояльность на словах и верить в равную оплату за равный труд; нужно переродиться до глубин сердца. Во всяком случае, это подразумевается.
Популярное занятие – исповедь: но исповедуются не в грехах, а в мучениях, принятых от рук мужчин. Страдание важно, но лишь определенные виды: страдание женщин, но не страдание мужчин. Рассказывать о своих страданиях называется «делиться». Я не хочу такой дележки; к тому же у меня слишком мало шрамов. Я вела защищенную жизнь. Меня никогда не били, не насиловали, я не голодала. Конечно, я была бедна, но ведь и Джон был беден.
Я могла бы рассказать про Джона. Но я считаю, что наши силы были равны. На любой его удар я отвечала ударом – равным, а может, и более сильным. Сейчас он корчится, потому что скучает по Саре. Он звонит по межгороду, и голос в трубке пропадает и появляется, как радиопередачи времен войны – жалобный, побежденный, полный архаичной печали, которая, как мне все сильнее кажется в последнее время, свойственна мужчинам вообще.
Нечего его жалеть, сказали бы женщины. Я не жалостлива, но Джона мне жаль.
Кое-кто из этих женщин – лесбиянки, только что объявившие об этом или только что обнаружившие этот факт. Это, с одной стороны, храбрый поступок, но, с другой стороны, обязательный. Некоторые считают, что женщина может состоять в равноправных отношениях только с другой женщиной. Иначе она не настоящая.
Я стыжусь собственной негибкости, нехотения: но дело в том, что перспектива оказаться в постели с женщиной приводит меня в ужас. Женщины затаивают зло, ведут список обид, меняют облик. Они выносят суровые, непреклонные приговоры – в отличие от мужчин. Мужчины полуслепы, их взгляды затуманены романтикой, невежеством, пристрастиями и желаниями. Женщины слишком много знают – их нельзя обмануть, им нельзя доверять. Я могу понять, отчего мужчины боятся женщин, согласно распространенному обвинению.
На вечеринках мне начинают задавать наводящие вопросы с инквизиторским душком: меня спрашивают о моей позиции, моем кредо. Я виновата в том, что всего этого у меня слишком мало: я знаю, что не укладываюсь в мейнстрим, поскольку безнадежно гетеросексуальна, я мать, я тайная предательница, я преступно слаба. Мое сердце в лучшем случае сомнительно – в нем таится гниль, оно может подвести в любой момент. Я до сих пор брею ноги.
Я избегаю сборищ этих женщин, боясь, что меня канонизируют или, наоборот, сожгут на костре. Мне кажется, они обсуждают меня за глаза. Из-за них я еще больше теряю уверенность, потому что у них есть образ, на который я обязана походить, а я на него не похожа. Они хотят меня улучшить. Временами я злюсь: какое они имеют право диктовать мне, что я должна думать? Я не женщина с большой буквы, и черт меня побери, если я позволю себя впихнуть в этот шаблон. «Стервы, – молча думаю я. – Не смейте мной помыкать».
Но вместе с тем я завидую их убежденности, их оптимизму, их беззаботности, отсутствию страха перед мужчинами, товариществу. Я будто смотрю со стороны и трусливо машу платочком, провожая солдат в бой, а они, совсем молодые, почти мальчики, уходят, распевая бравурные песни.
Я завожу подруг, не очень близких. Они матери-одиночки, как и я. Я знакомлюсь с ними в детском садике. Мы оставляем детей друг другу, если нужно вырваться из дома на вечер, и безобидно брюзжим вместе. Мы как Марджори и Бэбс, мои давние соученицы с курса рисования с натуры – так же находим смешное в печальном. Это свойственно женщинам постарше, но ведь мы и стали старше.
Джон приезжает с визитом, прощупывая почву для возможного примирения. Мне кажется, что я тоже хочу с ним помириться, но ничего не выходит. Мы наконец-то разводимся, заочно.
Мои родители тоже приезжают в гости. Мне кажется, они скучают не столько по мне, сколько по Саре. Под разными предлогами я все это время не ездила к ним на Рождество. На фоне гор родители кажутся не на месте, они как-то съеживаются. В письмах они больше похожи на себя. Они опечалены моим поступком, моей, как они наверняка это называют, разбитой семьей, и не знают, что сказать. «Ну что уж тут, дорогая, – говорит моя мать про Джона. – Я всегда думала, что он слишком сильно чувствует». Это зловещий диагноз, не предвещающий ничего хорошего.
Я веду родителей в Стэнли-парк, где растут большие деревья. Я показываю им океан, который плюхает водорослями о берег. Я показываю им гигантского слизняка.
Мой брат Стивен присылает открытки. Он присылает плюшевого динозавра для Сары. Он присылает водяной пистолет. Книжку-считалку про муравья и пчелу. Солнечную систему – пластмассовый мобиль, – и звезды, которые можно приклеить на потолок: они светятся в темноте.
Через некоторое время выясняется, что в крохотном мирке искусства (крохотном, потому что кто им вообще интересуется? Его даже по телевизору не показывают) спирали, квадраты и гигантские гамбургеры выходят из моды, а входят в моду другие вещи, и я внезапно оказываюсь на гребне небольшой волны. Вспыхивает ажиотаж – во всяком случае, по сравнению с тем, к чему я привыкла, это можно считать ажиотажем. Мои картины продаются активней и за более крупные суммы. Меня начинают представлять два галериста – один на востоке страны, другой на западе. Я ненадолго еду в Нью-Йорк, оставив Сару с одной из матерей-одиночек – в Нью-Йорке канадское правительство организует групповую выставку, которую посещает много людей, сотрудничающих с Торговой комиссией. На открытие выставки я одеваюсь в черное. Я хожу по улицам Нью-Йорка, чувствуя себя образцом душевного здоровья по сравнению с местными – все они, кажется, разговаривают сами с собой. Я возвращаюсь.
У меня бывают связи, редкие и продиктованные отчаянием. Они торопливы и не приносят особого счастья: у меня нет времени на тонкости. Даже эти краткие интерлюдии отнимают слишком много сил.
Никто из этих мужчин меня не отвергает. Они просто не успевают. Я знаю, что для меня опасно, и держусь подальше от края. От всего слишком блестящего и острого. От недосыпа. Когда мне становится нехорошо, я ложусь, ожидая пустоты, и она приходит, омывая меня волной черного ничто. Я знаю, что могу её переждать.
Проходит еще какое-то время, и я встречаю Бена. Он знакомится со мной самым банальным образом, в супермаркете. Точнее, он предлагает поднести мои сумки с покупками, тяжелые на вид (и на самом деле). Я ему позволяю, чувствуя себя средневековой дурой и предварительно убедившись, что нас не видит никто из моих знакомых.
Много лет назад я сочла бы Бена слишком очевидным, ограниченным, едва ли не дурачком. В последующие годы я сочла бы его дружелюбным шовинистом. Он и то, и другое; но еще он похож на сочное яблоко, в которое вонзаешь зубы, объевшись экзотическими сладостями.
Бен приходит со своей пилой и молотком и чинит мое крыльцо, точно как в давних женских журналах, а потом я предлагаю ему пива, и мы сидим на травке у дома, как в рекламе. Он рассказывает мне анекдоты, которые я последний раз слышала еще в школе. Я так благодарна ему за эти простые радости, что сама изумляюсь. Но я не нуждаюсь в Бене, он не похож на капельницу с лекарством. Он просто приносит мне удовольствие. Это счастье – получать удовольствие от таких простых вещей.
Он везет меня в Мексику, будто в любовных романах самого низкого пошиба. Он только что купил небольшое туристическое агентство – скорее в качестве хобби: капитал он сколотил раньше, на торговле недвижимостью. Но он любит фотографировать и греться на солнце. Он всю жизнь хотел заниматься любимым делом и при этом зарабатывать.
В постели он робок, его легко удивить и привести в восторг.
Мы съезжаемся – в новый дом, побольше. Через некоторое время мы расписываемся. Все происходит очень буднично. Бену кажется, что брак сам собой разу- меется; для меня брак – нечто эксцентричное, я попираю конвенцию, но такую, о которой Бен никогда в жизни не слышал. Он не знает, насколько несообразным я считаю свое поведение.
Бен на десять лет старше меня. У него в прошлом развод, как у меня, и взрослый сын. Моя дочь Сара становится дочерью и ему, и вскоре у нас рождается Анна. Я вижу в ней подаренный мне второй шанс. Она не такая задумчивая, как Сара, и гораздо упрямей. Сара уже знает, что не все желания исполняются.
Бен считает меня хорошим человеком, и я стараюсь не разрушать его веру; наиболее неаппетитные подробности моей жизни ему ни к чему. Еще он считает меня отчасти хрупкой, поскольку я художественная натура; меня нужно лелеять, как цветок в горшке. Немножко подрезать, немножко полить, выдернуть сорняки, выпрямить стебель, чтобы выявить мои лучшие качества. Бен ведет бухгалтерские книги, где фиксирует деловую сторону моего творчества: какие картины я продала и за сколько. Он советует мне, что списать на расходы при подаче налоговой декларации. Он заполняет за меня декларацию. Он расставляет пряности на кухне в алфавитном порядке, на особой полке. Полку тоже сколачивает он.
Я могу обойтись без этого. И обходилась. Но все равно мне приятно.
На мои картины он смотрит как на чудо и в то же время с некоторой опаской, как ребенок на горящую свечу. Он хвалит меня главным образом за то, что я хорошо рисую руки. Он знает, как это трудно. Он сам в юности хотел заниматься чем-то таким, но не смог, ему пришлось зарабатывать на жизнь. Подобные вещи мне все время говорят на открытиях выставок, но Бена я за это прощаю.
Время от времени он уезжает по делам – ровно с такой частотой, чтобы я успела по нему соскучиться.
Я сижу перед камином, и Бен обнимает меня – его рука незыблема, как спинка стула. Я иду вдоль волнолома сквозь типично ванкуверскую ласковую воздушно-водяную взвесь, в пении волн, поглаживающих берег. Впереди распростерся Тихий океан, посылающий нам один закат за другим совершенно бесплатно; за спиной у меня – невероятные горы, а за ними – огромная баррикада страны во всю длину.
По ту сторону, страшно далеко, лежит Торонто и полыхает у меня в памяти, как Гоморра. И я не смею туда взглянуть.
XIII. Пикосекунды
Я просыпаюсь поздно. Съедаю апельсин, тосты, яйцо, размятое в чайной чашке. Дырка в скорлупе нужна не для того, чтобы помешать ведьмам уплыть в море, как утверждала Корделия. Она нужна, чтобы нарушить вакуум между подставкой и скорлупой – чтобы скорлупу можно было извлечь. Отчего я об этом догадалась только через сорок лет?
Я надеваю другой спортивный костюм, мареновый, и делаю на полу студии Джона несколько разрозненных упражнений на растяжку. Это опять его студия, а не моя. Я чувствую, что вернула ее Джону вместе с неназванными кусками его собственной – или нашей совместной – жизни, которыми владела до сих пор. Я вспоминаю многочисленные средневековые картины – рука поднята, ладонь открыта, показывая, что в ней нет оружия: «С миром изыдем». Это отпуст и благословение. Я воспользовалась методом, нехарактерным для святых, но, кажется, у меня тоже получилось. Кто дарует мир другим, тот и сам его обретает.
Спускаюсь на улицу за утренней газетой. Листаю ее, не особенно вчитываясь. Я знаю, что убиваю время. Я почти забыла, что здесь делаю, и мне не терпится сбежать, вернуться на западное побережье, обратно в тот часовой пояс, где я теперь живу. Но пока нельзя. Я в подвешенном состоянии, как в аэропорту или в приемной у зубного, ожидая очередного промежутка – аморфного, апатичного, как под анестезией или в салоне самолета. Так я теперь воспринимаю надвигающийся вечер, открытие выставки: это просто промежуток, который надо пересечь, не вляпавшись ни в какую катастрофу.
Надо бы пойти в галерею, проверить, все ли в порядке. Этого требует минимальная вежливость. Но я спускаюсь в метро, выхожу возле главных ворот кладбища и бреду в юго-восточном направлении, взрывая ногами палые листья, всматриваясь в придорожные канавы, глядя себе под ноги – в поисках серебряной бумаги, монеток, нежданных кладов. Я все еще верю, что они бывают и что я могу их найти.
Если меня слегка подтолкнуть, я слечу с некоего трудноопределимого обрыва и стану городской сумасшедшей. Инстинкт тот же: рыться в помойках, просматривать чужие отбросы. Искать предметы, которые были выкинуты как бесполезные, но которые все еще можно выудить и присвоить. Коллекция обрывков: у бездомных – пространства, у меня – времени.
Это мой давний маршрут из школы домой. Я ходила по этому тротуару – впереди других девочек или в хвосте. Между этими фонарными столбами моя тень на зимнем снегу вытягивалась впереди, двоилась, снова съеживалась и исчезала. Фонари были окружены нимбом, как луна в туманную ночь. Вот газон, где Корделия тогда плюхнулась на спину, чтобы сделать снежного ангела. Вот сюда она потом побежала.
Дома все те же, но они уже не покрыты облезлой, посеревшей от зим белой краской. Этот район – уже не захолустье послевоенных лет. Тут побывали строители с пескоструйкой и установщики световых люков; в домах воцарились фикус бенджамина и тропические вьюнки, вытеснив чахлые африканские фиалки, некогда лелеемые на подоконниках. Я прозреваю эти дома насквозь, до их тогдашнего вида: вижу тогдашние цвета стен – пыльно-розовый, грязно-зеленый, серо-коричневый, – и занавески из чинца, которых больше нет. Какому времени они на самом деле принадлежат – своему собственному или моему?
Я шагаю по улице, чуть в гору, против течения жиденькой струйки детей, идущих из школы домой на обед. Девочки в джинсах, символизирующих свободу, но не такие шумные, какими были мы: ни хорового скандирования, ни воплей. Они плетутся с мрачной решимостью, или это мне кажется? Может, потому, что я уже не на одном уровне с ними: я выше, и звук доносится до меня приглушенным. А может, как раз из-за меня: из-за того, что рядом взрослый человек, предположительно обладающий властью.
Кое-кто из детей пялится на меня, но таких мало. На что тут смотреть? Женщина средних лет, руки в карманах пальто, штанины тренировочного костюма собрались в гармошку над сапогами. С виду не страннее многих, и тут же забывается.
У некоторых домов на крыльце тыквы с вырезанными лицами – радостными, печальными или угрожающими – ждут сегодняшнего вечера. Канун Дня Всех Святых, когда духи мертвых возвращаются, чтобы побыть среди живых – одетые балеринами, бутылками кока-колы и Микки-Маусами. И живые будут откупаться от них конфетами, чтобы духи не разгневались. Я до сих пор помню вкус этого праздника: хрусткий воздух, карамелька во рту, надежды у очередной двери, уверенность, что сейчас получишь подарок просто так (все дети воспринимают это как должное). Правда, дети больше не берут ни самодельных шаров из попкорна, ни яблок: слухи о бритвенных лезвиях и ядах упорно множатся. Когда мои дети были маленькие, мы уже боялись этих яблок. Слишком много безадресной ненависти носится по свету.
В Мексике этот фестиваль справляют как следует, без притворства. Яркие сахарные черепа, семейные пикники на могилах, каждому гостю ставят тарелку, каждой душе – свечу. Никто не уходит обиженным, включая мертвых. А вот мы не признаем такое простое сообщение между мирами; мы хотим, чтобы мертвые не упоминались, мы отказываемся произносить их имена, отказываемся их кормить. Поэтому наши мертвецы худей, седей, голодней, и их трудней услышать.
Мой брат Стивен умер пять лет назад. «Умер» – не совсем точное слово: погиб. Я стараюсь считать его смерть не убийством, хотя это оно и было, но чем-то вроде несчастного случая, как взрыв поезда. Или стихийным бедствием, вроде лавины. То, что страховые компании в договорах называют «форс-мажорными обстоятельствами».
Он умер из-за принципа «око за око» или из-за чьей-то трактовки этого принципа. Он умер от избытка справедливости.
Он сидел в самолете. У окна. Это известно точно.
В сетчатом кармане перед ним лежал самолетный журнал со статьей про верблюдов, которую он прочитал, и про то, как оптимизировать свой деловой гардероб – эту он читать не стал. Еще там были наушники и пакетик для рвоты.
Под сиденьем впереди, за босыми ступнями брата – он снял ботинки и носки – лежит его чемоданчик с докладом авторства самого брата о предполагаемом составе вселенной. Когда-то он думал, что вселенная состоит из бесконечно малых отрезков струн тридцати двух разных цветов. Эти кусочки струн так малы, что «цвета» в приложении к ним – лишь фигура речи. Но теперь брат сомневается: есть и другие теоретические возможности, и две из них он называет в своем докладе. Вселенную трудно описать раз и навсегда: она меняется прямо на глазах, будто не желает, чтобы ее познавали.
Брат должен был делать этот доклад позавчера во Франкфурте. Он должен был прослушать чужие доклады. Он должен был узнать новое.
Еще под сиденье засунут его пиджак от костюма – от одного из трех ныне принадлежащих ему костюмов. Рукава рубашки закатаны, но это не помогает – кондиционер в самолете сдох, и воздух в салоне перегрет. И еще воняет: по крайней мере один унитаз вышел из строя, к тому же в самолете люди чаще пердят, как брат давно заметил по опыту многочисленных полетов. Это усугубляется страхом, который плохо влияет на пищеварение. Через два сиденья от брата храпит лысый толстяк, открыв рот и испуская оттуда невидимое облако зловония.
Заслонки иллюминаторов опущены. Брат знает, что, подняв заслонку, увидит взлетную полосу, дрожащую от жары, а за ней – тусклый пейзаж, чуждый, будто лунный, с ослепительно блестящим морем вдалеке; и еще длинные бурые здания с плоскими крышами – оттуда придет спасение. Или не придет. Все это брат успел увидеть до того, как заслонки опустили. Он не знает, в какой стране находится.
Он с утра ничего не ел. Сэндвичи принесли снаружи – странный зернистый хлеб, растаявшее масло, какой-то бежевый мясной паштет, наводящий на мысль о пищевом отравлении. И еще кусок бледного потеющего сыра в пленке. Брат съел этот сыр и сэндвич, и теперь у него руки пахнут пикниками давних лет, придорожными обедами военного времени.
Пить им давали последний раз четыре часа назад. У брата есть трубочка мятных таблеток: он всегда берет их с собой в поездки, на случай турбулентности. Одну таблетку он дал женщине средних лет в огромных очках и в клетчатом брючном костюме, сидевшей рядом. Он отчасти рад, что ее тут больше нет: ее безмолвные, бесцветные рыдания, хлюпающие и монотонные, уже начали действовать ему на нервы. Всех женщин и детей выпустили, но брат – не женщина и не ребенок. В самолете остались только мужчины.
Их рассадили по двое, так, чтобы между каждой парой оставалось пустое сиденье. У них забрали паспорта. Те, кто забирал, теперь стоят, распределившись по проходам в самолете – их шестеро: трое с небольшими автоматами, трое с гранатами на виду. На головах наволочки от самолетных подушек, в которых вырезаны дырки для глаз и рта: в полумраке влажно блестит белое и розовое. Ниже наволочек (красных) обыкновенная одежда: серые фланелевые брюки, заправленная в них белая рубашка. Нижняя часть делового костюма с темно-синим пиджаком.
Разумеется, они попали в самолет под видом пассажиров; хотя трудно понять, как они пронесли на борт оружие. Должно быть, им помогал кто-нибудь из сотрудников аэропорта, и в результате они смогли вскочить – примерно над Ла-Маншем – и начать выкрикивать приказы, размахивая оружием. Либо так, либо оно было уже в самолете, заранее спрятано в условленных местах, ведь через контроль и рентгеновские аппараты его нынче уже не пронесешь.
В рубке еще двое или, может быть, трое – они торгуются по радио с диспетчерской вышкой. Они до сих пор не сказали пассажирам, кто такие и чего хотят; только сообщили по-английски, с сильным акцентом, но разборчиво, что все находящиеся в самолете выживут вместе или умрут вместе. После этого захватчики объяснялись короткими командами и жестами: «Ты! Сюда!» Трудно сказать, сколько их в общей сложности, потому что наволочки все одинаковые. Они как персонажи с раздвоением личности из старых комиксов, способные превращаться в кого-нибудь совершенно другого. У этих превращение как будто застряло на полпути: тела обычные, а головы сверхъестественных, всемогущих существ, мутировавшие в сторону героизма или злодейства.
Не знаю, думал ли мой брат тогда именно это. Но сейчас я думаю это за него.
В отличие от соседа-толстяка, мой брат не может уснуть. Поэтому он занимает себя теоретическими стратагемами: что делал бы он на их месте, на месте этих людей с наволочками на головах? Это их напряжение, их возбуждение оттого, что пальцы лежат на спусковых крючках, их адреналин заполняет самолет, несмотря на вялые тела пассажиров, усталость, капитуляцию.
На месте этих людей он, конечно, был бы готов умереть. Без такой предпосылки вся операция будет бессмысленной и невозможной. Но умереть за что? Вероятно, у них есть какой-то религиозный мотив, хотя на поверхности лежит что-нибудь более очевидное: деньги, освобождение других людей, сидящих где-нибудь в каменном мешке примерно за то же, что сейчас проделывают эти люди. Может, они кого-нибудь взорвали или угрожали взорвать. Кого-нибудь застрелили.
В каком-то смысле все это знакомо. Он будто уже бывал в такой ситуации, давным-давно; и несмотря на все неудобство, раздражение, коктейль из скуки и страха, он отчасти сочувствует людям, захватившим самолет. Он надеется, что они не потеряют головы и добьются своей цели, в чем бы она ни заключалась. Он надеется, что пассажиры не станут выть и мочиться в штаны, что никто из них не сойдет с ума и не начнет визжать, у захватчиков не сдадут нервы и не последует бойня. Он желает им холодной головы и твердой руки на прицеле.
В голове самолета появился человек и говорит с двумя другими. Кажется, они спорят; машут руками, напирают на отдельные слова. Другие стоящие в проходах напрягаются, квадратные красные головы зондируют пассажиров, наподобие радара. Брат знает, что нужно избегать зрительного контакта и держать голову опущенной. Он смотрит на сетчатый карман перед собой и тайком вытаскивает из упаковки мятную таблетку.
Пришедший движется по проходу, поворачивая вправо-влево прямоугольную голову с тремя отверстиями. За ним идет еще один. Через систему оповещения зловеще звучит музыкальная запись – слащавая, навевающая сон. Идущий притормаживает; несоразмерно большая голова неуклюже поворачивается влево, как у близорукого, тупого чудовища. Он протягивает руку, показывает жестом: «Встать». Человек, на которого он указывает, – мой брат.
Здесь я прекращаю выдумывать. Я говорила со свидетелями, с выжившими и знаю, что брат встает и со словами «Разрешите пройти» протискивается мимо соседа, занимающего сиденье у прохода. На лице у брата задумчивое любопытство: эти люди для него непостижимы – но для него непостижимы почти все. Возможно, они его за кого-то приняли. Или хотят, чтобы он помог с переговорами: его ведут к голове самолета, где стоит и ждет еще один в наволочке.
Именно он распахивает дверь перед братом, как учтивый швейцар в гостинице, впуская палящие лучи дневного солнца. После полутьмы они ослепительно ярки, и брат стоит, моргая, пока перед ним проявляются песок и море – открытка от довольных отдыхающих. И тут он падает, падает быстрее света.
Так мой брат уходит в прошлое.
Я провела пятнадцать часов в дороге, чтобы попасть на место. Я видела те здания, и море, и кусок взлетной полосы; самолета уже не было. Все, что получили террористы в итоге – право беспрепятственного вылета.
Я не хотела опознавать брата. Вообще не желала видеть тело. Когда не видишь, легче продолжать верить, что никто не умер. Но что я на самом деле хотела бы знать, это – когда они его застрелили: до того, как вытолкнули из самолета, или после. Лучше, если бы после – в этом случае у него был краткий миг побега, солнечного света, притворного полета.
В той поездке я ложилась до наступления темноты. Не хотела смотреть на звёзды.
У тела есть свои способы защиты, оно умеет отгораживаться. Люди из правительства сказали, что я держалась замечательно. Они имели в виду, что я не мешала им работать. Я не падала в обморок и не устраивала сцен; я говорила с журналистами, подписывала бумаги, принимала решения. Я многого не понимала тогда, о многом начала думать лишь гораздо позже.
А думала я о звёздном близнеце – о том, который улетел на космическом корабле, вернулся через неделю и обнаружил, что его брат стал старше на десять лет.
Я думала о том, что теперь я буду становиться старше. А мой брат – нет.
Мои родители так и не поняли смерти Стивена, потому что у нее не было причины; во всяком случае, такой, которая имела бы к нему какое-то отношение. Они так и не утешились. До того они были активны, бодры, энергичны; после – начали увядать.
«Неважно, сколько лет детям. Они всегда остаются твоими детьми», – сказала моя мать. Это прозвучало как сведения, которые мне рано или поздно понадобятся.
Отец стал худей и меньше ростом, заметно съежился; подолгу сидел неподвижно безо всякого дела. Это совсем на него непохоже. Так сказала мне мать, позвонив по межгороду.
Сыновья не должны уходить раньше отцов. Это неестественно, это нарушение миропорядка. Иначе – кто будет жить дальше?
Сами родители умерли без приключений, от того, от чего обычно умирают пожилые люди, от чего, видимо, умру и я – раньше, чем предполагаю: отец – мгновенно, мать годом позже, от более медленной и мучительной болезни. «Хорошо, что твой отец ушел сразу, – сказала она мне. – Такое для него было бы невыносимо». Она ни словом не упомянула о том, как невыносимо это для нее самой.
Девочки приехали на неделю – в конце лета, когда мать только начала болеть, когда она еще жила у себя дома в Су-Сент-Мари и мы все могли сделать вид, что просто ее навещаем. После отъезда дочерей я осталась, полола сорняки в саду, помогала мыть посуду – мать так и не обзавелась посудомойкой, – стирала белье в автоматической стиральной машине в подвале, но сушила на веревках во дворе, так как мать считала, что сушилка использует слишком много электричества. Смазывала формы для маффинов. Изображала ребенка.
Мать устала, но не может отдыхать. Она не желает спать после обеда и настаивает на том, чтобы самой ходить в мелочную лавочку. «Я справляюсь». Она не хочет, чтобы я для нее готовила. «Ты никогда не найдешь ничего у меня на кухне», – говорит она, подразумевая, что она сама никогда ничего не найдет, если я начну тут возиться. Я контрабандой переставляю в холодильник замороженные готовые обеды из морозилки и хитростью вынуждаю мать их есть, говоря, что иначе они испортятся и придется их выбросить. Выбросить еду для нее до сих пор немыслимо. Я веду ее в кино, предварительно проверив, нет ли в фильме секса, насилия и смерти. Я веду ее в китайский ресторан. В давние годы на севере китайские рестораны были единственным надежным вариантом. В других подавали сэндвичи из белого хлеба с порошковой мясной подливой, едва теплую фасоль в томате, пироги из картона с клеем.
Мать живет на обезболивающих, потом на более сильных обезболивающих. Она больше времени проводит в постели. «Хорошо, что мне не пришлось ложиться в больницу на операцию, – говорит она. – Я за всю жизнь ложилась в больницу, только когда рожала. Со Стивеном мне дали эфир. Меня как будто выключили, а потом я очнулась, а он – вот он».
Она часто говорит про Стивена. «Помнишь, как он вонял этим своим химическим набором? И еще в тот день, когда ко мне пришли гости на бридж! Нам пришлось открыть двери, а ведь зима была». Или: «Помнишь все те комиксы, которые он держал под кроватью? Их было слишком много, чтобы хранить. Я их выкинула после того, как он уехал. Думала, они больше не нужны. Но теперь люди их собирают, я читала; теперь они стоили бы целое состояние. А мы-то всегда думали, что это мусор». Она это рассказывает, смеясь над собой.
В ее рассказах Стивен не бывает старше двенадцати лет. После этого он стал для нее непостижим. Я начинаю понимать, что она благоговела или до сих пор благоговеет перед ним. И слегка побаивается. Она не знала, что родит такого человека.
– Эти девчонки тогда тебя сильно изводили, – говорит она однажды. Я заварила для нас чай – мать мне позволила – и мы чаевничаем за столом на кухне. Мать все еще удивляется, когда я пью чай, и несколько раз спрашивала, не дать ли мне лучше молока.
– Какие девчонки? – спрашиваю я. У меня все пальцы изодраны; под столом я молча обрываю кутикулы, как обычно при стрессе. Давняя дурная привычка, от которой я никак не могу избавиться.
– Ну, эти. Корделия и Грейс. И еще одна. Кэрол Кэмпбелл.
– Кэрол? – повторяю я. Я вспоминаю коренастую девочку, которая вертела скакалку.
– Конечно, Корделия была твоей лучшей подругой. Потом, в старших классах. Я никогда не думала, что за всем этим стояла она. Заводилой была эта самая Грейс, а не Корделия. Я всегда думала, что Грейс ее настропалила. Где она сейчас?
– Понятия не имею, – я не хочу говорить о Корделии. Я до сих пор чувствую себя виноватой, что ушла тогда и не помогла ей.
– Я не знала, что делать, – продолжает мать. – В тот день они ко мне пришли и сказали, что тебя в школе оставили после уроков, потому что ты нагрубила учительнице. Эта самая Кэрол сказала. У меня не сложилось впечатления, что они говорят правду.
Она по возможности избегает слова «врут».
– В какой день? – осторожно спрашиваю я. Я не знаю, какой день мать имеет в виду. У нее в последнее время мысли путаются из-за лекарств.
– В тот день, когда ты чуть не замерзла. Если бы я им поверила, то не пошла бы тебя искать. Я пошла сначала по дороге вдоль кладбища, но тебя там не было. – Она с тревогой взглядывает на меня, словно ожидая моего ответа.
– А, да, – я притворяюсь, что знаю, о чем она. Я не хочу ее смущать. Но я сама растеряна. Моя память дрожит, как вода, на которую дуют. Мелькают Корделия, Грейс и Кэрол, идущие ко мне по ослепительно-белому снегу. Их лица в тени.
– Я так беспокоилась, – говорит мать. Она хочет, чтобы я ее простила, но за что?
В иные дни матери становится лучше, и она вроде бы идет на поправку. Сегодня она просит, чтобы я помогла ей разобрать вещи в подвале.
– Чтобы тебе не пришлось сортировать этот старый хлам… когда-нибудь потом, – деликатно говорит она. Она не произносит слово «смерть», щадит мои чувства.
Я не люблю подвалов. Этот не отделан: серый бетон, балки над головой. Я проверяю, не захлопнется ли дверь, ведущая наверх.
– Тебе надо бы установить перила на этой лестнице, – говорю я. Лестница узкая, коварная.
– Я справляюсь, – отвечает мать. Это отголосок тех дней, когда справляться было достаточно.
Мы сортируем старые журналы, разноразмерные картонные коробки, чистые банки, стоящие на полках. При переезде мать выбросила далеко не всё, что можно было; а может, успела опять обрасти вещами. Я ношу вещи вверх по лестнице и складываю в гараже. Когда они там, то кажется, что мы от них избавились.
Целая полка отцовской обуви, выстроенной парами: городские туфли с мысками в дырочку, галоши, резиновые сапоги, бахилы для рыбалки, ботинки на толстой подошве для ходьбы по лесу, покрытые патиной беконного жира, с кожаными шнурками. Иным парам лет по пятьдесят, а может, и больше. Мать их не станет выбрасывать, я знаю; но она про них и не говорит. Я чувствую, что ожидается от меня в смысле самоконтроля. Я отгоревала своё на похоронах. Матери сейчас только не хватало утешать плачущего ребенка.
Я вспоминаю старый Зоологический корпус, куда мы ездили по субботам, перегретые скрипучие коридоры, банки глазных яблок, утешительные запахи формальдегида и мышей. Вспоминаю, как мы с Корделией ужинали, а отцовские предупредительные речи гремели у нас над головой: отравленная вода, загубленные деревья, один вид за другим вымирают, как растоптанные муравьи. Тогда мы не думали, что это – пророчества. Мы считали его речи скучными – чем-то вроде взрослых сплетен, которые нас не касаются. Теперь все его предсказания сбылись, только дела обстоят ещё хуже, чем он предполагал. Я живу в кошмаре отца, ставшем реальностью, хоть и невидимой. Мы еще можем дышать, но надолго ли это?
Мрачным прогнозам отца противостояла бодрость матери – сознательная, непросто дававшаяся ей, как я теперь понимаю.
Мы начинаем с пароходного сундука. Того самого, памятного еще по Торонто. Он до сих пор кажется мне таинственным хранилищем кладов. Мать тоже воспринимает раскопки как приключение: она говорит, что не заглядывала в сундук много лет и понятия не имеет, что там. Она не стала менее живой оттого, что умирает.
Я открываю сундук, и снизу вверх расцветает запах нафталина. Мы вынимаем младенческие одежки, завернутые в папиросную бумагу, серебряные приборы с цветочным орнаментом, изжелта-черные.
– Сохрани их для девочек, – говорит мать. – А себе возьми вот это.
Свадебное платье, свадебные фотографии, сепиевые родственники. Пакет с перьями. Таблички с кистями для ведения счета в бридже, две пары детских лайковых перчаток.
– Твой отец прекрасно танцевал. До того, как мы поженились.
Я этого не знала.
Мы вскрываем слои, откапываем находки: фотографии меня-старшеклассницы с неулыбчивым накрашенным ртом, чьи-то волосы в конверте, единственный вязаный носок младенческого размера. Старые варежки, старые галстуки. Фартук. Одни вещи следует сохранить, другие выбросить или раздать. Кое-что я увезу с собой. Вещи распределяются по кучкам.
Мать радуется, и я заражаюсь от нее радостью: ощущение, будто вынимаешь подарки из чулка на Рождество. Хотя нашу радость нельзя назвать чистой.
Стивеновы пачки карточек на обмен, с изображением самолетов, стянутые полуразложившимися резинками. Его скрэпбуки, его рисунки со взрывами, его старые школьные табели. Все это мать оставляет.
Мои собственные рисунки и скрэпбуки. Девочки – я припоминаю, как рисовала их, – с рукавами-фонариками, в розовых юбках, с бантами. В скрэпбуках – вроде бы незнакомые картинки из журналов: женские тела, одетые по моде сороковых, и к ним приклеены головы от других женщин. «Это страж-птица, она следит за ТОБОЙ».
– Ты обожала эти журналы, – говорит мать. – Разглядывала их часами, когда лежала больная.
Под скрэпбуками – мой старый фотоальбом, черные страницы связаны лентой, похожей на обувной шнурок. Теперь я вспоминаю, как положила его в сундук, перейдя в старшие классы.
– Это мы тебе подарили. На Рождество, в комплект к фотоаппарату.
В альбоме – брат, замахнувшийся снежком, и Грейс Смиитт в короне из цветов. Пара валунов, ниже – имена белым карандашом, печатными буквами. Я сама в куртке со слишком короткими рукавами, на фоне двери мотельного домика. Номер 9.
– Интересно, что случилось с тем фотоаппаратом, – говорит мать. – Наверно, я его отдала кому-нибудь. Ты перестала им интересоваться.
Я знаю, что между нами барьер. Он вырос уже давно. Когда-то меня это расстраивало. Мне хочется обнять ее. Но меня что-то держит.
– А это что? – спрашивает мать.
– Моя старая сумочка. Я с ней в церковь ходила.
И верно. Теперь я мысленно вижу эту церковь, луковицу на крыше, ряды скамей, витражи в окнах. «ЦАРСТВО·БОЖИЕ·ВНУТРЬ·ВАС·ЕСТЬ».
– Подумать только, – говорит мать со смешком. – Я сама не знаю, зачем ее сохранила. На выброс.
Сумочка сплющена; красный пластик полопался по сторонам, вдоль швов. Я беру сумочку и сжимаю с боков, чтобы вернуть ей прежнюю форму. Внутри что-то стучит. Я открываю сумочку и достаю свой «кошачий глаз».
– Стеклянный шарик! – восклицает мать с чисто детским восторгом. – Помнишь те шарики, что когда-то собирал Стивен?
– Да, – говорю я. Но этот шарик был мой.
Я смотрю в него и вижу свою жизнь – цельной.
Вон там, на той улице. Там стояла та самая лавка. Мы покупали красные лакричные жгуты, жевательную резинку, эскимо из апельсинового шербета, зубодробительные черные карамельки, от которых во рту оставалось маленькое зернышко. Много чего можно было купить на монетку в один цент с головой короля. Georgius VI Dei Gratia.
Я так и не привыкла, что королева уже взрослая. При виде ее отрезанной головы на монетах я вспоминаю ее четырнадцатилетнюю, в форме герл-гайдов, с безупречной осанкой, какую полагалось держать и нам; она смотрит на меня с пожелтевших газетных вырезок, приколотых мисс Ламли к доске – стоит перед грубым ромбом микрофона в студии радиовещания, хмурясь от серьезности момента и хорошо спрятанного страха, призывает народ к сопротивлению, пока бомбы падают на Лондон, а мы – временной сдвиг на восемь лет вперёд – поём «Англия, Англия будет всегда» под взмахи опасной указки мисс Ламли.
Королева успела стать бабушкой, сносить тысячи шляп, отрастить бюст и (кощунство даже думать о таком) зачатки двойного подбородка. Но меня этим не обманешь. Та, другая, до сих пор где-то есть.