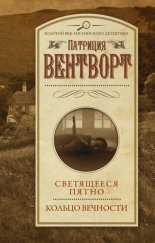Кошачий глаз Этвуд Маргарет
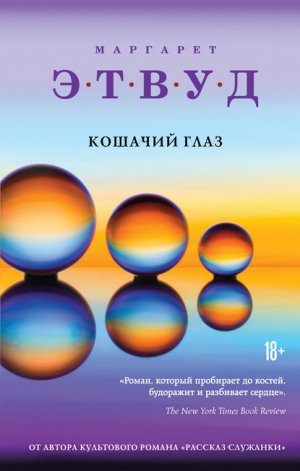
Я прохожу оставшиеся кварталы, сворачиваю за угол, ожидая увидеть знакомый тусклый прямоугольник школы из выветренного красного кирпича цвета сушеной печенки. Посыпанный шлаковой крошкой двор, высокие узкие окна с бумажными оранжевыми тыквами и черными кошками к Хэллоуину, выгравированные надписи «МАЛЬЧИКИ» и «ДЕВОЧКИ» над дверями, будто на мавзолее девятнадцатого века.
Но школы больше нет. На ее месте стоит другая, похожая на мираж: светлая, квадратная, глянцевая, современная.
Меня будто бьют под дых. Старую школу стерли с лица земли, удалили из пространства. Словно ее тут вообще никогда не было. Я прислоняюсь к телефонному столбу, потеряв ориентацию, будто мне удалили часть мозга. Я вдруг чувствую страшную усталость. Мне хочется уснуть.
Чуть погодя я приближаюсь к новой школе, прохожу в ворота, медленно огибаю здание. Надписей «МАЛЬЧИКИ» и «ДЕВОЧКИ» больше нет, это ясно; а вот забор из металлической сетки никуда не делся. Школьный двор уставлен качелями, лазилками и горками, выкрашенными в яркие основные цвета; несколько детей вернулись с обеда раньше и теперь лазят по ним с воплями.
Всё такое опрятное, такое открытое. Уж конечно, за этими прозрачными, откровенными дверями уже нет ни длинных деревянных указок, ни черных резиновых ремней, ни жестких деревянных парт, стоящих рядами; ни короля и королевы в торжественных регалиях, ни чернильниц; ни озлобленных усатых немолодых женщин. Ни жестоких тайн. Все это ушло навсегда.
Я выхожу на задворки школы, и вот он – склон, изъеденный ветром и дождем, с редкими чахлыми деревцами. Это, значит, не изменилось.
Наверху никого нет.
Я поднимаюсь по деревянным ступенькам и встаю там, где стояла когда-то. Где стою до сих пор, ведь я и не уходила никуда. Голоса, доносящиеся с игровой площадки, могут принадлежать любым детям из любого времени. Свет под деревьями сгущается, становится зловещим. Чужая злая воля окружает меня. Трудно дышать. Мне кажется, я что-то отталкиваю, а оно давит – будто открываешь дверь во время бурана.
Корделия, вытащи меня отсюда. Я в ловушке.
Я не хочу навсегда оставаться девятилетней.
Воздух мягкий, осенний, напоен солнечным светом. Я все еще стою. И вместе с тем – шагаю, нагнув голову, против встающего стеной ветра.
XIV. Единая теория поля
Я надеваю новое платье, срезав ценник кусачками Джона. В итоге я все равно оказалась в черном. Иду в ванную, чтобы кое-как оглядеть себя в неудобном, мутном зеркале; теперь, на мне, это платье неотличимо от всех остальных черных платьев, которые я носила в своей жизни. Я проверяю, не прилипла ли где пушинка, крашу губы розовым и в итоге выгляжу очень мило, насколько могу судить. Мило и совершенно забываемо.
Можно, конечно, добавить колорита. Мне бы висячие серьги, браслеты, серебряный бантик на цепочке, супердлинный шарф а-ля Айседора Дункан, которым легко нечаянно задушиться, иронично-китчевую брошку со стразами в стиле тридцатых годов. Но у меня ничего такого нет, а идти покупать – уже поздно. Когда-то мы проводили вечеринки в стиле «приходи как есть». Я приду какая есть.
Я прихожу в галерею на час раньше условленного. Чарны и других еще нет: может, пошли перекусить, но скорее – переодеться. Впрочем, всё уже расставлено: взятые напрокат бокалы на толстых ножках, бутылки посредственного бухла, для трезвенников – минеральная вода, ибо кто же нынче подает гостям неразбавленную хлорку из-под крана? Сыры, черствеющие по краям, окуренный серой виноград, дорогой и блестящий, как воск, подпитанный кровью умирающих сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии. Лучше не знать всякого такого; а то, что ни положи в рот, всё на языке будет вкус смерти.
Барменша, молодая женщина с суровым взглядом и в аморфном черном платье, протирает стаканы за длинным столом, выполняющим роль барной стойки. Я прошу у нее бокал вина. Небрежные манеры барменши как бы говорят: «Это лишь подработка; мои подлинные устремления – не здесь». Наливая мне, она поджимает губы: она меня не одобряет. Возможно, она хочет быть художницей и считает, что я поступилась принципами, продалась ради успеха. О, с каким упоением я когда-то проявляла такой же мелкий, едкий снобизм; и как легко это было.
Я медленно обхожу выставочный зал, пригубливая вино и позволяя себе разглядеть выставку – на самом деле впервые. Понять, что здесь есть и чего нет. Чарна составила каталог – он сверстан на компьютере, отпечатан на лазерном принтере и выглядит солидно. Я вспоминаю каталог нашей первой выставки – два листка, отпечатанные на ротаторе, размазанные, нечитаемые, и самая их нищета была как печать подлинности. Я помню вращение валика, едкий запах чернил, боль в руке.
Хронология все-таки победила: ранние вещи оказались на восточной стене, то, что Чарна обозвала «средним периодом» – на торцовой, а на западной висят пять недавних картин, которые я еще нигде не выставляла. Это всё, что мне удалось написать за последний год. Нынче я работаю медленнее.
Вот натюрморты. «Ранние экскурсы Ризли в царство женского символизма и харизматической природы домашних объектов», как выразилась Чарна. Иными словами – тостер, перколятор и стиральная машина с отжимными валиками. Три дивана. Серебряная бумага.
Рядом – Джон с Иосифом. Я смотрю на них с долей нежности: на них, на их мускулы, на их туманно-облачные представления о женщинах. Их молодость меня ужасает. Как я могла вверить себя таким неопытным юнцам?
Дальше – миссис Смиитт. В большом количестве. Она сидит, стоит, лежит под священным фикусом, летит с прилепленным к спине мистером Смииттом, спариваясь с ним, как жучиха с жуком; она в темно-синих рейтузах мисс Ламли, которая каким-то образом сливается с ней в пугающий симбиоз. Она возникает, как подарок, из-под обволакивающей ее папиросной бумаги, слой за слоем. Миссис Смиитт больше натуральной величины. Крупней, чем она когда-либо была. Она застит Бога.
Я много труда вложила в это воображаемое тело, белое, как корень лопуха, дряблое, как свиной жир. Волосатое, как внутренность уха. Я работала над ним – как теперь вижу, с изрядной долей злобы. Но эти картины – не только издевательство, не только осквернение. Я и свет в них вложила. Каждая бледная нога, каждый глаз, оправленный в сталь, – здесь и теперь точно такие же, как были там и тогда, простые и недвусмысленные, как хлеб. Я сказала: «Смотрите». Я сказала: «Я вижу».
В эти глаза я сейчас заглядываю. Я всегда думала, что они полны самодовольного ханжества – свиные буркалы за проволочной оправой; так и есть. Но еще это глаза сломленного человека, неуверенного в себе, меланхолика, обремененные долгом, в котором нет любви. Глаза человека, для которого Бог – жестокий старик; глаза обедневшей семьи, изо всех сил создающей видимость приличия в мелком городишке, где всё на ладони. Миссис Смиитт подверглась пересадке в большой город откуда-то из захолустья. Она – перемещенное лицо; как и я когда-то.
Теперь я способна увидеть себя глазами нарисованной миссис Смиитт: кучерявая оборванка бог знает откуда, едва ли не цыганка, дочь отца-язычника и беспутной матери, бегающей в штанах и собирающей сорняки. Некрещеная – приманка для бесов; одному богу известно, какие зерна кощунства и неверия зрели во мне. И все же миссис Смиитт впустила меня к себе в дом.
Значит, ее мнение было в чем-то верно. Мне не хватило справедливости. Точнее – милосердия. Я сразу начала мстить.
Принцип «око за око» приводит лишь к эпидемии слепоты.
Я перехожу к западной стене, где висят новые картины. Они больше моего обычного формата и очень удачно разместились на этой стене, с хорошими промежутками.
Первая называется «Пикосекунды». Как формулирует Чарна, «Это jeu d’esprit[15], вдохновленная творчеством «Группы семи» – реконструкция их видения пейзажа в свете современных экспериментов и постмодернистского пастиша».
Это и впрямь пейзаж, написанный маслом – с синей водой, фиолетовым подмалевком, скалистыми утесами, согнутыми, истрепанными ветром деревьями, в тяжелой пастозной технике, типичной для двадцатых и тридцатых годов. Он занимает большую часть картины. В правом нижнем углу, вынесенные из центра внимания зрителя (примерно как ноги Икара у Брейгеля), мои родители готовят обед. Они уже развели костер и подвесили котелок. Мать в клетчатой куртке склонилась над котелком и помешивает в нем, а отец подкидывает ветку в огонь. Рядом стоит наш «студебеккер».
Родители нарисованы в ином стиле: гладком, тонко модулированном, реалистичном, как фотография. На них как будто падает другой свет; мы словно видим их через окно, открытое в самом пейзаже – показывающее, что лежит внутри или по ту сторону.
Под ними, как поддерживающая их подземная платформа, выстроился ряд значков-символов – плоских, как фрески в египетских гробницах. Каждый значок заключен в белую сферу: красная роза, кленовый лист, раковина. На самом деле это старые логотипы бензоколонок сороковых годов. Своей явной искусственностью они ставят под вопрос реальность как пейзажа, так и человеческих фигур.
Название второй картины – «Три музы». Она уже не так просто далась Чарне: «Ризли продолжает свои тревожащие деконструкции воспринимаемого нами гендера и его взаимоотношений с воспринимаемой нами властью, особенно при использовании нуминозных образов». Задержав дыхание и прищурившись, я понимаю, откуда она это взяла: все музы предположительно женщины, но на картине дело обстоит не так. Может, надо было назвать картину «Танцоры», чтобы Чарна не мучилась. Но это не танцоры.
Справа – женщина невысокого роста, в домашнем платье-халате в цветочек и мюлях, отороченных натуральным мехом. На голове у нее шляпка-таблетка с вишенками. У женщины черные волосы и крупные золотые серьги, а в руках – шар размером с пляжный мяч. На самом деле это апельсин.
Слева – женщина постарше, с голубовато-седыми волосами, в сиреневом шелковом платье до середины икр. В рукав заткнут кружевной платочек, нос и рот прикрыты марлевой повязкой медсестры. Над повязкой видны ярко-синие глаза, окруженные морщинками и острые, как булавки. В руках у женщины глобус.
В середине – худой смуглый белозубый мужчина с неуверенной улыбкой. На нем богато расшитый красно-золотой восточный костюм, похожий на одеяние Бальтазара в «Поклонении волхвов» Яна Госсарта, но без короны и шарфа. Мужчина также держит округлый предмет, плоский, как диск, и похожий на фиолетовый витраж. На диске расположены – вроде бы случайным образом – несколько ярко-розовых предметов, отчасти напоминающих фигуры абстрактной живописи. На самом деле это яйца елового почкоеда в сечении; впрочем, их опознает только биолог.
Расположение фигур напоминает классическую скульптуру трех граций или же детей, окруживших Иисуса на первой странице газеты из моей когдатошней воскресной школы. Но дети и грации смотрят от краев в центр круга, а эти люди, наоборот, из центра наружу. Они протягивают дары перед собой, словно преподнося их кому-то сидящему или стоящему за пределами картины.
Миссис Файнштейн. Мисс Стюарт, учительница. Мистер Банерджи. Не такие, какими они были для себя: одному Богу известно, какой видели они свою жизнь и что думали о ней. Кто знает, чей пепел носили концлагерные ветра в голове у миссис Файнштейн в те послевоенные годы? Мистер Банерджи, скорее всего, не мог пройти по улице без страха, ожидая в любой момент тычка, выкрика или шепотка в спину. Мисс Стюарт – изгнанница из разграбленной Шотландии, продолжавшей умирать в трех тысячах миль отсюда. Я была для них случайностью, сделанное мне добро – мимолетным и незначительным; я уверена, что они даже не вспоминали об этом, понятия не имели, что их поступки значат для меня. Но почему бы мне не вознаградить их, раз уж пришла такая блажь? Я могу сыграть Бога, прославить их как святых в потусторонней жизни – на холсте. Впрочем, они об этом все равно не узнают. Наверняка они глубокие старики или давно умерли. Здесь их нет.
Третья композиция называется «На одном крыле». Я написала ее для брата, после его смерти.
Это триптих. Две боковые панели размером поменьше, средняя – побольше. На одной – самолет времен Второй мировой, в стиле изображений на сигаретных карточках; на другой – большая бледно-зеленая бабочка сатурния луна.
На центральной, большой панели с неба падает человек. То, что он падает, а не летит, ясно по его позе – почти точно вверх ногами, он по косой прорезает редкие облака; однако лицо его спокойно. Он в форме пилота времен Второй мировой. В руке у него игрушечный деревянный меч.
Вот такие вещи мы делаем, чтобы утихла боль.
Чарна решила, что это – высказывание о мужчинах и об инфантильной природе войны.
Четвертая картина – «Кошачий глаз». Это своего рода автопортрет. Моя голова изображена справа на переднем плане, но только от переносицы вверх: верхняя половина носа, глаза, смотрящие на зрителя, лоб и копна волос. Я изобразила наступающие морщинки, «гусиные лапки» в углах глаз. В волосах седина. Это неправда – на самом деле седые волосы я выдергиваю.
За моей полуголовой, в центре картины, в пустом небе висит выпуклое зеркало в вычурной раме. В нем виден мой затылок; но волосы – другие, моложе.
В отдалении, сжатые искривленным пространством зеркала, виднеются три фигурки в зимней одежде, какую носили девочки сорок лет назад. Они идут вперед по снежной равнине, их лица скрывает тень.
И последняя работа называется «Единая теория поля». Это вертикальный прямоугольник, больше других картин. Примерно на двух третях высоты по всей ширине проходит деревянный мост. По обе его стороны – вершины деревьев, голые, в белых шапках, словно только что прошел сильный мокрый снег. Снег лежит также на перилах и балках моста.
Над самой верхней перекладиной перил, не касаясь ее ногами, парит женщина в черном, волосы прикрыты черным капюшоном или покрывалом. Здесь и там на черноте платья видны пронзительные точки света. Небо за спиной у женщины – послезакатное; в верхней части его виднеется нижняя половинка луны. Лицо женщины частично закрыто тенью.
Это – Богоматерь Потерянных Вещей. В руках, на уровне сердца, она держит стеклянный предмет: огромный шарик «кошачий глаз» с синей сердце- винкой.
Под мостом – ночное нео, видимое будто в телескоп. Кучи звезд – красных, синих, желтых, белых, клубятся туманности, галактика громоздится на галактику: это вселенная во всем ее сиянии, во всей ее тьме. Во всяком случае, так можно подумать. Но еще там, под мостом – камешки, жуки и корешки, потому что это – под землёй.
У нижнего края картины тьма бледнеет, переходя в чистую голубизну воды, потому что там, под землей, под мостом, течет ручей с кладбища. Из страны мертвецов.
Я иду к бару и прошу еще стакан вина. Оно лучше той бормотухи, которую мы в свое время покупали для подобных мероприятий.
Я обхожу выставку, окруженная временем, которое сама же и сотворила; оно – не место, оно лишь расплывчатая тень, подвижная грань, в которой мы живем; она жидкая, она рушится сама в себя, как волна. Может, я и полагала, что выдираю что-то из пасти времени, что-то спасаю; так же, как все эти художники прошлых столетий, которые пытались показать Небо на земле, передать Божественные откровения или вечные звёзды, но доски и штукатурка становились добычей воров, тлена, пожаров, терялись, шли на растопку.
Протекающий потолок. Керосин и спичка. И конец. Почему эта мысль посещает меня не в обличье страха, но в обличье искушения?
Потому что я больше не властна над этими картинами, не могу диктовать им, что они должны означать. Вся заключенная в них энергия вышла из меня. Я – пустая скорлупа.
Ко мне спешит Чарна в фиолетовом кожаном наряде, звякая поддельным золотом. Она тащит меня в кабинет на задах: она не хочет, чтобы я болталась по пустой галерее неприкаянная, когда начнут прибывать первые гости. Не хочет, чтобы я выглядела несчастной и жаждущей внимания. Она выведет меня в зал позже, когда станет уже достаточно шумно.
– Можете здесь отдохнуть, – говорит она, но это вряд ли получится. В кабинете, меря его шагами, я допиваю свой второй бокал. Совсем как в день рождения, когда гирлянды и воздушные шарики уже готовы, угощение ждет на кухне, но что, если никто не придет? Что хуже – если не придут или если придут? Скоро откроется дверь и ввалится орда заносчивых, коварных девочек, они будут шептаться и показывать пальцами, а я – благодарно заискивать перед ними.
У меня потеют ладони. Я думаю, что еще один бокал меня успокоит, а это плохой знак. Я пойду и пофлиртую, просто так, из спортивного интереса – чтобы проверить, могу ли я еще кого-нибудь привлечь. Но, может быть, там просто не с кем флиртовать. В таком случае я напьюсь. Возможно, буду блевать в туалете – спьяна или стрезва.
В других местах я обычно веду себя не так. Во всяком случае, не настолько плохо. Не надо было возвращаться сюда, в город, затаивший на меня злобу. Я думала, что смогу переиграть его в гляделки. Но он до сих пор сильнее меня: как зеркало, что показывает лишь изуродованную половину лица.
Я думаю, не сбежать ли через черный ход. Потом можно извиниться телеграммой, сослаться на плохое самочувствие. Пойдет удобный для меня слух: невидимая упорная болезнь, и меня навсегда перестанут приглашать на подобные мероприятия.
Но в критический момент в дверях возникает Чарна, пунцовая от волнения:
– Уже пришла куча народу! Они все просто умирают, так хотят с вами познакомиться. Мы вами очень гордимся.
Это так похоже на слова какой-нибудь родственницы – матери или тетки – что я теряюсь. Что это за родня? Чья она? Меня подставили. Я как ребенок, неохотно садящийся за пианино при гостях, или (это, пожалуй, больше подходит) старый боец, весь в шрамах, ветеран давних, едва памятных битв, которому должны вручить золотые часы, пожать руку и произнести прочувствованную речь. Меня окружает меркнущий нимб из синих чернил.
Вдруг Чарна тянется ко мне и на ходу обнимает, блестя металлом. Может, это тепло – искреннее. Может, я должна стыдиться своего мрачного цинизма. Может, она и правда мне симпатизирует и желает добра. Я в это почти верю.
Я стою в главном зале галереи, черная от шеи до пальцев на ногах, с третьим бокалом красного. Чарна убежала – она снует в толпе, ищет людей, которые умирают от желания со мной познакомиться. Я в ее распоряжении. Я вытягиваю шею, вглядываясь в толпу, заслонившую картины; видны лишь несколько макушек, куски небес, фоновых пейзажей и облаков. Я по-прежнему не то жду, не то боюсь, что появятся какие-нибудь давние знакомые и я их не узнаю. Они бросятся ко мне с распростертыми объятьями – бывшие одноклассницы, разбухшие или усохшие, морщинистые, с навеки застывшими гримасами, или когда-то свеженькие бойфренды, ныне с лысинами или усами. «Элейн! С ума сойти! Как здорово, что мы встретились!» Они-то смогут меня опознать – мое фото есть на афише выставки. Я буду дружелюбно улыбаться, бешено перебирая в уме прошлое, пытаясь припомнить имя.
Сказать начистоту, я жду Корделию, именно ее хочу видеть. Мне надо у нее многое спросить. Не о том, что случилось в потерянные мною годы – это я уже знаю. Мне надо узнать, почему.
Если она помнит. Может, она забыла все плохое – то, что говорила мне, что делала. А может, и помнит, но как игру или единичную шалость, единичный заурядный секрет из тех, что девочки поверяют друг другу и тут же выбрасывают из головы.
У Корделии будет своя версия. Я не в центре ее истории – в центре ее истории она сама. Но я способна дать ей то, что можно получить только от другого человека – описание того, как она выглядит со стороны. Отражение. Это часть ее, которую я могу ей вернуть.
Мы как близнецы в старинной притче, которым выдали по половинке ключа.
Корделия будет проталкиваться ко мне в толпе – женщина неопределенного возраста, одетая в ирландский твид приглушенно-зеленого цвета, жемчужные сережки в золотой оправе, прекрасные туфли; холеная, soigne[16], как говорят. Она заботится о себе, как и я. Волосы слегка тронуты сединой, загадочная улыбка. Я ее не узнаю.
В зале множество женщин, несколько художников, кроме меня, несколько богачей. В основном Чарна тащит ко мне богачей. Я пожимаю им руки, смотрю, как шевелятся их губы. В любых других местах у меня больше выдержки в такой ситуации, в таких актах эксгибиционизма; я способна переблефовать собеседника. Но здесь я чувствую себя голой, ободранной.
Между двумя богачами вклинивается девушка. Она художница, это и так понятно, но она все равно об этом сообщает. Она в мини-юбке, обтягивающих легинсах и массивных черных туфлях на плоской подошве, со шнуровкой. Затылок у нее подбрит – такую прическу когда-то носил мой брат, это стрижка благонравного мальчика из сороковых. Она – пост-всё-что-угодно. Она – то, что наступит, когда кончатся всевозможные «посты». Она – то, что придёт после меня.
– Я обожаю ваши ранние работы, – говорит она. – «Падающие женщины». Я обожаю эту картину. Ну то есть, она вроде как подытожила целую эпоху, правда?
Девушка не намеренно жестока, она не знает, что этими словами отправила меня на свалку вслед за телефонными аппаратами с крутящейся ручкой и корсетами на китовом усе. В былые дни я бы уничтожила ее ответной репликой, сровняла бы с землей, но сейчас мне ничего в голову не приходит. Я не в форме, я потеряла кураж. И вообще, какой смысл. Ее обожание, направленное в прошлое, вполне искренне. Мне бы радоваться. Я стою с окаменелой ухмылкой, превращаясь в памятник, постепенно бронзовея от ступней вверх, будто гангрена ползет по телу.
– Очень приятно, – выдавливаю я наконец. Если не знаешь, что сказать – ври. Говорят, от лжи зубы белеют. Хорошо, что у меня еще есть хоть какие-то зубы.
Я стою, прижавшись спиной к стене и держа новый, полный бокал. Я вытягиваю шею, вглядываясь в толпу, поверх продуманно расположившихся голов. Пора бы уже Корделии появиться, но ее до сих пор нет. Во мне копится разочарование и раздражение; а потом – беспокойство. Наверняка она поехала сюда. Наверняка с ней что-то случилось по дороге.
Тем временем я пожимаю всё новые руки и говорю какие-то слова, а зал мало-помалу пустеет.
– Всё прошло прекрасно! – говорит Чарна со вздохом (вроде бы облегчения). – Вы держались просто замечательно.
Она счастлива, что я никого не уусила и не вылила никому вино на штаны, и в целом вела себя не как художница.
– Может, сходим все вместе поужинать?
– Большое спасибо, но нет. Я чудовищно устала. Как говорится, пора костям на покой.
Оглядываюсь в последний раз: Корделии нет.
«Пора костям на покой» – это давняя поговорка моей матери. Хотя кости как таковые не устают. Они крепки, у них большой запас прочности: их хватает еще на многие годы после того, как отказывает всё остальное тело.
Я направляюсь прямиком в будущее, в котором меня возят на кресле с колесиками. Я лысею и пускаю слюни, а какой-нибудь юный незнакомец кормит меня с ложечки протертой едой, и я стою и стою в снегу под мостом, всё стою и стою. А Корделия всё уходит и уходит.
Я выхожу на сумеречный тротуар перед галереей. Хочу остановить такси, но не могу поднять руку.
Я была готова практически к чему угодно; кроме отсутствия, кроме молчания.
Возвращаюсь на такси в студию, взбираюсь на пятый этаж, отдыхая на площадках, по лестнице, тускло освещенной, как всегда ночью. Я прислушиваюсь к своему сердцу, глухо и быстро стучащему под слоями ткани. Порок сердца. Положение ухудшается. Зря я столько выпила. Здесь холодно, экономят на отоплении. До меня доносится звук собственного дыхания, бестелесный хрип, словно это кто-то другой дышит.
«Корделия имеет тенденцию к существованию».
Я кое-как вставляю ключ в замочную скважину и шарю в поисках выключателя. Все эти фрагменты тел, что валяются вокруг, очень мешают. Я пробираюсь на кухоньку, слегка шатаясь. Пальто я не сняла, потому что холодно.
Кофе – вот что мне нужно. Я варю себе кофе, обхватываю ладонями теплую чашку, несу ее к рабочему столу, расчищаю место для локтей среди проволоки и острых инструментов. Завтра я унесу отсюда ноги, и давно пора. Здесь слишком много прошлого.
«Ну что ж, Корделия. Я с тобой расквиталась».
Никогда не проси о справедливости – не дай бог, ее и получишь.
Я выпиваю кофе, чашка прыгает в руках, и горячая жидкость льется по подбородку. Хорошо, что я не в ресторане. Пьяная женщина – это совсем не элегантно. Пьяный мужчина – не так ужасно, мужчинам это легче прощается, но почему, собственно? Видимо, считается, что у мужчин более уважительные причины для пьянства.
Я провожу рукой в рукаве поперек лица. Оно мокрое, потому что я плачу. Надо будет последить за собой: ещё зареву на людях ни с того ни с сего, и все будут на меня смотреть. Мне кажется, что на меня смотрят, даже если рядом никого нет.
«Корделия, ты умерла!»
«Неправда».
«Еще как правда. Ты умерла.
Ложись».
XV. Мост
В голове пусто и гулко, словно я выздоравливаю от тяжелой болезни. Я уснула, обмотавшись периной, прямо в черном платье – не было сил его снять. Проснулась в полдень с распухшей, ватной головой, пульсирующей с похмелья, и обнаружила, что пропустила самолет. Давненько я так не набиралась. А ведь знала, чем кончится. И это относится не только к вину.
Уже вечереет. Небо мягкое, серое, низкое, волглое и расплывчатое, как мокрая промокашка. День кажется пустым, словно все куда-то съехали; словно больше ничего уже никогда не будет.
Я шагаю по тротуару, прочь от снесенной школы. Это мой старый маршрут, я могу пройти его с завязанными глазами. Как всегда на этих улицах, я чувствую направленную на себя чужую неприязнь.
Внизу, подо мной, мост. Отсюда он выглядит нейтрально. Я останавливаюсь в верхней части склона, перевожу дух. И начинаю спускаться.
Удивительно, как мало тут изменилось. Дома по обе стороны оврага – те же, а вот тропинки больше нет; на ее месте цементная дорожка с аккуратными перильцами. Всё так же пахнет опавшей листвой, дымком тления, а вот плети паслёна с фиолетовыми цветочками и красными, как капли крови, ягодами, выкорчевали, сорняки и мусор убрали, всё подстрижено и цивильно.
Но все же в дебрях кто-то шуршит, и несмотря на обманчивую аккуратность, в воздухе висит резкий аромат кошек, кошачьей охоты, закапываний потайного. Иной, более дикий и запутанный, пейзаж проступает из глубины.
Мы всё помним через запахи, совсем как собаки.
Ивы, нависшие над тропинкой, те же. Они выросли, но и я выросла, и разница между нами не изменилась. Сам мост, конечно, другой; он бетонный, с ночным освещением, а не деревянный, ветхий, воняющий гнилью. Однако это все тот же мост.
Где-то там, внизу, до сих пор лежит закопанная Стивеном банка, полная света.
В это время года темнеет рано. Тихо, не слышно детских голосов; лишь монотонное карканье вороны и фоном к нему далекий шум уличного движения. Я опираюсь локтями на бетонную стену и смотрю вниз сквозь голые ветки, похожие на кораллы. Когда-то я думала, что, если отсюда спрыгнуть, это будет не падение, а скорее нырок; и если в результате умрёшь, смерть будет мягкой, все равно что утонуть. Хотя далеко внизу, на земле, валяется тыква – ее кто-то сбросил с моста, и она раскололась. Она неприятно похожа на голову.
В овраге стало больше кустов и деревьев. Среди них петляет ручей с чистой, прозрачной водой, которую нельзя пить. Мусор – ржавые автомобильные кузова и дырявые шины – убрали; неофициальной свалки больше нет, теперь тут бегают трусцой. Подо мной – беговая дорожка, аккуратно посыпанная гравием, она ведет вверх по склону, к далекой дороге и кладбищу, где ждут мертвецы, забывая себя атом за атомом, истаивая, как сосульки, и стекая по склону в реку.
Вот тут я упала в воду. Вот на этот берег выбралась. Здесь я стояла, на меня падал снег, и я не могла двинуться с места. Здесь я услышала голос.
Голоса не было. Никто не шел по воздуху с моста, никакая дева в темном плаще не склонялась надо мной. Хотя сейчас я вспоминаю ее предельно ясно, вплоть до мельчайших деталей – силуэт в капюшоне, очерченный светом с моста, алое сердце под распахнутым плащом, – я знаю, что этого не было. Были только темнота и тишина. Никого и ничего.
Звук: кто-то наступил на камешек.
Пора идти обратно. Я отталкиваюсь от бетонной стены, и небо надо мной смещается.
Я знаю, что если прямо сейчас повернусь и посмотрю вперед – туда, куда уходит дорожка, – там окажется человек. Сначала я думаю, что это буду я сама в давней куртке и синей вязаной шапке. Но потом вижу, что это Корделия. Она стоит посреди склона, оглядываясь через плечо. На ней серая лыжная куртка, но капюшон откинут, голова не покрыта. Те же зеленые шерстяные гольфы, съехавшие до щиколоток, коричневые школьные туфли с поцарапанными носами – один шнурок порван и завязан узлом, – соломенно-каштановые волосы с челкой падают на глаза. Глаза серо-зеленые.
Уже холодно, и всё сильней холодает. Я слышу, как шуршит падающий мокрый снег и как течет река подо льдом.
Я знаю, что Корделия на меня смотрит – с легкой улыбкой на перекошенных губах, лицо замкнутое, вызывающее. У меня в теле отдается все тот же стыд, то же тошнотное ощущение, то же сознание своей неправильности, неуклюжести, слабости; та же потребность в чужой любви; то же одиночество; тот же страх. Но это уже не мои чувства. Они принадлежат Корделии; они всегда были её.
Теперь я – старше из нас двоих, сильнее. Если Корделия не уйдет отсюда сейчас же, она замерзнет до смерти; брошенная тут в неподходящее время года. Уже почти слишком поздно.
Я протягиваю к ней руки, наклоняюсь; ладони открыты, показывают, что я не вооружена. «Всё будет хорошо, – говорю я ей. – Теперь ты можешь идти домой».
Снег, бьющий меня по глазам, исчезает, как дым.
Когда я наконец поворачиваюсь, Корделии там уже нет. Лишь немолодая женщина, розовощекая, с непокрытой головой, спускается по склону, приближаясь ко мне. У нее на зеленом поводке собака, терьер. Женщина проходит мимо, улыбаясь мне вежливо и нейтрально.
Больше мне тут смотреть не на что. Мост – это всего лишь мост, река – всего лишь река, небо – всего лишь небо. Пейзаж пуст; он – территория воскресных бегунов трусцой. А может, и не пуст; полон тем, что он есть сам по себе, когда я его не вижу.
Я в самолете, несусь – или меня несут – по воздуху, на запад, к омываемому водой побережью, к горам будто с открытки. Передо мной, за окном, солнце садится в убийственную, вульгарную, невоспроизводимую и потрясающую мешанину красных, фиолетовых и оранжевых красок. За спиной у меня катится вперед обыкновенная ночь. Внизу, на земле, разворачивается свиток прерий – огромных, обыденных и правдоподобных, как галлюцинации. Они уже присыпаны снегом и исчерканы зигзагами рек.
Я сижу у окна. На двух других местах рядом со мной летят две пожилые дамы, две старухи, обе в вязаных кофтах, у обеих желтовато-седые волосы, у обеих очки с толстыми стеклами на цепочке на шее, у обеих иссохший рот щедро нарисован ярко-красной помадой. Они опустили столики, пьют чай и играют в снап, роняя скользкие карты и хохоча со скрежетом, как автомобили по гравию, когда ошибаются или плутуют. Время от времени они долго и мучительно отстегиваются, встают и тащатся в хвост самолета, чтобы покурить и выстоять очередь в туалет. По возвращении они рассказывают сортирные анекдоты, шутят про то, как кто-нибудь обмочился или кончилась туалетная бумага, и при этом хитро поглядывают на меня. Интересно, сколько им лет, по их мнению, под маскарадными костюмами одряхлевших тел. Или сколько, по их мнению, лет мне. Возможно, они считают меня ровесницей своих матерей.
Они кажутся удивительно беззаботными. Они скопили денег на эту поездку и получат от нее удовольствие, черт побери, несмотря на артрит одной и отекшие ноги другой. Они шумливы и жизнерадостны; они крепки духом, как в тринадцать лет, они невинны и похабны, им на все плевать. Они уже ни за что не отвечают, у них нет ни обязательств, ни обид, ни долгов; теперь они могут играть, как дети, хоть и недолго, зато на этот раз – без боли.
Вот по чему я тоскую, Корделия, – не по ушедшему, а по несбывшемуся. По хихиканью двух старушек за чаем.
Уже окончательно стемнело, наступила ночь – ясная, безлунная, полная звезд, которые не вечны, как мы когда-то считали, и находятся вовсе не там, где мы думаем. Будь они звуками, они были бы эхом чего-то случившегося миллионы лет назад: слова, составленного из чисел. Эхом света, воссиявшего среди пустоты.
Этот свет очень стар, и его совсем немного. Но достаточно, чтобы освещать путь.