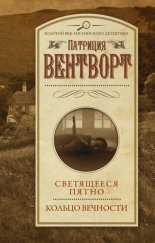Кошачий глаз Этвуд Маргарет
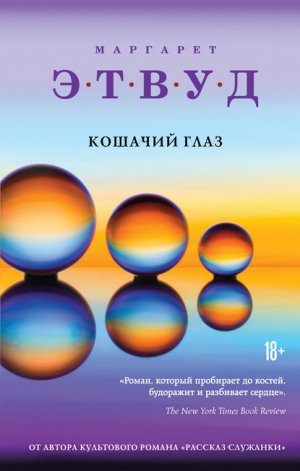
– Небось, завел себе молоденькую штучку. Они теперь говорят «а он такой» вместо «а он говорит», ты заметил?
– Вообще-то это Мэри-Джин от меня ушла.
– Мне очень жаль, – отвечаю я. Мне действительно тут же становится его жаль, я негодую – как она смела с ним так обойтись, холодная бесчувственная стерва. Я встаю на его сторону, несмотря на то, что много лет назад сама поступила точно так же.
– Наверно, я отчасти виноват. – Раньше он ни за что не признал бы ничего подобного. – Она сказала, что не смогла до меня достучаться.
Я уверена, она не только это сказала. Он что-то потерял: какую-то иллюзию, без которой, как я когда-то думала, не мог обойтись. Он осознал, что и ему ничто человеческое не чуждо. Или он ломает комедию ради меня, желая показать, что идет в ногу со временем? Может быть, не стоило убеждать мужчин, что они тоже люди. Это лишь выбило их из колеи. Сделало их хитрей, коварней, увертливей, их стало труднее видеть насквозь.
– Если бы ты не вел себя как чокнутый, может, все и получилось бы. У нас с тобой, в смысле.
Это его подхлестывает.
– Кто чокнутый? – он опять ухмыляется. – Скажи, кто кого тогда отвез в больницу?
– Если бы не ты, меня не надо было бы никуда везти.
– Это несправедливо, сама же знаешь.
– Ты прав. Это несправедливо. Я рада, что ты тогда отвез меня в больницу.
Прощать мужчин неизмеримо легче, чем женщин.
– Я тебя провожу, – говорит он, когда мы выходим на улицу. Мне это было бы приятно. Мы с ним так хорошо ладим – теперь, когда нам нечего делить. Я понимаю, почему тогда в него влюбилась. Но сейчас у меня нет на это сил.
– Ничего, – я не хочу признаваться, что сама не знаю, куда иду. – Спасибо за студию. Свистни, если тебе понадобится оттуда что-нибудь забрать.
Я знаю, он не придет, пока я тут – для нас все еще слишком неловко и опасно оказаться вместе за дверью, которая запирается.
– Может, потом как-нибудь выпьем вместе, – говорит он.
– Может.
Расставшись с Джоном, я иду на восток по Куин-стрит, мимо уличных торговцев, продающих футболки с игривыми надписями, мимо витрин с атласными трусиками и поясами для чулок. Я думаю о картине – уже много лет прошло с тех пор, как я ее написала. Она называлась «Падающие женщины». Тогда многие мои картины зародились благодаря тому, что я неправильно понимала некоторые слова.
На этой картине не было мужчин, но она была про мужчин – тех, из-за которых женщины падают. Я не приписывала этим мужчинам никаких намерений. Они были как погода – безличны. Они просто промачивали тебя до нитки или шарахали ударом, как молния, и неслись дальше, бездумные, как метель. Некоторые были как камни – ряд острых, скользких камней с зазубренными краями. Можно осторожно пробираться меж ними, глядя себе под ноги, но если поскользнешься, то упадешь и поранишься, и не будет никакого смысла винить в этом камни.
Вот, видимо, что означает выражение «падшие женщины». Это женщины, которые упали на мужчин и поранились. В этих словах есть намек на движение сверху вниз, против твоей воли, но не по воле другого человека. Падшие женщины – это не те, которых стянули вниз или столкнули. Они просто упали. Конечно, была еще история Евы и грехопадения; но в ней никто не падал, в ней только ели, как в большинстве сказок для детей.
На картине «Падающие женщины» были изображены женщины, числом три, которые как бы в результате несчастного случая падали с моста – юбки раздуты в колокола потоком воздуха, волосы струятся вверх. Они падали на мужчин, зазубренных, темных и бездумных, незримо подстерегающих далеко внизу.
Я смотрю на голую женщину. Нарисованную, ее назвали бы обнаженной, но она живая. Это первая виденная мною в жизни голая женщина, если не считать меня самой в зеркале. Девочки в школе переодевались на физкультуру, не снимая белья, а это совсем другое. И женщины в эластичных цельных купальниках с лайкрой и оберегающей скромность юбочкой на рекламных объявлениях – не то же самое.
Впрочем, даже эта женщина не совсем голая: на левое бедро у нее накинута простыня, и конец простыни пропущен между ногами – лобковых волос не видно. Она сидит на табуретке, и сплющенные ягодицы выпирают в стороны. Плотная спина сгорблена, правая нога перекрещивает левую у колена, правый локоть опирается о правое колено, левая рука отведена назад и опирается кистью о табуретку. Глаза у женщины скучающие, голова опущена – так ей велели сидеть. Похоже, ей неудобно, все тело затекло, и еще ей холодно: я вижу мурашки у нее на плечах. У нее толстая шея. Волосы – короткие, курчавые, рыжие с темными корнями, и я подозреваю, что она жует жвачку: время от времени она украдкой, медленно двигает челюсть вбок. Ей запретили шевелиться.
Я пытаюсь рисовать эту женщину угольной палочкой. Я стремлюсь к текучести линий. Так наш преподаватель посадил эту женщину: чтоб была текучесть линий. Я бы охотнее рисовала твердым карандашом: уголь попадает мне на пальцы и размазывается, и им очень трудно рисовать волосы. И еще эта женщина меня пугает. В ней очень много плоти, особенно ниже талии; на животе складки, груди обвислые, с огромными темными сосками. Резкий свет флюоресцентных ламп, падающий на женщину сверху вниз, превращает ее глазницы в провалы и подчеркивает линии, идущие от носа к подбородку; но тело такое массивное, что кажется – голова приставлена задним числом. Женщина некрасива, и мне страшно, что я тоже стану такой.
Я на вечерних занятиях. Предмет называется «Рисование с натуры». Занятия проходят по вторникам в Торонтовском колледже искусств, в большой голой мастерской, за которой – сугубо утилитарная лестница, за ней лежит Маккол-стрит, потом Куин-стрит с трамвайными рельсами и пьяницами, а дальше – весь унылый город Торонто, похожий на скопление ящиков. Нас в мастерской двенадцать, у каждого вселяющий надежды, почти неначатый альбом бристольского картона и черные от угля пальцы: две женщины постарше, восемь молодых людей, девушка моего возраста и я. Я не учусь в колледже искусств, но даже те, кто здесь не учится, могут записаться на курс при определенных условиях. Условие заключается в том, что надо убедить преподавателя в серьезности своих намерений. Впрочем, сколько я продержусь – неясно.
Преподавателя зовут мистер Хрбик. Ему лет тридцать пять, у него густые темные курчавые волосы, усы, орлиный нос и глаза почти лиловые, как ягоды шелковицы. У него есть привычка пристально смотреть на ученика – молча и, кажется, даже не мигая.
Именно глаза я заметила первыми, когда пришла на собеседование. Он сидел в крохотном, заваленном бумагами кабинете в здании колледжа, откинувшись на стуле и жуя конец карандаша. Увидев меня, он отложил карандаш.
– Сколько вам лет? – спросил он.
– Семнадцать. Почти восемнадцать.
– Ах, – он вздохнул, будто услышав плохую новость. – И что вы сотворили?
Мне показалось, он меня в чем-то обвиняет. Но тут я поняла, что он имеет в виду: я должна была принести нечто, называемое «портфолио недавних работ», то есть картин, чтобы он мог понять, хорошо ли я рисую. Но у меня было совсем мало работ. Практически единственное мое соприкосновение с искусством имело место в девятом классе, на уроках по художественной культуре, когда нам крутили «Лунную сонату» и мы должны были иллюстрировать ее волнистыми цветными линиями. Иногда мы рисовали тюльпаны в вазе. Я никогда в жизни не бывала в картинной галерее. Правда, однажды я прочитала в журнале «Лайф» статью про Пикассо.
Прошлым летом я устроилась горничной в дом отдыха в Маскоке – застилать кровати и мыть туалеты, чтобы подработать – и купила в местной сувенирной лавке набор для масляной живописи. Названия красок на маленьких тюбиках звучали для меня как пароль и отзыв: «Кобальтовый синий», «Жженая умбра», «Малиновый краплак». В свободное время я шла с этим набором вдоль берега озера и садилась спиной к дереву. Сосновые иглы кололи меня снизу, комары клубились вокруг, а я смотрела на плоскую воду цвета листового железа – по ней двигались моторные лодки лакированного красного дерева с флажками на корме. В этих лодках иногда катались другие горничные – из тех, что ходили на запретные вечеринки в номера к отдыхающим, пили там виски с имбирным элем из бумажных стаканчиков и, по слухам, ни в чем не отказывали. Иногда в прачечной, над сложенным постельным бельем, происходили ссоры со слезами.
Я не знала, как писать маслом или даже что писать, но знала, что надо начать. Через некоторое время я изобразила пивную бутылку без этикетки, дерево в форме поломанного венчика для взбивания и несколько расплывчатых скал цвета грязи с яростно-синим озером на заднем плане. И еще закат, который вышел похожим на пролитое непонятно что.
Я извлекла все это из черной папки, в которой принесла работы. Мистер Хрбик нахмурился, покрутил карандаш и ничего не сказал. Я была обескуражена и благоговела перед ним, потому что он обладал властью – он мог не дать мне хода. Я видела, что он счел мои картины плохими. Они и были плохие.
– Что-нибудь еще? – спросил он. – Рисунки?
С отчаяния я включила в «портфолио» свои старые рисунки со времен занятий биологией, сделанные твердым карандашом и раскрашенные. Я знала, что рисую лучше, чем пишу маслом, я дольше этим занимаюсь. Терять мне было нечего. Я вытащила рисунки.
– Как вы это назвали? – спросил он, держа рисунок вверх ногами.
– Это внутренности червя, – ответила я.
Он вроде бы не удивился.
– Это?
– Планария. Окрашенное сечение.
– А это?
– Репродуктивная система лягушки. Самца, – уточнила я.
Мистер Хрбик уставился на меня блестящими лиловыми глазами:
– Почему вы хотите попасть на курс?
– Меня больше никуда не берут, – я поняла, как провально звучу. – Это моя единственная надежда. Я не знаю больше никого, кто стал бы меня учить.
– А почему вы хотите учиться?
– Не знаю, – ответила я.
Мистер Хрбик снова взял карандаш и сунул его в угол рта, как сигарету. Потом опять вытащил. Накрутил волосы на пальцы.
– Вы – совершеннейший дилетант. Но иногда это лучше. Мы можем начать с ничего. – Он впервые улыбнулся мне. У него были неровные зубы. – Посмотрим, что мы сможем из вас сделать.
Мистер Хрбик расхаживает по мастерской. Он разочаровался во всех нас, включая натурщицу – она бесит его тем, что тайком жует жвачку.
– Сидите смирно! – говорит он ей, дергая себя за волосы. – Довольно жвачки!
Натурщица злобно смотрит на него и сжимает челюсти. Он берет ее за руки и за голову, лицо которой мрачно, и придает всему этому нужную позу, будто имеет дело с манекеном.
– Попробуем еще раз.
Он ходит взад-вперед, заглядывая нам через плечо и что-то бурча, а мастерская полнится песчаным шершавым шорохом угля по бумаге.
– Нет, нет! – говорит мистер Хрбик юноше. – Это тело.
Он произносит «тэло».
– Это не автомобиль. Думайте о пальцах, ласкающих эту плоть, о руке, которая проводит по ней. Вы должны быть тактильны.
Я пытаюсь думать так, как он говорит, но меня передергивает. У меня нет никакого желания проводить рукой по телу этой женщины, по коже, покрытой мурашками.
Одной из женщин постарше он говорит:
– Нам не нужно хорошенькое. Тэло не хорошенькое, как цветок. Рисуйте то, что есть.
Он останавливается у меня за спиной, я сжимаюсь и жду.
– Мы не медицинский учебник делаем, – говорит он мне. – У вас получился труп, а не женщина.
Он произносит «жэншина».
Я смотрю на то, что у меня вышло. Мистер Хрбик прав. Я старательна и точна, но я нарисовала бутылку в форме человеческого тела – инертную, безжизненную. Мужество, которое привело меня сюда, испаряется. Я бездарна.
Но в конце занятия, когда модель неловко поднялась на затекшие ноги, вцепилась в простыню и поплелась одеваться, когда я убираю уголь, мистер Хрбик подходит и становится рядом. Я вырываю из альбома сегодняшние рисунки, намереваясь их скомкать, но он быстро накрывает мою руку своей.
– Сохраните их.
– Зачем? Они никуда не годятся.
– Позже вы посмотрите на них и увидите, какой большой путь прошли. Вы очень хорошо рисуете предметы. Но вы пока не умеете рисовать жизнь. Бог сначала создал тэло из грязи, а потом вдохнул в него душу. Необходимо и то, и другое. Грязь и душа. – Он кратко улыбается и сжимает мне плечо. – Необходима страсть.
Я растерянно смотрю на него. Его слова нарушают все границы: у нас о телах говорят лишь при обсуждении болезней, о душах – только в церкви, о страсти – лишь когда имеют в виду секс. Но мистер Хрбик – иностранец и, конечно, не может этого знать.
– Вы незаконченная жэншина, – добавляет он, понизив голос, – но здесь вы будете закончены.
Он не знает, что «законченный» – то же самое, что «отъявленный». Он хочет меня подбодрить.
Я сижу в затемненной аудитории в подвале Королевского музея Онтарио, откинувшись на царапучий плюш жесткого сиденья, и обоняю пыль, затхлость, несвежую обивку и сладковатую пудру прочих студенток. Я чувствую: глаза у меня становятся все круглее и круглее, зрачки расширяются, как у совы. Я уже час гляжу на слайды – пожелтевшие, иногда не в фокусе, – на которых изображены белые мраморные женщины с плоскими макушками. На их головы опираются каменные архитравы, с виду очень тяжелые; неудивительно, что у женщин плоские макушки. Эти мраморные женщины зовутся кариатидами – первоначально так назывались жрицы храма Артемиды в Карии. Ныне они уже не жрицы, а лишь архитектурные украшения, играющие по совместительству роль несущих колонн.
Нам показывают и множество слайдов с колоннами – разных видов и разных периодов: дорические, ионические, коринфские. Дорические – самые прочные и простые, коринфские – самые легкие и богаче всех украшенные: рядами листьев аканфа, переходящими в грациозные волюты и спирали. Длинная указка высовывается из темноты рядом с экраном, опускается на волюты и спирали, показывая, кто из них кто. Потом эти слова понадобятся мне – я должна переварить их и изрыгнуть на экзамене, так что я стараюсь записывать, пригибаюсь низко к блокноту, чтобы видеть, что пишу. Теперь я много времени провожу, записывая непонятные слова в темноте.
Я надеюсь, что через месяц, когда мы перейдем от греков и римлян к Средневековью и Ренессансу, мне станет проще. Слово «классический» для меня стало означать «выбеленный временем и слегка побитый». У большинства греческих и римских творений не хватает частей тела, и тотальная безрукость, безногость и безносость, не говоря уже об отломанных пенисах, начинает мне надоедать. И еще серость и белизна, хотя я, к своему удивлению, узнала, что большинство мраморных статуй было раскрашено в яркие цвета – желтые волосы, голубые глаза, телесного цвета кожа. Иногда их одевали в настоящую одежду, как кукол.
Этот курс – обзорный. Он должен сориентировать нас по эпохам для подготовки к другим, более специализированным курсам. Это часть программы по археологии и истории искусств в университете Торонто – единственный дозволенный путь, который пролегает где-то рядом с живописью. И еще – единственный, который я могу себе позволить: я заработала стипендию на обучение в университете. Впрочем, родители ничего иного от меня и не ожидали. «Ты обязана использовать мозги, которые достались тебе от Бога», – часто говорит мой отец, хотя мы оба знаем, что на самом деле этот дар у меня от него. Если я уйду из университета, потеряю стипендию, он не видит возможности оплатить мне какое-либо другое обучение.
Когда я сообщила родителям, что не хочу идти в биологию, а намерена стать художницей, они встревожились. Мать сказала, что если я по-настоящему хочу этим заниматься, то хорошо, но их с отцом волнует, чем я буду зарабатывать себе на жизнь. Искусство – это не способ заработка. Это приемлемое хобби, все равно что клеить фигурки из ракушек или резать по дереву. Но когда я пошла учиться археологии и истории искусств, родители успокоились: я всегда могу переключиться на археологию и что-нибудь копать – это более серьезное занятие.
В самом худшем случае я получу университетский диплом, а имея диплом, можно преподавать. Меня, впрочем, такая перспектива не радует: я вспоминаю мисс Крейтон, учительницу искусствоведения в Бёрнемской школе, пухлую и затюканную, которую мальчишки – те, что в коже и бриолине, – периодически запирали в чулане для рисовальных припасов.
Одна подруга моей матери говорит ей, что искусством всегда можно заниматься дома, в свободное время.
Все прочие учащиеся на факультете археологии и истории искусств – девушки, за исключением одного юноши. Аналогично, все преподаватели – мужчины, за исключением одной женщины. Единственный студент и единственная преподавательница считаются странными: у первого какая-то кожная болезнь, у второй – заикание на нервной почве. Ни одна из студенток не намерена стать художницей: все они хотят преподавать рисование старшеклассникам, только одна собирается быть куратором в галерее. Некоторые на вопрос о будущем отвечают туманно – это значит, они надеются выйти замуж до того, как придется выбирать то или иное занятие.
Ходят они в кашемировых гарнитурах, пальто верблюжьей шерсти, добротных твидовых юбках и жемчужных серьгах-гвоздиках. Туфли у них на аккуратном среднем каблуке. Они носят приталенные блузки, джемперы или жилетки с юбкой и пуговицами в тон. Я тоже такое ношу, я стараюсь слиться с фоном. В перерывах между лекциями я пью кофе и ем пончики в компании других студенток, сидя в различных общих комнатах, столовых и кофейнях. Слизывая сахар с пальцев, девушки обсуждают моду или мальчиков, с которыми гуляют. Две уже обручены. Глаза у них во время этих бесед затуманиваются, словно набухают слезой, или подергиваются пленкой, – кажется, что их очень легко обидеть или ранить, как слепых новорожденных котят; но еще они хитры, себе на уме, исполнены жадности и коварства.
Мне в их обществе неловко, будто я прокралась сюда под ложным предлогом. Мистеру Хрбику и тактильному отношению к телу не место в археологии и истории искусств; мои жалкие попытки рисовать голых женщин будут восприняты здесь как напрасная трата времени. Искусство уже создано – где-то в другом месте. Нам осталось только его вызубрить. Рисование с натуры было бы сочтено претенциозным и смешным занятием.
Но оно – мой спасательный круг, моя настоящая жизнь. Я начинаю вычеркивать все, что с ним несовместимо, отсекая от себя лишнее. Я сделала ошибку, придя на первое занятие в клетчатом сарафане и белой блузке с закругленным воротничком. Но я быстро учусь. Я переключаюсь на то, что носят мальчики и вторая девушка – черные водолазки и джинсы. Это не мимикрия, как другая моя одежда; это – заявление о том, на чьей я стороне, и со временем я набираюсь храбрости ходить в этом даже днем, на занятия в университете; кроме джинсов, которые в университете никто не носит – вместо них я надеваю черные юбки. Я отращиваю челку, отрезанную в школе, и закалываю волосы назад, надеясь придать себе суровый вид. Университетские девушки в кашемирах и жемчугах шутят про богемных битников и начинают меня сторониться.
Две женщины на курсах рисования тоже замечают, как я преобразилась.
– Кто умер? – спрашивают они. Их зовут Бэбс и Марджори, и они профессиональные художницы, портретистки. Бэбс рисует детей, а Марджори – собаковладельцев с собаками. Курс рисования с натуры они берут, по их словам, чтобы освежить свои знания. Сами они ходят не в водолазках, но в халатах, как беременные. Друг друга они зовут «девочка», пронзительными голосами комментируют работы друг друга и курят в туалете, словно им это запрещено. Они ровесницы моей матери, и мне ужасно стыдно сидеть в одной комнате с ними и голой натурщицей. В то же время я считаю их несколько вульгарными. Впрочем, они мне напоминают не столько мать, сколько нашу соседку миссис Файнштейн.
Миссис Файнштейн в последнее время носит приталенные красные костюмы и задорные шляпки-таблетки, отделанные красными вишнями в цвет. Она видит меня в новой одежде и разочарована. «Элейн стала похожа на итальянскую вдову, – говорит миссис Файнштейн моей матери. – Она себя запустила. Ужасно жалко. Ей бы хорошую стрижку и чуточку макияжа, и она могла бы быть очень эффектной». Мать передает эти слова мне, улыбаясь, словно они ее смешат, но я знаю – так она выражает беспокойство. Я стала почти неряхой. «Запустить себя» – это очень нелестные слова: так говорят о женщинах постарше, которые располнели и ходят нечесаными, в неопрятной одежде.
Конечно, в этих словах есть доля правды. Я себя запускаю. Ввысь.
Я в пивной с другими учащимися курсов, пью десятицентовое разливное пиво. Приходит хамоватый официант, балансируя круглым подносом на одной руке, и плюхает перед нами стаканы – они как обычные стаканы для воды, только с пивом. Пена переливается через край. Мне не очень нравится вкус пива, но я уже научилась его пить. Я даже знаю, что нужно посолить немного сверху, чтобы пена осела.
В этой пивной грязно-красный ковер, убогие черные столы, стулья, обитые пластиком, и плохое освещение. Здесь воняет, как из пепельницы в машине. Другие пивные, в которых мы бываем, ничем не отличаются. Они называются как-нибудь вроде «Ландис-Лейн» или «Таверна “Кленовый лист”», и в них всегда темно, даже днем, потому что им запрещено иметь окна, в которые можно заглянуть с улицы. Это для того, чтобы не совращать малолетних. Я тоже малолетняя, по закону пить можно с двадцати одного года, но у меня ни разу не спрашивают документы. Джон говорит, я так молодо выгляжу, что официанты думают: я не рискнула бы сюда зайти, если бы мне в самом деле было меньше двадцати одного.
Пивные делятся на два зала. «Только для мужчин» – там собираются шумные пьяницы и алкоголики из тех, что пьют спирт для растирания. Там пол посыпан опилками, пахнет пролитым пивом, застарелой мочой и рвотой. Порой оттуда слышатся вопли и звук разбиваемого стекла, а потом два официанта-амбала выводят посетителя за дверь. Он машет руками, нос у него расквашен.
В залах «Для дам с сопровождающими» чище, тише, приятнее, и пахнет лучше. Мужчину туда пустят только в компании женщины, а женщин не пускают в зал «Только для мужчин». Предположительно так сделали для того, чтобы проститутки не приставали к посетителям, а пьяные посетители – к посетительницам. Колин – он из Англии – рассказывает нам о пабах, где есть камины, можно играть в дартс, прогуливаться и даже петь, но в наших пивных ничего из этого не разрешено. Они для того, чтобы пить пиво, и всё. Если будешь слишком много смеяться, тебя могут попросить на выход.
Учащиеся с курсов «Рисование с натуры» предпочитают зал «Для дам с сопровождающими», но чтобы их туда пустили, с ними должна быть женщина. Поэтому они приглашают меня и даже покупают мне пиво на свои. Я – их пропуск. Иногда я единственная, кто может с ними пойти после занятия, потому что Сюзи, это моя ровесница, часто ссылается на занятость, а Марджори и Бэбс идут домой. Они замужем, и их не воспринимают всерьез. Юноши зовут их «живописицы».
– Если они – живописицы, кто тогда я?
– Девушка-живописец, – шутя отвечает Джон.
Колин – он обладает зачатками хороших манер – объясняет:
– Если женщина плохо рисует, она – живописица. А если хорошо, то она живописец.
Они не произносят слово «художник». По их мнению, любой живописец, называющий себя художником, просто кретин.
Я уже бросила искать кавалеров, чтобы сходить на обычное свидание: почему-то мне теперь кажется, что это несерьезно. Вообще-то с тех пор, как я ношу черные водолазки, меня почти перестали приглашать: мальчики в блейзерах и белых рубашках точно знают, какие девочки им подходят. В любом случае они – мальчики, а не мужчины. Их розовые щеки, манера хихикать, собравшись стайкой, манера делить девушек на «плохих» и «хороших», энергичные неловкие попытки перейти границы чулочного пояса и лифчика мне уже неинтересны. А интересны мне усы со стажем и желтые от никотина пальцы; морщинки – следы былых невзгод, тяжелые веки, терпение, порожденное усталостью от жизни. Мужчины, умеющие выдувать сигаретный дым изо рта и вдыхать его через нос, даже не задумываясь. Я не знаю, откуда взялся этот образ. Он будто вдруг материализовался из воздуха, уже законченный.
Студенты с курсов не похожи на это описание, хотя и блейзеров не носят. Они носят намеренно неопрятную, заляпанную краской одежду и свежеотпущенную бороду. Они – переходная форма. Они разговаривают, но не доверяют словам; один из них, Редж, родом из Саскачевана, так невнятен, что практически нем – и эта бессловесность придает ему особый статус, словно изобразительное искусство съело часть его мозга и он стал юродивым, святым. Англичанину Колину не доверяют – он говорит не то чтобы много, но слишком хорошо. Настоящие живописцы изъясняются бурчанием. Как Марлон Брандо.
Но они способны выразить свои чувства. Они пожимают плечами, бормочут, выпаливают куски фраз, машут руками: резкое движение кулака, открытая ладонь, рывки, словно что-то лепят из воздуха. Иногда этот язык знаков призван выразить мнение по поводу чужих картин: «Говно», – говорят они или, много реже: «Фан-ёпть-тастика!» Они крайне редко что-либо одобряют. Еще они считают Торонто деревней. «Здесь ничего никогда не происходит», – говорят они, и многие их беседы вращаются вокруг планов побега. Париж уже всё, а в Англию не хочет ехать даже англичанин Колин:
– Там все рисуют желто-зеленым. Желто-зеленым, как гусиное говно. Депресняк, блин.
Их влечет только Нью-Йорк. Теперь всё главное происходит там.
После нескольких кружек они могут заговорить о женщинах. Они обсуждают своих подруг. Некоторые живут вместе с подругами; эти называют их «моя старуха». Иногда они шутят о натурщицах, которые позируют нам на занятиях (к нам каждый раз приходит другая). Они говорят «я б ей вдул», словно это зависит исключительно от их желания или нежелания. Они выражают свое мнение о натурщице, чмокая губами воздух либо изображая тошнотное отвращение. «Корова», – говорят они. «Кошелка». «Полный отстой». При этом они порой косятся на меня, словно ожидая реакции. Когда описания становятся слишком детальными – «П…да как жопа у слона». – «А ты откуда знаешь? Часто трахаешь слонов?» – они шикают друг на друга, словно в присутствии матерей; будто еще не решили, кто я такая.
Я ни на что из этого не обижаюсь. Наоборот, я думаю, что мне даны особые привилегии; я – исключение из какого-то правила, которое мне даже не известно.
Я сижу в зловонии, пивном тумане и сигаретном дыму, чуточку пьянея, держа рот на замке, а глаза открытыми. Мне кажется, я отчетливо вижу этих парней, потому что мне от них ничего не нужно. На самом деле я очень многого от них ожидаю. Я ожидаю, чтобы меня приняли как свою.
Одно их развлечение мне не нравится: они высмеивают мистера Хрбика. Его зовут Иосиф, и они прозвали его Сталин – за усы, восточноевропейский акцент и суровость к ученикам. Это нечестно, потому что, как я знаю – как мы все уже знаем к этому времени, – ему пришлось скитаться по четырем странам из-за превратностей войны, он застрял за железным занавесом, питался отбросами и чуть не умер с голоду, но потом ему удалось бежать во время венгерского восстания – вероятно, с риском для жизни. Он никогда не упоминал конкретные обстоятельства. Точнее, он вообще ни о чем из этого не говорил во время занятий. Тем не менее, нам это известно.
Но мальчиков его биография не впечатляет. Рисование – мура, а мистер Хрбик – атавизм. Они называют его «Пэ Эл», это значит «перемещенное лицо», старое ругательство, которое я помню еще со школы. Так мы звали беженцев из Европы, а еще – тех, кто был неуклюж, не знал, как себя вести, и вообще не вписывался. Мальчики передразнивают акцент мистера Хрбика и его манеру говорить про тело. Они ходят на «Рисование с натуры» только потому, что это обязательный предмет. «Рисование с натуры» – отстой, нынче все самое главное происходит в живописи действия[11], а для нее уж точно не надо уметь рисовать. И уж точно не надо уметь рисовать жирную корову без трусов. Несмотря на это, они сидят на занятиях, как и я, вовсю скрипя углем по бумаге и создавая рисунок за рисунком – груди и ягодицы, бедра и шеи, а в некоторые вечера – исключительно ступни. Мистер Хрбик тем временем расхаживает по мастерской, дергая себя за волосы и отчаиваясь.
Лица мальчиков бесстрастны. Для меня их презрение очевидно, но мистер Хрбик его не замечает. Я его жалею. И еще я ему благодарна за то, что он разрешил мне заниматься. И еще я им восхищаюсь. Война уже достаточно далеко отодвинулась, чтобы покрыться налетом романтики, а он прошел войну. Я гадаю, есть ли у него на теле шрамы от пуль или иные знаки благодати.
Сегодня в зале «Для дам с сопровождающими» таверны «Кленовый лист» я не одна с мальчиками. С нами еще и Сюзи.
У Сюзи желтые волосы – я вижу, что она их накручивает на бигуди, укладывает, а потом взлохмачивает. И подкрашивает кончики в пепельный блонд. Она тоже ходит в джинсах и черных водолазках, но ее джинсы – обтягивающие, как вторая кожа, и она обычно носит что-нибудь на шее – серебряную цепочку или медальон. Она красит глаза, рисуя толстую черную линию по веку, на манер Клеопатры, пользуется черной тушью для ресниц и знойными темно-синими тенями, так что глаза окружены каймой цвета синяков, словно оба подбиты; пудра у нее белая, а помада бледно-розовая, и в результате Сюзи выглядит как после болезни или многонедельного недосыпа. У нее полные бедра и не по росту большая грудь, будто она резиновая игрушка, которой надавили на голову и резина выпятилась в некоторых местах. У нее задыхающийся голосок и удивленный смешок; даже ее имя похоже на пуховку от пудреницы. Я считаю ее пустышкой, которая валяет дурака в художественном колледже, потому что ей не хватило ума поступить в университет. А вот относительно мальчиков я таких выводов не делаю.
– Сталин сегодня был в ударе, – говорит Джон. Он высокий, большерукий и носит бакенбарды. На нем джинсовая куртка с большим количеством кнопок. После англичанина Колина Джон – самый красноречивый в нашей компании. Он использует такие выражения, как «чистое искусство» и «плоскость картины», но лишь в обществе двух-трех человек, и никогда – в большой группе.
– О, – восклицает Сюзи с задыхающимся смешком, словно втягивает, а не выдыхает воздух, – это очень зло! Не надо его так называть!
Меня это задевает: она сказала что-то такое, что я сама давно должна была высказать вслух, но не осмелилась; и еще, даже этот упрек у нее вышел так, словно кошка трется у ног; словно восхищенное прикосновение к мужскому бицепсу.
– Помпезный старый пердун, – говорит Колин, чтобы привлечь к себе внимание Сюзи.
Она обращает на него взор глаз, обведенных синим.
– Он не старый, – серьезно говорит она. – Ему всего тридцать пять лет.
Все хохочут.
Но откуда она знает? Я смотрю на нее и начинаю соображать. Однажды я пришла на занятия раньше времени. Натурщицы еще не было на месте, я сидела в мастерской одна, и тут явилась Сюзи, уже без пальто, а сразу после нее – мистер Хрбик.
Сюзи подошла туда, где я сидела, и воскликнула:
– Правда, какой ужасный снег?
Обычно она со мной не заговаривала. И это я только что пришла из-под снега; Сюзи на вид была теплая, как свежеподжаренный тост.
В дневное время на дворе стоит февраль. В сером лектории музея воздух сырой от мокрых пальто и тающей снежной каши, принесенной на сапогах. Многие кашляют.
Мы уже прошли Средневековье с его реликвариями и удлиненными святыми, и теперь несемся галопом по эпохе Возрождения, останавливаясь в самых важных местах. Здесь изобилуют мадонны. Как будто одна огромная Дева Мария народила целую кучу дочерей, и все они отчасти, но не в точности, похожи на нее. Они сбросили нимбы сусального золота, утратили удлиненность и плоскогрудость, типичную для каменных и деревянных статуй, и обрели некоторую пышность. Они реже возносятся на небеса. Некоторые – серьезные, с лицом как тесто, они сидят у камина или на стуле типичного для эпохи стиля, или у открытого окна, через которое видно, как вдали кроют крышу; другие – с беспокойным видом, третьи – бело-розовые, кровь с молоком, с нимбами будто из золотой проволоки и тончайшими золотыми прядками волос, выбившихся из-под покрывала. Вдали – ясные итальянские небеса. Девы склоняются над колыбелью в сюжетах Рождества или держат младенца Иисуса на коленях.
Иисус не очень-то похож на настоящего младенца – у него слишком тощие и длинные руки и ноги. И даже когда похож, он не выглядит как новорожденный. Я видела новорожденных детей, у них сморщенные, как курага, личики, а эти Иисусы абсолютно другие. Они будто родились уже годовалыми. А может, они – съёжившиеся взрослые. На этих картинах много синего и красного цвета и все время кормят грудью.
Сухой голос из темноты сосредоточен на формальных атрибутах сюжетов, расположении складок ткани, подчеркивающем круговую композицию, рисовании текстур, использовании перспективы в изображении арок и плит пола. Кормления грудью мы будто не замечаем; указка из темноты никогда не останавливается на голых грудях, которые порой бывают неприятного зеленовато-розового цвета или покрыты синими венами; иногда рука нажимает на сосок, а изредка даже изображено молоко. В такие минуты студентки начинают ерзать; они не хотят думать о грудном вскармливании, и уж точно о нем не хочет думать преподаватель. За кофе девушек пробирает дрожь отвращения: они крайне брезгливы и будут кормить из бутылочки, тем более что это гигиеничней.
– Кормление грудью художники изображали, чтобы показать смирение Девы Марии, – объясняю я. – В ту эпоху женщины отдавали детей кормилицам, если только могли себе это позволить.
Я вычитала это в книге, которую выкопала в глубинах библиотечного стеллажа.
– Ну и ну, Элейн, – говорят девушки. – Какая ты мозговитая.
– Другой важный момент здесь – то, что Христос явился на землю в виде млекопитающего, – продолжаю я. – Интересно, во что Мария его пеленала? Вот это я понимаю, реликвия: господня пеленка. И отчего нету изображений Христа на горшке? Я знаю, что где-то хранится крайняя плоть Господа, а вот как насчет господней какашки?
– Ты ужасна!
Я ухмыляюсь, закидываю щиколотку на колено другой ноги и ставлю локти на стол. Мне нравится подкалывать девочек такими мелкими, примитивными шпильками: так я доказываю, что сама на них не похожа.
Это одна моя жизнь, дневная. Моя другая, настоящая жизнь проходит по вечерам.
Я внимательно наблюдаю за Сюзи и подмечаю все, что она делает. Она не ровесница мне на самом деле, а на два с лишним года старше, ей почти двадцать один. Она живет не дома с родителями, а в однокомнатной квартирке в одном из новых высотных зданий на Авеню-роуд, к северу от Сент-Клэр. Считается, что за эту квартиру платят ее родители. Иначе как она могла бы себе такое позволить? В этих зданиях есть лифты и просторные вестибюли с растениями в горшках. И еще у них есть названия, что-нибудь типа «Монте-Карло». Жить в таком месте – смелый поступок, признак незаурядной натуры, как бы ни насмехались над этим живописцы; в таких домах медсестры снимают квартиры на троих. Сами живописцы обитают на Блуре или Куин-стрит, на вторых этажах двухэтажных домиков, над скобяными лавками или оптовой торговлей чемоданами. Или на боковых улицах, где иммигранты.
Сюзи остается после занятий, приходит раньше, околачивается в колледже; во время занятий она смотрит на мистера Хрбика только искоса, украдкой. Я натыкаюсь на нее, когда она выходит из его кабинета, и она подскакивает и улыбается мне, потом поворачивается и кричит фальшиво и слишком громко:
– Спасибо, мистер Хрбик! До следующего вторника!
Она слегка взмахивает рукой, хотя дверь прикрыта и он ее не видит; этот взмах предназначен мне. Наконец до меня доходит то, что я должна была понять сразу: у Сюзи роман с мистером Хрбиком. И еще – она думает, что об этом никто не догадался.
Тут она ошибается. Я слышу, как Марджори и Бэбс обсуждают это в околичных выражениях:
– Понимаешь, девочка, есть разные способы получить оценку за курс.
– Если б я могла это сделать, просто раздвинув ноги!
– Размечталась! Давно прошли те дни, а?
И они смеются – необидно, будто все это в порядке вещей или даже забавно.
Я совсем не считаю эту любовную связь смешной. Так я называю их отношения; я не могу отделить слово «любовь» от слова «связь», хотя мне не ясно, кто из них кого любит. Я решаю, что это мистер Хрбик любит Сюзи. Или не любит, а одурманен ею. Мне нравится слово «одурманен» – оно наводит на мысли о сладкой истоме и пьяных от сиропа мухах. Сама Сюзи неспособна на любовь, она слишком приземленная. Я думаю, что из них двоих она сохраняет хладнокровие, контролирует ситуацию; она играет с ним, как кошка с мышкой – острыми лакированными коготками, словно с киноафиши сороковых годов. Я даже знаю, какого цвета коготки: она красит их лаком «Лед и пламя». Такая жестокость не вяжется с ее манерой чуть что смотреть жалобно и обиженно, заискивать. Сюзи навевает на окружающих чувство вины, как сладостный аромат, и одурманенный мистер Хрбик, шатаясь, бредет навстречу судьбе.
Поняв, что другие ученики в курсе – Бэбс и Марджори искусно намекнули, – Сюзи смелеет. Она начинает упоминать о мистере Хрбике, называя его по имени: Иосиф говорит, Иосиф думает. Она всегда знает, где он. Иногда он уезжает на выходные в Монреаль, где рестораны гораздо лучше и вина приличные. Сюзи это точно знает, хотя никогда там не была. Она подкидывает нам кусочки информации: он был женат в Венгрии, но жена с ним не поехала, и теперь он в разводе. У него две дочери, он носит их фотографии в бумажнике. Его убивает разлука с ними – «Просто убивает», – тихо говорит Сюзи, и глаза ее туманятся.
Марджори и Бэбс жадно впитывают все это. Они уже не считают Сюзи прошмандовкой – она практически на грани респектабельности. Они ее подначивают:
– Слушай, я тебя очень понимаю! Он такой милый, просто куколка!
– Да, так бы и съела! Но в мои-то годы это будет совращение младенца!
В туалете они сидят в соседних кабинках и говорят громко, перекрывая журчание струи, а я стою у зеркала и слушаю:
– Очень надеюсь, он знает, что делает. Такая милая девочка.
Они имеют в виду, что он должен на ней жениться. А может, что он должен на ней жениться, если она забеременеет. Так поступают порядочные люди.
Живописцы, напротив, с Сюзи грубы:
– Господи, да хватит уже про своего Иосифа! Можно подумать, у него из жопы солнце светит!
Но она не может молчать. Она защищается пугливым, виноватым хихиканьем, что еще больше раздражает их, да и меня тоже. Я вижу по глазам, что она полна до краёв и ничего не может удержать в себе.
Я чувствую, что мистер Хрбик нуждается в защите, а может, даже в спасении. Я пока не знаю, что мужчина может быть достойным восхищения в одних аспектах и полнейшим козлом в других. И еще одного я пока не знаю: то, что для мужчины – рыцарственное поведение, для женщины – чудовищная глупость; мужчинам гораздо проще отделаться от единожды возложенной на себя роли спасателя.
Я все еще живу с родителями, как это ни постыдно; но какой смысл платить за общежитие, если университет – в том же городе? Так считает мой отец, и это разумно. Знал бы он, что я не в общежитие хочу переехать, а в квартирку без лифта, на втором этаже над пекарней или табачной лавкой, где под окном грохочут трамваи, а потолок покрыт выкрашенными в черный цвет лотками из-под яиц.
Но я больше не сплю в своей детской комнате с плафоном ванильного цвета и занавесками на окне. Я удалилась в подвал, утверждая, что там мне удобнее будет заниматься. Там, внизу, в тускло освещенном чулане рядом с бойлером я устроила себе царство эрзаца и убожества. В шкафу со старым экспедиционным снаряжением я выкопала древнюю армейскую раскладушку и комковатый брезентовый спальный мешок, опередив мать: она собиралась перенести в подвал мою кровать, чтобы я спала на нормальном матрасе. К стенам я прилепила афиши местных театров: «В ожидании Годо» Беккета, «Нет выхода» Сартра. Афиши намеренно заляпаны отпечатками пальцев, буквы на них черные, словно чернильные, а призрачные фигуры людей наводят на мысль, что они полиняли в стирке. Еще я повесила на стены свои тщательно выполненные рисунки ступней. Моя мать считает афиши мрачными, а отдельные ступни вызывают у нее недоумение; у любых ступней должно быть тело. Я гляжу на нее прищурясь: что она вообще понимает.
Отец же считает, что у меня талант к рисованию, но он пропадает даром. Гораздо лучше было бы его применить к поперечным сечениям стеблей и клеткам водорослей. Для отца я – биолог-дезертир.
Отцовский взгляд на жизнь стал существенно мрачнее после отъезда мистера Банерджи, который вернулся в Индию. В этом отъезде есть какая-то тайна; о нем почти не говорят. Мать утверждает, что мистер Банерджи тосковал по родине, и намекает на нервный срыв, но здесь кроется нечто большее. «Они не захотели его повысить», – говорит отец. Это «они» (а не «мы») и «не захотели» (вместо «не повысили») весьма многозначительно. «Его не ценили как следует». Кажется, я знаю, что это значит. Отец всегда был весьма низкого мнения о человеческой природе, но оно не распространялось на ученых. А теперь распространяется. Отцу кажется, что его предали.
Я слышу над головой шаги родителей, расхаживающих по дому, звуки обыденной жизни – миксер, телефон, новости по радио. Все это просачивается сюда, вниз, словно сквозь пелену, так бывает во время болезни. Когда зовут есть, я возникаю из темноты, моргая от яркого света. Я сижу в ступоре и почти полном молчании, ковыряя вилкой фрикасе из курицы и картофельное пюре, пока мать комментирует мою бледность и отсутствие аппетита, а отец рассказывает что-нибудь интересное и познавательное, словно я еще ребенок. Осознаю ли я, что азотистые удобрения уничтожают рыбу в водоемах, провоцируя чрезмерный рост водорослей? Слышала ли я о новой болезни, которая нас всех сделает слабоумными калеками, если фабрики по производству бумаги не перестанут сбрасывать в реки ртуть? Я не осознаю и не слышала.
– Может быть, ты недосыпаешь, дорогая? – спрашивает мать.
– Нет, – вру я.
Отец замечает в газете рекламу нового фильма про гигантских насекомых, возникших под влиянием радиации.
– Как тебе известно, – говорит он, – кузнечики подобного размера не могли бы существовать. При таком масштабе их дыхательная система просто не справится.
Мне это не известно.
В апреле, когда почки на деревьях еще не распустились, а я готовлюсь к сессии, моего брата Стивена арестуют. Это происходит вполне ожидаемым образом.
Стивена не было дома (лучше бы он сидел дома и поддерживал меня в дискуссиях за обеденным столом). Он не был дома целый год. Он носится по всему миру, как бешеный. Он изучает астрофизику в университете Калифорнии, получив степень бакалавра за два года вместо четырех. Сейчас он в аспирантуре.
Я плохо представляю себе Калифорнию – я там никогда не была. Но мне кажется, что там всегда тепло и солнечно. Небо – яркое, анилиново-синее, деревья – сверхъестественно зеленые. Я населяю Калифорнию красивыми загорелыми мужчинами в темных очках и длинноногими блондинками, тоже загорелыми, в белых кабриолетах.
Среди этих модников в темных очках мой брат сильно выделяется. Закончив элитную школу для мальчиков, он вернулся к былой неопрятности и ходит в мокасинах и свитерах с протертыми локтями. Он не стрижется, пока ему об этом не напомнят, а кто будет ему напоминать? Он ходит среди пальм, насвистывая, не замечая ничего кругом, и голову его окружает нимб невидимых цифр. Что думают о нем калифорнийцы? Вероятно, принимают за бездомного бродягу.
В день, о котором идет речь, он взял бинокль и определитель и поехал на природу на своем подержанном велосипеде искать калифорнийских бабочек. Он натыкается на многообещающее поле, слезает с велосипеда и вешает на него замок; он вообще-то предусмотрителен в известной степени. Он направляется в поле, где, как я себе представляю, растет высокая трава с небольшими кустиками. Он видит двух экзотических калифорнийских бабочек и начинает их преследовать, останавливаясь, чтобы посмотреть на них в бинокль; но на таком расстоянии он не может определить, что это за бабочки, а каждый раз, когда он пытается к ним подойти, они взлетают.
Он доходит за ними до края поля, где стоит забор из сетки. Бабочки пролетают сквозь забор, брат его перелезает. За забором – другое поле, более ровное, и растительности там меньше. Его пересекает проселочная дорога, но брат не обращает на нее внимания, а следует дальше за бабочками – они красно-бело-черной расцветки с рисунком вроде песочных часов, брат таких никогда не видел. С другой стороны поля – еще один забор, повыше. Брат и его перелезает. И вот, когда бабочки наконец садятся на невысокий тропический куст с розовыми цветами и брат опускается на одно колено и наводит на них бинокль, подъезжает джип с тремя людьми в военной форме.
– Что вы здесь делаете? – спрашивают они.
– Здесь – это где? – брат разговаривает с ними раздраженно, потому что они спугнули бабочек и те опять улетели.
– Вы что, не видели объявлений? «Опасность, на территорию вход воспрещен»?
– Нет, – отвечает брат. – Я гнался за бабочками.
– За бабочками? – повторяет один. Другой крутит пальцем у виска:
– Псих.
Третий говорит:
– И вы думаете, мы в это поверим?
– Ваше дело, во что верить, – отвечает брат. Или что-то в этом роде.
– Умник, – говорят они, потому что именно так выражаются американцы в комиксах. Я добавляю им сигареты, торчащие из угла рта, пистолеты, всякое иное снаряжение и сапоги.
Оказывается, они военные, а эта территория – военный полигон. Они увозят брата к себе в штаб и сажают под замок. И еще конфискуют его бинокль. Они не верят, что он аспирант-астрофизик и что он гонялся за бабочками, и считают его шпионом, хотя и не понимают, почему он занимался своим делом так открыто. Шпионские романы просто кишат шпионами, которые притворяются безобидными любителями бабочек. Я это знаю, и военные тоже знают, а вот мой брат – нет.
Наконец ему разрешают позвонить, и его научный руководитель из университета приезжает и вызволяет его. Вернувшись за своим велосипедом, брат обнаруживает, что велосипед украли.
Эту историю мне вкратце рассказывают родители, пока мы едим говяжье рагу. Родители не знают, смеяться или тревожиться. Брат мне ни о чем таком не рассказывает. Он присылает письмо карандашом на листке, вырванном из блокнота со спиралью. Письма брата всегда начинаются без приветствия и кончаются без подписи, словно части одного большого письма, которое разворачивается во времени, длинное, как бумажное полотенце из рулона.
Брат сообщает, что пишет это, сидя на дереве, откуда он смотрит футбольный матч поверх стены стадиона – это дешевле, чем покупать билет, – и ест бутерброд с арахисовой пастой – это дешевле, чем обедать в ресторане; он не любит денежных транзакций. На письме в самом деле видны жирные пятна. Брат пишет, что ему видны скачущие на поле жареные куры, украшенные бумажными кисточками. Это, видимо, чирлидерши. Он живет в студенческом общежитии с большим количеством слизистых оболочек, которые ничего не делают, только пускают слюни на девушек и нажираются американским пивом – немалое достижение, по мнению брата, поскольку в этом пойле меньше градусов, чем в шампуне, и на вкус оно тоже как шампунь. По утрам он ест разогретую замороженную готовую яичницу – она квадратная, а в желтке попадаются кристаллы льда. Чудеса современных технологий, замечает он.
Помимо всех вышеперечисленных забав, он трудится не покладая рук, чтобы разгадать природу вселенной. Животрепещущий вопрос таков: похожа ли вселенная на огромный, бесконечно раздувающийся пузырь, или она пульсирует – расширяется и сжимается? Вероятно, я умираю от любопытства, но мне придется подождать несколько лет, пока брат получит окончательный ответ на этот вопрос. ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, пишет он печатными буквами.
«По слухам, ты занялась картинами, – продолжает он уже нормальным почерком. – Я тоже что-то такое делал в юности. Надеюсь, ты принимаешь рыбий жир и стараешься не попадать в неприятности». На этом письмо кончается.
Я представляю себе брата, сидящего на дереве в Калифорнии. Он больше не знает, кому пишет, потому что я изменилась до неузнаваемости. И я теперь уже не знаю, кто мне пишет. Я представляю его себе таким, каким он был раньше, но, конечно, он не мог не измениться. Теперь он наверняка знает многое, чего не знал тогда. Как и я.
И еще: если он одновременно пишет письмо и ест бутерброд, как же он держится на дереве? Ему, похоже, хорошо там, на насесте. Но ему надо быть осторожнее. Я всегда считала его храбрым, но, возможно, он просто не понимает, какие могут быть последствия у его поступков. Он думает, что с ним ничего не случится, потому что он говорит про себя правду. Но он в поле, там негде укрыться, и вокруг него чужаки.
Я сижу с Иосифом во французском ресторане, пью белое вино и ем улиток. Это первые в моей жизни улитки и первый французский ресторан. По словам Иосифа, это единственный французский ресторан в Торонто. Он называется La Chaumire, что, по словам Иосифа, означает «хижина, крытая соломой». Ресторан, однако, находится не в хижине, крытой соломой, а в прозаическом уродливом здании, таком же, как все остальные здания в Торонто. Сами улитки выглядят как большие темные сгустки соплей; их едят двузубой вилкой. Улитки оказываются вкусными, хотя и жестковатыми, как резина.
Иосиф говорит, что улитки не свежие, а консервированные. Он говорит грустно, обреченно, словно это конец; но чему именно конец – неясно. Иосиф многое произносит с такой интонацией.
Например, так он впервые произнес мое имя. То было в мае, на последней неделе курса рисования с натуры. Мистер Хрбик принимал учеников по одному, чтобы обсудить, насколько они продвинулись в течение года. Бэбс и Марджори шли передо мной. Они стояли в коридоре со стаканами кофе, взятыми навынос. «Привет, девочка», – сказали они. Марджори рассказывала, как пошла на вокзал встречать свою дочь, которая должна была приехать из Кингстона, и мужчина продемонстрировал ей себя. Ее дочь была моя ровесница и училась в Королевском университете в Кингстоне.
– Он был в плаще, хочешь верь, хочешь нет, – сказала Марджори.
– О господи, – отозвалась Бэбс.
– И я посмотрела ему в глаза… в глазок… и сказала: «У вас ничего получше не нашлось?» У него был совсем малюсенький! Неудивительно, что ему приходится бегать по вокзалам, чтобы на него хоть кто-нибудь посмотрел!
– И?
– Ну, чем выше встанет, тем больней будет, когда упадет – скажешь, нет?
Обе фыркнули, разбрызгав кофе и выкашливая дым. Я по обыкновению решила, что они ведут себя вульгарно: шутят о вещах, которые вовсе не предмет для шуток.
Из кабинета мистера Хрбика вышла Сюзи. «Привет», – сказала она, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Макияж у нее был размазан, глаза красные. Я читала современные французские романы, и Фолкнера тоже. Я знала, чем должна быть любовь: одержимостью с оттенком тошноты. Сюзи была как раз из девушек, которых влечет такой тип любви. С нее станется валяться в ногах, умолять, унижаться. Лечь на пол, стеная, и цепляться за ноги мистера Хрбика, так что ее волосы, как светлые водоросли, накроют черную кожу его ботинок (он в ботинках, поскольку собирался тайком сбежать). С этой точки обзора мистера Хрбика было видно только по колени, а лица Сьюзи совсем не видно. Она, должно быть, раздавлена страстью.
Но я ее не жалела, а даже чуточку завидовала.
– Бедненький кроличек, – сказала Бэбс в спину удаляющейся Сюзи.
– Уж эти мне европейцы, – сказала Марджори. – Я ни минуты не верила, что он в разводе.