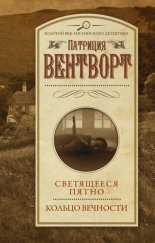Кошачий глаз Этвуд Маргарет
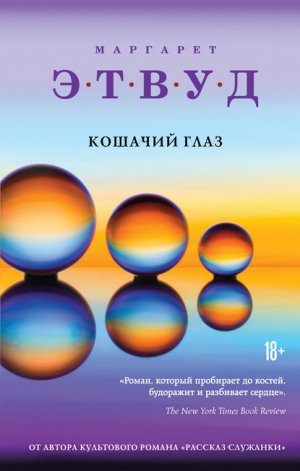
– Будь ты мужчиной, тебя бы за это растоптали, – говорит Кэролин.
– Но я не мужчина, – мило улыбается Джоди.
Мы трудимся три дня – вешаем, расставляем, перевешиваем и переставляем. Когда все работы занимают свои места, нужно собрать раскладные столы, которые будут играть роль бара, и купить бухло и жрачку. «Бухло и жрачка» – это из лексикона Джоди. Мы покупаем канадское вино в четырехлитровых канистрах, полистироловые стаканчики для вина, соленые крендельки и картофельные чипсы, куски чеддера, завернутые в пластик, крекеры. Это все, что мы можем себе позволить; но кроме того, существует неписаное правило – угощение должно быть абсолютно плебейским.
Наш каталог – это пара страниц, отпечатанных на ротаторе и скрепленных скобкой в уголке. Предположительно он – плод наших коллективных усилий, но на самом деле большую часть текста написала Джоди, потому что у нее это лучше получается. Кэролин изготавливает вывеску – из простынь, выкрашенных так, словно на них кто-то кровоточил, – и мы вешаем ее над входом:
«(ОНА)РХИЯ»
– Что вы хотели этим сказать? – спрашивает Джон, который заехал вроде бы забрать меня, но на самом деле – посмотреть. Он подозрительно относится к моим занятиям с другими женщинами, хотя говорить об этом вслух – ниже его достоинства. Однако он именует их «девочками».
– Это слово «анархия», в которое инкапсулировано слово «она», – объясняю я, хотя знаю, что он знает. «Инкапсулировать» – тоже словечко Джоди.
Джон оставляет это без комментариев.
Вывеска привлекает внимание прессы: что-то новое, событие, возможный скандал. Одна газета еще до открытия присылает фотографа, и он, снимая нас, приговаривает:
– Ну-ка, девочки, сожгите-ка для меня пару лифчиков.
– Свинья, – тихо произносит Кэролин.
– Спокойно, – говорит Джоди. – Они обожают, когда мы бесимся.
В день открытия выставки я прихожу в галерею заранее. Я обхожу экспозицию, двигаясь вдоль бывших проходов магазина, вокруг касс, где теперь выстроились скульптуры Джоди, как манекенщицы на подиуме, мимо стены, с которой вызывающе кричат лоскутные одеяла Кэролин. Это сильные работы, думаю я. Сильнее моих. Мне кажется, что даже облачные конструкции Зиллы уверенны и тонки, в них есть решимость, которой недостает моим работам; в этом окружении мои картины слишком вылизаны, слишком декоративны, они приятны на вид – и всё.
Я сбилась с пути. Я не сумела высказаться. Я на обочине.
Я выпиваю ужасного вина, потом еще, и мне становится чуть лучше, хоть я и знаю, что потом мне будет плохо. Оно похоже на уксус, в котором маринуют мясо перед жаркой.
Я стою у стены, рядом с дверью, вцепившись в стаканчик с вином. Я стою тут, потому что хочу быть ближе к выходу. Но это также и вход, через который прибывают люди, все больше людей.
Большинство из них – почти все – женщины. Самые разные. С длинными волосами, в длинных юбках, в джинсах и комбинезонах, с серьгами, в кепках наподобие тех, что носят рабочие на стройке, в шалях лавандового цвета. Одни из них тоже художницы, другие просто так выглядят. Кэролин, Джоди и Зилла тоже уже появились – слышатся приветствия, женщины сжимают друг другу руки, целуют друг друга в щечки, восторженно взвизгивают. Похоже, у всех троих есть друзья – гораздо больше, чем у меня. И близкие подруги. Я никогда не замечала этой пустоты вокруг себя и всегда думала, что другие женщины – такие же, как я. Да, когда-то они были такими. А теперь – нет.
Конечно, у меня есть Корделия. Но я ее много лет не видела.
Джон еще не пришел, хотя и обещал. Мы даже бэбиситтера позвали на вечер, чтобы Джон мог прийти. Я думаю, не пофлиртовать ли мне с кем-нибудь. С кем-нибудь совершенно неподходящим – просто так, посмотреть, что будет; но вариантов мало, так как мужчин на выставке почти нет. Я проталкиваюсь через толпу с очередным стаканом гадкого красного уксуса, пытаясь не чувствовать себя лишней.
Прямо рядом со мной раздается женский голос:
– Да, эти работы определенно оригинальны.
Типичная формулировка почтенной торонтовской дамы из среднего класса, предназначенная для того, чтобы смешать тебя с грязью. Апофеоз неодобрения. Нечто подобное они могут сказать про трущобы и их жителей. «Я не повешу такое у себя над диваном», – вот что она имела в виду. Я поворачиваюсь и смотрю на нее: хорошо сшитый серебристо-серый костюм, жемчуга, элегантный шарфик, дорогие замшевые туфли. Она убеждена в своей власти, в своем праве выносить вердикты. А я и такие, как я, здесь только до тех пор, пока нас терпят.
– Элейн, познакомься, это моя мама, – говорит Джоди. От мысли, что эта женщина – мать Джоди, у меня перехватывает дух. – Мама, Элейн нарисовала те цветы. Те, что тебе понравились.
Она имеет в виду «Ядовитый паслён».
– О да, – мать Джоди тепло улыбается. – Вы, девочки, все такие талантливые. Мне и правда понравилась та картина. Изумительные цвета. Но зачем в ней все эти глаза?
Это ужасно похоже на то, что сказала бы моя мать, и меня пробирает тоска. Я хочу, чтобы мама была здесь. Ей не понравилось бы большинство наших работ, особенно расчлененные манекены; она бы не поняла их. Но она улыбалась бы и нашла бы что сказать приятного. Совсем недавно я высмеивала такой дар. Теперь я в нем нуждаюсь.
Я раздобываю еще стакан вина и крекер с сыром и вглядываюсь в толпу, ища Джона. Но вместо него я вижу над толпой миссис Смиитт.
Миссис Смиитт следит за мной. Она лежит на диване, прикрывшись пледом, все в той же фетровой шляпке, отчасти напоминающей тюрбан. Эту картину я назвала «Торонтодалиска. Подражание Энгру» – из-за позы, и еще потому, что фикус у нее за головой напоминает веер. Она сидит перед зеркалом, и половина ее лица сползает вниз, как у негодяя в однажды читанном мною комиксе-ужастике; он назывался «Проказа». Она стоит у раковины в своей кухне – зловещий нож для чистки овощей в одной руке, полуочищенная картофелина в другой. Картина называется «ОКО·ЗА·ОКО».
Рядом – «Белый дар», тетраптих. На первой панели миссис Смиитт завернута в белую папиросную бумагу, как банка колбасного фарша или мумия. Из бумаги торчит лишь ее голова, на лице замкнутая полуулыбка. На последующих панелях миссис Смиитт постепенно лишается покровов: она в халате из набивного ситца и в фартуке с нагрудником, потом – в корсете телесного цвета, как на последних страницах каталога Итона (хотя, скорее всего, такого корсета у нее не было), и, наконец, в вытянутых х/б панталонах, единая большая грудь рассечена, чтобы видно было сердце. Это сердце умирающей черепахи: рептильное, темно-красное, изъеденное болезнью. По нижнему краю панели идет надпись, выведенная по трафарету: «ЦАРСТВО·БОЖИЕ· ВНУТРЬ·ВАС·ЕСТЬ».
Для меня до сих пор загадка, почему я так ненавижу миссис Смиитт.
Я отвожу от нее взгляд и вижу другую миссис Смиитт, но она шевелится. Она только что вошла в зал и направляется ко мне. Она в таком же возрасте, как тогда. Словно сошла со стены, со стен: то же круглое лицо, похожее на очищенную картофелину, то же громоздкое ширококостное тело, сверкающие очки и корона из кос, заколотая шпильками. У меня в животе все сжимается от ужаса; но тут же вспыхивает прогоркшая ненависть.
Но, конечно, это никак не может быть миссис Смиитт. Та должна была уже состариться. И впрямь, не она. Корона из кос оказалась оптической иллюзией: просто седеющие, коротко стриженные волосы. Это Грейс Смиитт, неприглядная и полная праведного гнева, в бесформенной, безвозрастной одежде навозного цвета; ни колец, ни украшений. По тому, как она шагает – выпрямив спину, трепеща, сжав губы, веснушки проступают на белой картофельной коже укусами клопов, – я понимаю, что никакие заискивающие улыбки с моей стороны не превратят нашу встречу в легкий обмен приветствиями.
Но я все равно пытаюсь:
– Грейс, это ты?
Несколько человек, стоящих рядом, замолкают на полуслове. Подобных женщин крайне редко увидишь на открытии какой бы то ни было выставки.
Грейс неумолимо движется вперед. Ее лицо пополнело по сравнению с детскими годами. Я вспоминаю туфли с ортопедическими вставками, толстые хлопчатобумажные чулки, трусы, истончившиеся и посеревшие от стирки, угольные подвалы. Я ее боюсь. Не того, что она может со мной сделать, а ее осуждения. Сейчас она вынесет приговор.
– Вы отвратительны, – произносит она. – Вы поминаете имя Божие всуе. Зачем вы хотите делать людям больно?
Что тут скажешь? Я могла бы ответить, что моя миссис Смиитт на самом деле не мать Грейс, а составной художественный образ. Я могла бы заговорить о формальных качествах живописи, о целенаправленном использовании цвета. Но «Белый дар» – не составной художественный образ. Это портреты миссис Смиитт, и притом непристойные. Как рисунки в туалетах, только возведенные на следующую ступень.
Грейс смотрит мимо меня, на стену: там не одна или две шокирующие, мерзкие картинки – их множество. Миссис Смиитт шагает из рамы в раму, преображаясь на ходу: голая, выставленная на всеобщее обозрение, оскверненная, вместе с бархатным бордовым диваном, священным фикусом, ангелами Господними. Я зашла слишком далеко.
Грейс сжимает кулаки, толстый подбородок дрожит, глаза красные и мокрые, как у лабораторного кролика. Она что, плачет? Я в ужасе, но в то же время глубоко удовлетворена. Грейс наконец позорится на людях, а я полностью владею собой.
Но я приглядываюсь еще раз, повнимательней: эта женщина – не Грейс. Даже не похожа. Грейс – моя ровесница, она не может так выглядеть. Есть некоторое сходство, вот и все. Эта женщина – незнакомка.
– Постыдились бы, – говорит не-Грейс. Она прищуривается за стеклами очков. Поднимает кулак, и я роняю стакан с вином. Красные брызги на полу и стенах.
В сжатом кулаке у нее – флакон чернил. Дрожащей рукой она отвинчивает крышку, и я затаиваю дыхание – со страхом, но и с любопытством: в кого она бросит, неужели в меня? Потому что она явно собирается швырнуть чернильницу. Кругом ахают, все происходит очень быстро, сквозь толпу к нам проталкиваются Кэролин и Джоди.
Не-Грейс швыряет чернила – вместе с флаконом – прямо в «Белый дар». Флакон ударяется и грохается на ковер, чернила выплескиваются, окутывая миссис Смиитт покрывалом «Синих смывающихся» фирмы «Паркер». Женщина торжествующе улыбается мне, разворачивается и спешит к выходу – уже не решительным маршем, а торопливо семеня.
Я зажимаю рот руками, словно собираясь закричать. Кэролин обнимает меня, окутывает собой. Она пахнет материнством.
– Я вызову полицию, – говорит она.
– Не надо, – отвечаю я. – Это смоется.
Вероятно, так оно и есть, потому что «Белый дар» написан на деревянных панелях и покрыт лаком. Возможно, даже вмятины не будет.
Вокруг меня собрались женщины – шуршат перышками, воркуют. Меня успокаивают, утешают, гладят, лелеют, будто я в шоке. Может, они искренни. Может, они в самом деле хорошо ко мне относятся. С женщинами я никогда не знаю, так ли это.
– Кто это был? – спрашивают они.
– Какая-то религиозная фанатичка, – отвечает Джоди. – Реакционерка.
Теперь на меня будут смотреть уважительно: раз в мои картины швыряют чернилами, раз они могут вызвать такую ярость и вспышку насилия, такой публичный скандал, значит, в них есть некая непостижимая революционная мощь. Отныне я кажусь дерзкой и смелой. К моему облику добавился героизм.
В газете появляется заголовок: «Скандал на шабаше феминисток: клочья летят». На фотографии я с искаженным лицом зажимаю себе рот руками; на заднем плане голая миссис Смиитт истекает чернилами. Так я узнаю, что женская драка – новостной повод. Женская драка – это что-то неприличное, перевернутое вверх тормашками, комичное, все равно что мужчина в вечернем платье и на каблуках.
Собственно работы удостаиваются нелестных эпитетов: «колючие», «визгливые», «агрессивные». Эти слова относятся в основном к статуям Джоди и лоскутным одеялам Кэролин. Пухзажи Зиллы объявляются «субъективными», «интровертированными» и «эфемерными». Я отделываюсь сравнительно легко: «наивный сюрреализм с капелькой феминистической кислоты».
Кэролин делает ярко-желтую вывеску с красными словами «Колючие – визгливые – агрессивные» и вешает ее над входом. На выставку приходит еще больше народу.
Я сижу в приемной и жду. Вокруг безликие стулья светлого дерева с оливково-зеленой обивкой и три журнальных столика. Это громоздкая имитация ранней скандинавской мебели, которая была популярна десять-пятнадцать лет назад, а ныне бесповоротно вышла из моды. На одном из столиков лежат затертые журналы – «Ридерс дайджест», «Маклин». На другом стоит пепельница, белая, с ободком из розочек. Ковер оранжево-зеленый, стены желтоватые. На стене одна картина – литография с изображением двух жеманных и отвратительных детей в псевдокрестьянских костюмах, вроде бы австрийских. Они укрываются грибом вместо зонтика.
Пахнет застарелым табачным дымом, старой резиной, заношенной интимностью тряпки, которая слишком долго терлась о тело. Поверх всего этого из коридора несет антисептическим средством для мытья полов. Окон нет. В этой приемной болят зубы, как от скрипа ногтями по классной доске. Мне кажется, что я жду приема у зубного врача или собеседования на заранее ненавистную должность.
Это – укромная частная психушка. Санаторий, как ее называют: «Санаторий имени Дороти Линдвик». Сюда богачи сдают своих родственников, которых неудобно выпускать на улицу – чтобы те не угодили в дом 999 по Куин-стрит, заведение отнюдь не укромное и не частное.
Куин-стрит, 999 – с одной стороны, реальный адрес сумасшедшего дома, а с другой – общий термин: им в нашей школе обозначались вообще все на свете психушки, дурдома и заведения для чокнутых, которые мы могли себе представить. Нам только и оставалось их себе представлять, поскольку настоящих мы в глаза не видели. «Куин-стрит, 999», – говорили мы, высовывая язык из угла рта, скашивая глаза к носу и крутя обоими указательными пальцами у висков. Безумие считалось смешным – как и другие вещи, на самом деле пугающие и глубоко постыдные.
Я жду Корделию. Во всяком случае, я думаю, что это окажется Корделия: по телефону ее голос звучал непохоже, он был медленный и какой-то поврежденный.
– Я тебя видела, – были ее первые слова, будто мы последний раз общались пять минут назад. На самом деле прошло семь лет… а может, восемь… или девять… В то лето, когда она работала на Шекспировском фестивале в Стратфорде. Лето Иосифа.
– В газете, – добавила она. И замолчала, словно то был вопрос.
– Да, – сказала я. И потом, зная, что она этого ждет: – Давай встретимся?
– Меня отсюда не выпускают, – тот же заторможенный голос. – Тебе придется прийти сюда.
И вот я здесь.
Через дверь в дальнем конце приемной входит Корделия. Она идет медленно, словно балансирует на канате или словно у нее болит нога. Но она не хромает. За ней идет другая женщина – с жизнерадостной, фальшивой зубастой улыбкой профессиональной сиделки.
Я не сразу узнаю Корделию, она сильно изменилась. Точнее, она изменилась по сравнению с тем, какой была, когда я ее видела в последний раз – в пышной ситцевой юбке, с экзотическим браслетом, элегантная и уверенная в себе. Она вернулась к более ранней фазе. Или к более поздней? Мягкий зеленый твид и приталенные блузки ее обеспеченного детства. Теперь они придают ей почтенный и немолодой вид, потому что она поправилась. Хотя точно ли? Плоти стало больше, но она как-то съехала вниз, к талии, будто лавина сошла с горы. На лице проступили длинные кости, а кожа стянулась книзу, будто от неумолимой гравитации. Я вижу, какой будет Корделия в старости.
Ей кто-то сделал прическу. Не она сама. Она ни за что не стала бы завивать волосы мелким барашком.
Корделия стоит неуверенно, слегка щурясь, выставив голову вперед и едва заметно качая ею из стороны в сторону – так делают слоны или какие-нибудь другие медленно соображающие, растерянные животные.
– Корделия! – я встаю.
– А вот и ваша подружка, – женщина безжалостно улыбается. Она берет Корделию за руку и слегка тянет, указывая нужное направление.
– А вот и я, – говорю я, заражаясь манерой санитарки – разговаривать с Корделией как с ребенком. Я подхожу и неловко целую ее. К своему удивлению, я обнаруживаю, что рада ее видеть.
– Лучше поздно, чем никогда, – произносит Корделия. Она говорит так же неуверенно, негнущимся языком, как по телефону. Женщина подводит ее к стулу напротив моего, сажает, слегка толкнув вниз, как строптивую старушку.
Я вдруг начинаю злиться. Никто не имеет права так обращаться с Корделией. Я сердито гляжу на санитарку, а она произносит:
– Как мило, что вы пришли! Корделия рада, когда у нее гости. Правда, Корделия?
– Ты можешь вывести меня погулять, – говорит Корделия. И смотрит на сиделку, ища подтверждения.
– Да, верно, – подтверждает сиделка. – Выпейте чаю или что-нибудь такое. Если вы обещаете привести ее назад, конечно!
Она бодро смеется, будто это шутка.
Я веду Корделию погулять. «Санаторий имени Дороти Линдвик» находится в пригороде под названием Хай-парк. Я тут никогда не бывала и совем не знаю здешних мест, но в нескольких кварталах впереди на углу есть кафе. Корделия знает его и дорогу туда. Я думаю, следует ли взять ее под руку, и в итоге не беру; я иду рядом с ней, бдя за двоих на перекрестках, будто она слепая, и подстраивая свой шаг под ее.
– У меня совсем нет денег, – говорит Корделия. – Они мне не дают. Они даже сигареты для меня покупают.
– Это ничего.
Мы устраиваемся в кабинке, заказываем кофе и два подогретых дэниша. Заказываю я: не хочу, чтобы официантка пялилась. Корделия неловко достает сигарету. Рука, подносящая зажигалку, дрожит.
– Тестикулы могущественного сверхъестественного высшего существа! – произносит она, очень старательно выговаривая слоги. – Как хорошо оттуда вырваться!
Она пробует смеяться, и я смеюсь вместе с ней, чувствуя, что согрешила и что против меня выдвинуто обвинение.
Мне надо бы расспросить ее: чем она занималась все те годы, что мы пропустили? Как ее актерская карьера, что из этого вышло? Замужем ли она, есть ли у нее дети? Что, собственно, случилось – почему она оказалась в этом заведении? Но все это лишнее. Наносное, добавочное. Главное – Корделия, тот факт, что она здесь и сейчас.
– Что за гадость тебе дают? – спрашиваю я.
– Какие-то транквилизаторы. Я их ненавижу. У меня от них слюни текут.
– Зачем? Как ты вообще оказалась в этом дурдоме? Ты не более сумасшедшая, чем я.
Корделия смотрит на меня, выдувая дым. Она отвечает не сразу:
– У меня дела шли не так чтоб хорошо.
– И?
– И. Я наглоталась таблеток.
– Ох, Корделия. – Меня словно взрезают чем-то острым. Словно у меня на глазах падает ребенок и ударяется ртом о камень. – Почему?
– Не знаю. На меня просто что-то нашло. Я очень устала.
Нет смысла говорить ей, что она зря это сделала. И я поступаю так, как когда-то в школе: начинаю выведывать подробности:
– Так что, ты вырубилась?
– Угу. Я для этого сняла номер в гостинице. Но они догадались – управляющий или кто там. Мне промыли желудок. Отвратительная процедура. Тошнотворная, можно сказать.
Она что-то делает лицом – это был бы смех, не будь оно таким застывшим. Мне кажется, что я сейчас заплачу. В то же время я злюсь на нее, сама не зная почему. Она потеряла идею себя. Она заблудилась.
– Элейн, вытащи меня оттуда, – говорит она.
– Что? – осекаюсь я.
– Помоги мне выбраться. Ты не знаешь, каково там. Не дают ни минуты побыть одной.
Это самое близкое к мольбе, что я от нее когда-либо слышала.
В голове всплывает фраза – остаток от общения с мальчишками, от субботних послеобеденных часов, от чтения комиксов: «Что ты пристаешь к малышу? К большим ребятам, небось, не лезешь!»
– А как? – спрашиваю я.
– Придешь навестить меня завтра, и мы уедем на такси. – Она видит, что я колеблюсь. – Или просто одолжи мне денег. Больше ничего не надо делать. Я утром спрячу таблетки, не стану их глотать. Тогда я буду в порядке. Я знаю, это из-за таблеток я такая. Мне только двадцать пять долларов, больше не нужно.
– У меня нет столько денег с собой, – говорю я. Это правда, но все равно отговорка. – Тебя поймают. Они поймут, что ты не выпила таблетки. Заметят.
– Я их запросто обдурю, – говорит Корделия. В голосе слышен призрак ее былой хитрости. Ну конечно, думаю я, она актриса. Или была актрисой. Она может что угодно изобразить. – И вообще эти доктора ужасно тупые. Они меня без конца расспрашивают, верят всему, что я им говорю. И всё записывают.
Значит, там есть и врачи. Даже не один.
– Корделия, но разве я могу решать такие вещи? Я даже не поговорила… ни с кем не поговорила.
– Они все сволочи. Я совершенно здорова. Ты же знаешь. Ты же сама сказала.
Под застывшим, обвисшим лицом бьется в истерике ребенок.
Я представляю себе, как спасаю, умыкаю Корделию. Это можно сделать, или что-то в этом роде; но куда я ее дену? Она заляжет на дно у нас дома, будет спать на импровизированной кровати, как те уклонисты от призыва, как беженка, перемещенное лицо, будет курить в кухне с Джоном, недоумевающим, кто это вообще такая и откуда ее черт принес. Наши отношения и так шатки; я боюсь, что не могу себе позволить Корделию. Она окажется моим очередным прегрешением, которое Джон добавит к длинному списку, хранящемуся у него в голове. И вообще, как бы мне самой вскорости не съехать с катушек.
И еще я обязана думать о Саре. Как она отнесется к «тете Корделии»? Умеет ли Корделия обращаться с маленькими детьми? И насколько она в самом деле вменяема? Как скоро я, вернувшись домой, найду ее холодное тело на полу в ванной, или еще чего похуже? А вокруг будет расплываться ярко-красный закат. У Джона на рабочем столе целый арсенал – лобзики, зубила. Памятуя театральные таланты Корделии – может, это будет просто игра на зрителей, один-два надреза на глубину кожи. Хотя возможно, что актеры склонны к риску больше, а не меньше, чем обычные люди. Чтобы хорошо сыграть роль, они пожертвуют чем угодно.
– Корделия, я не могу, – мягко говорю я. Но я не чувствую к ней никакой мягкости. Я киплю злобой, гневом, который не могу ни объяснить, ни выразить. «Как ты смеешь меня об этом просить?» Мне хочется выкрутить ей руку и натыкать ее лицом в сугроб.
Официантка приносит счет.
– Ну что, ты напитала свою персону? – спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал легко, и пытаясь переменить тему. Но Корделия никогда не была дурой.
– Значит, не хочешь, – говорит она. И добавляет уныло: – Я знаю, ты всегда меня ненавидела.
– Нет! С какой стати? Нет же!
Я в шоке. Почему она такое сказала? Я не помню, чтобы когда-нибудь ее ненавидела.
– Я все равно выберусь, – говорит она. Уверенно, уже не заторможенно. На лице упрямство, вызов – такой я ее помню много лет назад. «И?»
Я веду ее обратно и сдаю с рук на руки.
– Я приду тебя навестить.
Я честно собираюсь это сделать, но в то же время знаю, что шансов мало. Я говорю себе, что с Корделией все будет в порядке. Она и под конец школы такая была, а потом выкарабкалась. Может, и сейчас выкарабкается.
Возвращаясь домой на метро, я разглядываю рекламу: пива, шоколадного батончика, лифчика, что на лету превращается в птицу. Я изображаю облегчение. Я чувствую себя невесомой и свободной.
Но я не свободна. Я не свободна от Корделии.
Мне снится, что Корделия падает – с утеса или моста – на фоне сумерек, растопырив руки, и юбки ее раздуваются колоколом, образуя в воздухе как бы снежного ангела. Она не приземляется и не ударяется о землю: она все падает и падает, и я просыпаюсь с колотящимся сердцем, с землей, ушедшей из-под ног, как в лифте с оборвавшимся тросом.
Мне снится, что Корделия стоит во дворе нашей старой школы имени королевы Марии. Школы уже нет, остался только двор для прогулок и склон на задворках, с чахлыми вечнозелеными деревцами. Корделия в куртке от лыжного комбинезона, но она не ребенок, она в том же возрасте, что сейчас. Она знает, что я бросила ее в беде, и зла на меня.
Проходит месяц, а может, два или три, и я сочиняю послание Корделии на писчей бумаге с цветочным бордюром – из тех, что оставляют мало места для собственно письма. Я специально выбираю такую. Записка настолько полна фальшивой бодрости, что у меня едва хватает сил заклеить конверт. В ней я предлагаю новый визит.
Но письмо приносят обратно с пометкой: «Адресат выбыл». Я рассматриваю эти слова под всевозможными углами, пытаясь понять, не сама ли Корделия их написала, замаскировав свой почерк. Но если это не она, если ее больше нет в санатории, куда она делась? Она может в любую минуту позвонить в дверь или по телефону. Она может оказаться где угодно.
Мне снится статуя-манекен вроде тех, что выставляла Джоди – распиленная и снова склеенная. На ней нет ничего, кроме марлевого костюма, расшитого блестками. Манекен кончается у шеи. Под мышкой у него – завернутая в белую ткань голова Корделии.
XII. На одном крыле
В углу парковки, среди шикарных бутиков, восстановили закусочную в стиле сороковых годов. На вывеске так и написано, «Закусочная “40ковые”». Не в отреставрированном старом здании, а в новом, с иголочки.
Когда-то они не успевали сносить подобное старьё.
Внутри все выглядит почти как в те времена, только слишком чисто; и стиль не то чтобы сороковых, скорее, начала пятидесятых. Прилавок с газированной водой, вдоль него табуретки с ядовито-зелеными сиденьями. Стены кабинок покрыты глянцево-фиолетовым винилом, напоминающим расцветку кадиллака тех времен с «акульими плавниками». Музыкальный автомат, хромированные стойки для пальто, на стенах зернистые черно-белые фото закусочных – подлинные, сороковых годов. Официантки в белых форменных платьях с черным кантом, хотя ярко-красная губная помада у них не совсем того оттенка и по-хорошему должна быть слегка размазана вокруг рта. На официантах белые шапочки вроде пилоток, залихватски сдвинутые набок, и прически правильные, с подбритым затылком. От посетителей отбою нет. В основном это двадцатилетние детишки.
В самом деле, ужасно похоже на «Саннисайд», переделанный в музей. В этой кабинке могли бы сидеть мы с Корделией – набитые чучела или восковые фигуры – в кофточках с рукавами «летучая мышь» и талиями в рюмочку. Мы бы пили молочные коктейли, приняв максимально скучающий вид.
В последний раз я видела Корделию, когда она скрывалась в глубинах «санатория». В тот день я с ней в последний раз говорила. Но то был не последний раз, когда она говорила со мной.
Здесь не подают сэндвичей с авокадо и проростками, кофе – не эспрессо, на десерт – торт с кокосовым кремом, не хуже, чем тогда. Это я и заказываю – кофе и торт с кокосовым кремом, сажусь в одной из фиолетовых кабинок и смотрю, как молодые люди умиляются тому, что считают очарованием прошлого.
Когда сама живешь в те годы, не находишь в них ничего очаровательного. Очарование видишь лишь позже, удалившись на безопасное расстояние, когда прошлое уже можно рассматривать как декорацию, а не как форму, в которую насильно втискивали твою жизнь.
Сейчас выпускают формочки для кабачков в виде головы Элвиса Пресли: их надевают на кабачок, пока он еще маленький, и по мере роста он деформируется и принимает вид Элвиса. Для того ли Элвис пел, чтобы превратиться в кабачок? Конечно, вегетарианство и переселение душ сейчас в моде, но всему есть предел. Я предпочла бы реинкарнироваться в мокрицу. Или в креветку, зажаренную в кляре. Впрочем, может быть, перевоплотиться в кабачок – лучше, чем попасть в ад.
– Удачная реконструкция, – говорю я официантке. – Но, конечно, цены неправильные. Тогда кофе стоил десять центов.
– В самом деле, – отзывается она, но это не вопрос. Она улыбается мне по долгу службы: «Нудная старая карга». Она вдвое моложе меня, и ее жизнь я даже вообразить себе не могу. Она за что-то винит себя, что-то ненавидит, чего-то боится, но все это – иное, не такое, как было у нас. Что они делают, чтобы не заразиться СПИДом? Нынче уже не поскачешь просто так из одной койки в другую, как мы когда-то. Может, в современный ритуал ухаживания входит обмен телефонами личных врачей? Мы больше всего боялись беременности – ловушки, прицепленной к сексу, которая могла пустить твою жизнь под откос. Но теперь все изменилось.
Я оплачиваю счет, несоразмерно много даю на чай, собираю свои сумки с покупками – по итальянскому шарфу для каждой из дочерей, перьевая ручка для Бена. Перьевые ручки снова входят в моду. Где-то в чистилище выстроились все былые приборы, приспособления, фасоны, ожидая, пока придет их черед вернуться.
Я иду, приближаясь к перекрестку. Следующая улица – та, на которой жил Иосиф. Я считаю дома: вот этот должен быть его. Фасад содрали и сделали витрину, газон замостили плиткой. На витрине – древняя лошадка-качалка, потертое лоскутное одеяло, кукла с деревянной головой и сильно попорченным лицом. Когда-то такое выбрасывали, а теперь выискивают и продают за большие деньги. Ценники скромно спрятаны – это значит, что цена запредельная.
Я гадаю, что в конце концов случилось с Иосифом. Если он еще жив, ему должно быть лет шестьдесят пять или даже больше. Если тогда он был грязным старикашкой, то во что превратился за эти годы?
Но он в самом деле снял фильм. Во всяком случае, я думаю, что это он – имя и фамилия режиссера были те самые. Я увидела этот фильм случайно, на кинофестивале. Много позже, уже в Ванкувере.
Фильм был про двух женщин с туманными характерами и волосами как облако. Женщины бродили по полям, и ветер прилеплял к телу их юбки, обрисовывая бедра. Женщины смотрели загадочно и пристально. Одна разобрала радиоприемник и уронила куски в ручей, съела бабочку, перерезала горло кошке, потому что была сумасшедшая. Все эти действия не показались бы привлекательными, будь она безобразной старухой, а не эфирной блондинкой. Другая женщина делала небольшие надрезы у себя на бедре старомодной опасной бритвой, оставшейся от дедушки. Ближе к концу фильма она спрыгнула с железнодорожного моста в реку, и ее платье трепетало, как занавеска в окне. Если бы не цвет волос, женщины были бы неотличимы друг от друга.
Герой фильма любил обеих и не мог выбрать. Потому они и сошли с ума. Тут я поняла, что фильм точно снял Иосиф: ему даже в голову не пришло, что у женщин могли быть свои причины для безумия, не имеющие никакого отношения к мужчинам.
Вся кровь в этом фильме была бутафорская. Женщины для Иосифа были ненастоящими – точно так же, как он сам для меня. Потому я и относилась к его страданиям так презрительно и холодно: он был не настоящий. Понятно, почему он никогда не снился мне: он и без того уже принадлежал к миру сновидений – прерывистому, иррациональному, навязчивому.
Конечно, я обошлась с ним несправедливо, но где я была бы сейчас без этой несправедливости? В рабстве, под игом. Молодые женщины должны быть несправедливы – в этом их защита. Должны быть черствыми, невежественными. Они бредут в темноте вдоль края пропасти, напевая себе под нос и считая себя неуязвимыми.
Я не могу винить Иосифа за этот фильм. Он имел право создать собственную версию, вызвать к жизни собственных призраков; как и я. Возможно, он мной пользовался, но и я им воспользовалась.
Взять, например, картину «Рисование с натуры», которая прямо сейчас висит в галерее: Иосиф отлично сохранился, прямо торт на блюдечке – так бы и съела. Он на картине слева, совершенно голый, но вполоборота от зрителя, так что задница видна анфас, а торс в профиль. Справа – Джон в такой же позе. Я несколько облагородила их тела: они стали менее волосатыми, мышечные группы выступают четче, кожа светится. Я думала, не надеть ли на них трусы, чтобы не шокировать торонтовскую публику, но решила, что не надо. У обоих просто замечательные попы.
Оба пишут – холсты стоят на мольбертах перед ними. У Иосифа на картине изображена пышная, но не толстая женщина, она сидит на табуретке, на бедро наброшена простыня и пропущена между ногами, груди голые, лицо прерафаэлитское, задумчивое, сознательно таинственное. Джон пишет скопление завитков, похожих на кишки – ярко-розовых, малиновых и цвета мороженого «Бургундская вишня».
Модель сидит на стуле между ними, передом к зрителю, босые ступни прочно стоят на полу. Она задрапирована в белую простыню, которая прикрывает ее тело ниже грудей. Руки аккуратно сложены на коленях. Вместо головы у нее шар из голубоватого стекла.
Мы с Джоном сидим в баре на крыше отеля «Парк Плаза» и пьем шорле из белого вина. Это я предложила – хотела еще раз тут побывать. Вид города изменился, «Парк Плаза» уже не самое высокое здание, а приземистый пережиток, карлик по сравнению с выросшими вокруг стройными стеклянными небоскребами. Точно к югу вздымается Канадская национальная башня, похожая на перевернутую сосульку. Такие строения раньше встречались только в научной фантастике, и теперь, глядя на ее плоский силуэт на фоне одноцветного озеронеба, я думаю, что перенеслась во времени не вперед, а куда-то вбок – в двумерную вселенную.
Но в самом баре мало что изменилось. Он по-прежнему похож на дорогой бордель эпохи Регентства. Даже тщательно причесанные официанты, степенные и вместе с тем задерганные, как будто те же. Может, они и впрямь те же. Когда-то управляющий держал в гардеробе запасные галстуки для джентльменов, которые их случайно забыли. Так и говорилось, «забыли», потому что, разумеется, ни один джентльмен не выйдет без галстука преднамеренно. Когда в этот бар стали пускать женщин в брюках, то была настоящая революция. Первой сюда пробилась чернокожая супермодель в шикарном брючном костюме: ее вынуждены были впустить, иначе она подала бы в суд за расовую дискриминацию. Даже это воспоминание обличает мой возраст. Ну какая современная женщина видит в брючном костюме символ раскрепощения?
Я никогда не ходила сюда с Джоном. В те годы он осмеял бы мягкие кресла под антиквариат, шторы в пышную складку, посетителей, будто вырезанных из рекламы виски в глянцевом журнале. Это с Иосифом я сюда ходила, руки Иосифа касалась через стол. А не Джона, как сейчас.
Лишь кончиками пальцев, совсем легко. На этот раз мы говорим мало; никаких словесных фехтований, как за обедом. У нас общий словарь односложных восклицаний и пауз; мы знаем, зачем мы здесь. Спускаясь в лифте, я гляжусь в дымное зеркало стены и вижу свое лицо – отражение потускнело от времени, как надгробный камень зарастает мхом. По нему не скажешь, сколько мне лет.
Мы берем такси и возвращаемся в мастерскую. Наши руки совсем рядом на сиденье. Мы поднимаемся по лестнице – медленно, чтобы не запыхаться; ни один из нас не хочет продемонстрировать другому одышку немолодого организма. Рука Джона у меня на талии. Это знакомо и уютно; так, не глядя, находишь выключатель в доме, где когда-то жила, но с тех пор не бывала много лет. В дверях Джон, прежде чем вой- ти, хлопает меня по плечу: ободрение и вместе с тем меланхоличная капитуляция.
– Не включай свет, – говорю я.
Он обнимает меня, прячет лицо в сгибе моей шеи – не столько от желания, сколько от усталости.
Студия залита лилово-серым светом осенних сумерек. Гипсовые слепки рук и ног белеют в темноте, как обломки статуй в руинах. В углу накидана моя одежда, там и сям стоят пустые чашки – на рабочем столе, у окна, – обозначая мои дневные маршруты, помечая территорию. Теперь комната кажется моей, словно я жила тут все эти годы, независимо от того, где я еще бродила и чем занималась. Это Джон был в отъезде, и вот наконец вернулся.
Мы раздеваем друг друга, как когда-то, в самом начале, но с большей робостью. Я не хочу показаться неловкой. Я рада, что уже темнеет: я стесняюсь своих бедер сзади, морщин над коленями, мягкой складки на животе – не то чтобы жир, но складка заметна. У Джона поседели волосы на груди, я в шоке. Я стараюсь не глядеть на его пивной животик, но вижу все перемены в его теле, как он, должно быть, видит перемены в моем.
Когда мы целуемся, это происходит с серьезностью, какой нам недоставало раньше. Тогда мы алкали друг друга и были эгоистами.
Мы занимаемся любовью, чтобы утешиться. Я узнаю Джона. Я бы узнала его и в полной темноте. У каждого мужчины свой ритм, который не меняется. В этом облегчение и радость встречи.
Я не считаю, что изменяю Бену. Я просто храню верность чему-то другому: чему-то, что было раньше него и никакого отношения к нему не имеет. Уплата по старому счету.
И еще я знаю, что это больше не повторится. Так последний раз оглядывают перед отъездом какую-нибудь достопримечательность, которую уже посетили и больше сюда не вернутся. Прощание с Ниагарским водопадом в сумерках.
Мы лежим под периной, обнявшись. Мне трудно вспомнить, из-за чего мы когда-то ссорились. Давний гнев утих, и с ним – острая, ревнивая похоть, которую мы питали друг к другу. Остались нежность и сожаление. Диминуэндо.
– Придешь на открытие выставки? Мне хочется, чтобы ты там был.
– Нет. Не хочу.
– Почему?
– Мне будет неприятно. Не хочу видеть тебя такой.
– Какой?
– Когда тебя облизывает вся эта публика.
Он хочет сказать, что не желает быть просто зрителем, что на выставке нету для него места, и он прав. Он не хочет выступать в роли всего лишь бывшего мужа. Тогда он потеряет и меня, и себя. Я понимаю, что тоже этого не хочу. На самом деле не надо, чтобы он приходил. Мне нужно, чтобы он там был, но мне этого не хочется.
Я поворачиваюсь к нему, приподнимаюсь на локте и снова целую, на сей раз в щеку. Волосы сзади на шее, за ухом, уже седеют. Мы успели как раз вовремя, думаю я. Чуть не опоздали.
Мы с Джоном будто падаем с лестницы. До сих пор мы будто понемногу спотыкались, хватались за перила, поднимались снова. Но вот равновесие потеряно окончательно, и мы летим вниз головой, оба – шумно и неуклюже, набирая скорость и обдираясь об углы.
Я ложусь спать в гневе и боюсь проснуться, а проснувшись, лежу рядом со спящим Джоном в общей постели, прислушиваясь к ритму его дыхания и ненавидя его за забытьё, в котором он до сих пор царствует.
Много недель подряд он говорит меньше обычного и меньше бывает дома. Во всяком случае, одновременно со мной. Когда я на работе, он сидит дома еще как, даже если Сара в садике. Я начинаю находить знаки – мелкие улики, оставленные у меня на пути, как хлебные крошки на тропе: окурок с розовой меткой от помады, два грязных бокала в раковине, шпилька (не моя) под подушкой (моей). Я убираю все это и молчу, складывая в памяти до подходящего момента.
– Тебе звонила какая-то Моника, – говорю я.
Утро. Впереди лежит целый день, который нужно прожить. День уверток, подавленного гнева, деланного спокойствия. Мы уже давно не бросаемся вещами.
Джон читает газету.
– Да? Чего она хотела?
– Просила передать, что Моника звонила.
Он приходит домой поздно вечером. Я уже в постели, делаю вид, что сплю, но в голове все бурлит. Я думаю о том, как его обличить – обнюхать его рубашку, ища запах духов, выследить его на улице, спрятаться в шкафу и выскочить, горя негодованием. Я думаю о том, что еще можно сделать. Я могу уехать куда-нибудь, неважно куда, вместе с Сарой. Или потребовать серьезного разговора. Или притвориться, что ничего не происходит, и продолжать жить как прежде. Такой совет мне дали бы в женском журнале десять лет назад: выждать.
Я вижу все это как сценарии, которые нужно разыграть и выбросить, возможно – одновременно. Ни один из них не исключает никакого другого.
В жизни тем временем все идет заведенным порядком. Становится темно, как зимой, и над головой набухают тучи, тяжелые от невысказанного.
– Ты ведь спала со Сталиным, да? – как бы между делом спрашивает Джон. Сегодня суббота, и мы притворяемся нормальной семьей – ведем Сару в Гранж-парк поиграть в снегу.
– С кем?
– Ну ты поняла. Иосиф, как его там. Старый пердун, у которого мы рисовали человечков.
– А, этот, – говорю я. Сара чуть поодаль на качелях с какими-то другими детьми. Мы садимся на скамейку, смахнув с нее снег. Я думаю, что надо бы слепить снеговика или сделать еще что-нибудь такое из репертуара идеальных матерей. Но я слишком устала.
– Так ты с ним спала, признавайся, – говорит Джон. – Одновременно со мной.
– С чего ты взял? – Я знаю, что мне предъявлено обвинение. Я перебираю собственный боезапас: шпильки, губная помада, телефонные звонки, бокалы в раковине.
– Я не идиот, знаешь ли. Я все вычислил.
Значит, он тоже ревнует, и у него есть раны, которые нужно зализывать. Раны, нанесенные мной. Нужно бы соврать, отрицать всё. Но я не хочу. В этот миг существование Иосифа придает мне капельку гордости.
– Это было много лет назад. Тысячи лет назад. И не имело никакого значения.
– Черта с два, – говорит Джон. Когда-то мне казалось, что он, узнав про Иосифа, меня осмеёт. Удивляет меня то, что он воспринимает его всерьёз.
В ту ночь мы занимаемся любовью, если это еще можно так назвать. Это не похоже на любовь, у этого иная окраска, чем у любви, иная форма – оно жесткое, металлическое, цвета войны. Мы что-то доказываем друг другу. Или опровергаем.
Утром он ни с того ни с сего спрашивает:
– Кто еще у тебя был? Откуда мне знать, что ты не прыгала в койку с каждым старым козлом?
Я вздыхаю: