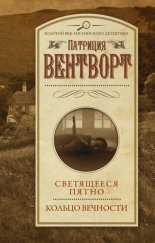Кошачий глаз Этвуд Маргарет
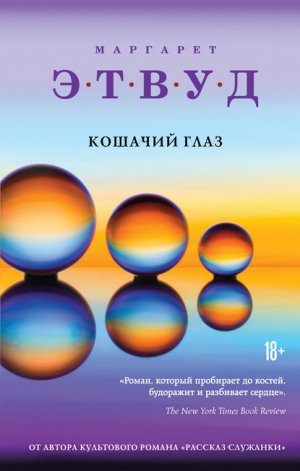
Утра произносит это слово насмешливо, врастяжечку, чтобы показать, что она уже переросла такие выражения.
– Берись за ум, Корделия, а то опять останешься на второй год. Ты ведь знаешь, что тогда сказал папа.
Корделия краснеет и не находит что ответить.
Корделия начинает красть в магазинах. Она не говорит «украсть», она говорит «стырить». Она «тырит» губную помаду в «Вулворте» и пакеты лакричных конфет в кафе-аптеке. Она входит, покупает какую-нибудь мелочь вроде заколок-невидимок, и когда продавщица отворачивается, доставая сдачу из кассы, Корделия хватает что-нибудь с прилавка и прячет под полой или в кармане плаща. Уже наступает осень, и мы ходим в длинных плащах, хлопающих по ногам, с большими мешковатыми накладными карманами, очень удобными для этого. Мы выходим из магазина, и Корделия показывает мне свою добычу. Она, похоже, думает, что в этом нет ничего плохого; она восторженно смеется, глаза у нее сверкают, щеки раскраснелись. Как будто выиграла приз.
В универмаге «Вулворт» старые деревянные полы, изъеденные за много лет зимней кашей с сапог покупателей, и тусклые люстры, свисающие с потолка на длинных металлических стеблях. Здесь нет ничего такого, что нам могло бы понадобиться, кроме разве что губной помады. Здесь продают рамки для фотографий, куда вставлены странно окрашенные снимки каких-то кинозвезд, чтобы было понятно, как будет выглядеть эта рамка со вставленной фотографией. Этих актеров зовут как-нибудь вроде Рамон Новарро и Линда Дарнелл – давно забытые звёзды былой эпохи. Еще тут есть уродливые шляпы, старушечьи шляпки с вуальками и гребёнки с поддельными стразами. Здесь практически всё поддельное. Мы ходим вдоль стеллажей, опрыскивая себя одеколонами, пробуя губную помаду на запястьях, щупая товар и громко критикуя его, а продавщицы, женщины средних лет, сверлят нас глазами.
Корделия тырит розовый нейлоновый шарф, и ей кажется, что одна из продавщиц это замечает, так что мы некоторое время не ходим в «Вулворт». Мы идем в кафе-аптеку и покупаем там эскимо, и, пока я расплачиваюсь, Корделия тырит два журнала с комиксами-ужастиками. Мы идем из магазина дальше домой и на ходу по очереди читаем эти журналы вслух, с выражением, наподобие радиопьесы. Мы делаем паузы, чтобы похохотать. Мы сидим на низкой каменной ограде перед похоронным бюро, чтобы вместе смотреть на картинки, читаем и смеемся.
Комиксы нарисованы очень детально и раскрашены в кричащие цвета, среди которых преобладают зеленый, фиолетовый и сернисто-желтый. Корделия читает рассказ про двух сестер – одна из них хорошенькая, а у другой огромный ожог вполлица. Он багровый и сморщенный, как давно упавшее яблоко. У хорошенькой сестры есть бойфренд, она ходит с ним на танцы, а та, что с ожогом, ненавидит сестру и любит ее бойфренда. Из ревности она вешается перед зеркалом. Но ее дух переходит в зеркало, и когда хорошенькая перед ним причесывается и поднимает взгляд, то видит, что из зеркала на нее смотрит обожженная сестра. Хорошенькая сестра падает в обморок от ужаса, а обожженная вылезает из зеркала и перебирается в ее тело. Она захватывает власть над телом, и ей удается провести бойфренда. Она даже соблазняет его на поцелуй, но ее лицо, ныне идеальное, зеркало – единственное из всех – отражает в подлинном, изуродованном виде. И бойфренд это замечает. К счастью, он знает, что нужно сделать. Он разбивает зеркало.
– Рыдания, – произносит Корделия. – О, Боб! Это было… ужасно! Ничего, дорогая, всё уже позади. Она ушла… обратно… туда, откуда пришла… навсегда. Теперь мы можем по-настоящему быть вместе, ничего не страшась. Объятие. Конец. Буэ!
Я читаю следующий рассказ – про мужчину и женщину, которые утонули в море, но обнаруживают, что они не совсем мертвые. Вместо этого они ужасно разбухшие, жирные и живут на необитаемом острове. Они больше не любят друг друга, потому что они такие толстые. И вот мимо идет корабль, и они ему машут. «Они нас не видят! Они проходят прямо сквозь нас! О нет… ведь это значит… мы обречены так жить вечно! Неужели для нас нет выхода?»
На следующей картинке они вешаются. Толстые тела болтаются на пальмах, а их когда-то худые тела, прозрачные, одетые в обрывки купальных костюмов, держась за руки, уходят в океан. Объятие. Конец.
– Два раза буэ, – говорит Корделия.
Она читает про мертвеца, который вылезает из болота – тело разбухло и отваливается кусками, – чтобы задушить брата, который его в этом болоте и утопил. Я читаю про водителя, который подбирает голосующую на дороге красивую девушку, а потом оказывается, что она уже десять лет как мертва. Корделия читает про человека, на которого наложил проклятие жрец вуду, и у него на руке выросла огромная клешня омара и напала на него самого.
Когда мы доходим до дома Корделии, она не хочет брать журналы с собой. Говорит, что кто-нибудь может их найти и поинтересоваться, откуда они у нее. Даже если она скажет, что купила их, ей все равно влетит. В конце концов их забираю я. Ни одной из нас не приходит в голову, что их можно просто выбросить.
Я приношу комиксы домой, и до меня доходит, что я не хочу оставлять их на ночь в своей комнате. Одно дело смеяться над ними при дневном свете, но совсем другое, как я теперь понимаю, чтобы они были тут, рядом со мной, пока я сплю. Я представляю себе, как они светятся в темноте мертвенным сернисто-желтым светом. Я представляю себе, как они испускают клубящиеся щупальца тумана, обретающие плоть у меня на тумбочке. Я боюсь выяснить, что в моем теле заперт кто-то другой; боюсь увидеть в зеркале другую девочку, похожую на меня, но с темным ожогом вполлица.
Я знаю, что ничего этого на самом деле случиться не может, но сама мысль мне не нравится. Выбрасывать комиксы я тоже не хочу: это значит выпустить их на свободу, и тогда они могут выйти из-под контроля. Так что я несу их в комнату Стивена и запихиваю в стопку его собственных старых комиксов, до сих пор лежащих у него под кроватью. Он их больше не читает, так что и эти не найдет. Какие бы эманации ни исходили от них по ночам, Стивен неуязвим. Я считаю, что ему по плечу всё, в том числе и подобные вещи.
Воскресный вечер. В камине горит огонь; занавески задернуты, чтобы не пускать в дом тяжелую ноябрьскую темноту. Отец сидит в кресле и проверяет студенческие рисунки, изображающие гусениц елового почкоеда в разрезе, с пищеварительной системой. Мать поджарила на гриле сыр с беконом. Мы слушаем по радио программу Джека Бенни, которая перемежается музыкально-песенной рекламой сигарет «Лаки страйк». В шоу участвует человек с хриплым голосом и другой, который говорит: «Огухчик в сехедину и гохчицы свеъху». Я понятия не имею, что первый изображает чернокожего, а второй еврея. Для меня они просто люди со странной манерой разговаривать.
Старого радиоприемника с зеленым глазом больше нет, его сменил другой, в гладком, без узоров, шкафчике светлого дерева, где есть еще и проигрыватель. Тарелки с поджаренным сыром мы ставим на деревянные кофейные столики, которые можно убрать один в другой; эти столики тоже светлые, а ножки у них широкие сверху и сужаются книзу, безо всяких завитушек и выпуклостей. Никаких пылесборников. Эти ножки похожи на ноги толстых женщин, как их рисуют в комиксах: ни коленок, ни щиколоток. Светлое дерево привозят из Скандинавии. Наше столовое серебро переехало в корабельный сундук. Теперь у нас новые столовые приборы, из нержавеющей стали.
Все эти вещи выбирала не мать, а отец. Он и парадную одежду ей покупает; мать смеется и говорит, что весь ее вкус сосредоточен во рту. Насколько ей известно, стул – чтобы на нем сидеть, и ей все равно, какие на нем узоры – розовые петунии, фиолетовые горохи – лишь бы не ломался. Можно подумать, что она, как кошка, видит только движущиеся предметы. Она становится еще более равнодушна к моде и расхаживает в нарядах, подобранных на скорую руку, – лыжная куртка, старый платок, непарные варежки. Она говорит, ей все равно, как это выглядит, лишь бы грело.
Что еще хуже, она увлеклась танцами на льду: ходит на занятия на ближайший крытый каток, где изображает танго и вальс под жестяную музычку, держась за руки с другими женщинами. Мне чудовищно стыдно, но, по крайней мере, это происходит в помещении, где ее никто не видит. Можно только надеяться, что с приходом зимы она не вздумает практиковаться на катке под открытым небом, где ее может увидеть кто-нибудь из моих знакомых. А она сама даже не подозревает, какой урон может нанести. Она никогда не говорит: «Что скажут люди?!» – как это говорят, или по идее должны говорить, другие матери. Она говорит, что видала их всех с высокой колокольни.
Я считаю, что с ее стороны это безответственно. Но в то же время выражение «видала их всех с высокой колокольни» мне приятно. Оно превращает мою мать в не-мать, во что-то вроде птицы-мутанта. Я теперь очень придирчиво отношусь к собственной одежде и завела привычку обозревать себя сзади с помощью ручного зеркальца: вдруг где-то нитка прилипла или подол отпоролся. Взгляд с высокой колокольни – это роскошь. Такую элегантную, непочтительную беззаботность я хотела бы воспитать в себе – в отношении одежды и многого другого.
Брат сидит на стуле – тоже светлого дерева и с сужающимися книзу ножками. Брат стал крупней и старше – внезапно, словно в тот момент, когда я отвернулась. Теперь он бреется. Поскольку сегодня выходной, он не побрился, и рот у него обведен полосой тонких щетинок. Брат в мокасинах – старых, в которых он ходит дома, с дырками под большими пальцами, – и старом бордовом свитере с V-образным вырезом. У свитера протерлись локти, и от дырок поползли петли. Брат не позволяет матери заштопать или заменить этот свитер. Мать часто говорит, что видала все относящееся к одежде с высокой колокольни, но это равнодушие не распространяется на дырки, обтерханные края и грязь.
Этот драный свитер и дырявые мокасины – одежда, в которой брат занимается. По будним дням он вынужден носить пиджак, галстук и серые фланелевые брюки, всё это требуется в школе. Он не может сделать прическу «утиный хвост» или даже «ёжик»; его волосы подбриты с затылка, а спереди разделены на косой пробор, как у английских мальчиков-хористов. Это тоже требование школы. С этой прической он выглядит как герой приключенческой книжки двадцатых годов, или даже раньше – таких книжек много у нас в подвале – или как офицер воздушных войск союзных держав из комикса. У него такой же нос и подбородок, как на иллюстрациях к этим книгам, только тоньше; симпатичный, аккуратный, старомодный вид. Глаза у него тоже подходящие: пронизывающие, голубые, слегка фанатичные. К мальчикам, заботящимся о своей внешности, он питает уничтожающее презрение. Он зовет их слащавыми манекенами.
Брат учится в частной школе для очень умных мальчиков. Она частная, но недорогая – туда попадают после трудных экзаменов. Родители с некоторым беспокойством спрашивали меня, не хочу ли я пойти учиться в частную школу для девочек; они думали, что я почувствую себя обделенной, если они не постараются и для меня тоже. Я все знаю про эти школы – там заставляют носить юбки из шотландки и играть в хоккей на траве. Я сказала, что эти школы – для снобов и там очень низкие академические требования. Это правда; но я в любом случае ни за что не пошла бы учиться в школу для девочек. Сама идея наполняет меня клаустрофобной паникой; школа, в которой одни только девочки, – все равно что капкан.
Брат тоже слушает Джека Бенни. Слушая, он левой рукой сует в рот квадратики жареного сыра, а правой держит карандаш, который непрерывно движется. Брат едва смотрит на блокнот, куда пишет, но время от времени выдирает страницу и комкает ее. Скомканные страницы падают на пол. Подобрав их после окончания радиопостановки, чтобы бросить в мусорное ведро, я вижу, что они исписаны цифрами – длинные рядки цифр и символов тянутся бесконечно, переходят со строки на строку, как слова в письме или зашифрованное послание.
Иногда брат приглашает к себе друзей. Они сидят у него в комнате, поставив между собой шахматный стол и не двигаясь, за исключением рук. Руки поднимаются, зависают над доской и пикируют. Иногда игроки сопят, говорят что-нибудь вроде «Ага», или «Размен», или «Вот тебе». А иногда обмениваются добродушными, непонятными ругательствами: «Ты сурд!», «Ты тупой угол!», «Ты атавизм!» Съеденные фигуры – кони, пешки, слоны – выстраиваются за пределами доски. Время от времени – чтобы посмотреть, как идет игра, – я приношу играющим стаканы молока и ванильно-шоколадное печенье, которое испекла сама по рецепту из «Поваренной книги Бетти Крокер». Это я так выделываюсь, но особого отклика не встречаю. Мальчики сопят, выпивают молоко, держа стаканы левой рукой, пихают в рот печенье, не сводя глаз с доски. Слоны опрокидываются, королева падает, король окружен. «Мат в два хода», – говорят игроки. Палец опускается на доску и сбивает короля. «Играем матч из пяти партий», – говорят они. И начинают все снова.
По вечерам брат делает уроки. Иногда необычным образом. Он встает на голову, чтобы кровь прилила к мозгам, или стреляет шариками жеваной бумаги в потолок. Весь потолок вокруг плафона у него в комнате покрыт, как прыщами, комками когда-то пережеванной бумаги. В другие разы на брата нападают приступы бешеной физической активности: он колет лучину на растопку в огромном количестве, гораздо больше, чем нам нужно, или бегает трусцой в овраге, надев ужасные мешковатые штаны, зеленый свитер, еще более потрепанный, чем бордовый, и потертые серые кроссовки, похожие на те, что иногда валяются на пустырях. Брат говорит, что готовится к марафону.
Часто брат меня как будто не замечает. Он думает о других вещах, серьезных и важных. Он сидит за обеденным столом – правая рука движется, лепя шарики из хлебных крошек, – и смотрит на стену за спиной у матери, где висит картина, изображающая три семенные коробочки молочая в вазе. Отец тем временем объясняет, почему род человеческий обречен. На сей раз, как выясняется, из-за изобретения инсулина. Теперь диабетики не умирают, как раньше, а живут долго и передают диабет своим детям. Скоро по закону геометрической прогрессии все люди на земле станут диабетиками, а поскольку инсулин добывают из коровьих желудков, весь мир – те части, что еще не заняты людьми, которые, кстати говоря, тоже размножаются как попало, – покроется стадами коров для производства инсулина. Коровы отрыгивают метан. В атмосфере уже слишком много метана, он вытеснит весь кислород и, возможно, превратит земной шар в гигантскую теплицу. Полярные шапки растают, и Нью-Йорк уйдет под воду, не говоря уже о других прибрежных городах. Еще надо беспокоиться из-за расширения пустынь и эрозии почв. Если даже нас не зарыгают до смерти коровы, мы вскоре обнаружим вокруг себя пустыню Сахара, бодро говорит отец, доедая мясной рулет.
Отец ничего личного не имеет против диабетиков или даже коров. Просто он любит прослеживать цепочки мыслей до логического завершения. Мать объявляет, что на десерт у нас кофейное суфле.
Когда-то брат сильнее заинтересовался бы судьбой рода человеческого. Теперь он говорит, что если Солнце превратится в сверхновую звезду, пройдет восемь минут, прежде чем мы об этом узнаем. Он смотрит на вещи в долговременной перспективе. Он имеет в виду, что мы все равно обуглимся, так какая разница – несколькими коровами больше или меньше? Брат все еще коллекционирует увиденных бабочек, но в остальном все дальше уходит от биологии. Если смотреть на мир в целом, человечество – лишь капля зеленой плесени на поверхности, говорит брат.
Отец ест кофейное суфле и слегка хмурится. Мать тактично наливает ему чаю. Я понимаю, что будущее рода человеческого – поле битвы, и Стивен только что выиграл очко, а отец проиграл. Проигрывает тот, кого судьба человечества волнует сильнее.
Теперь я знаю об отце больше, чем тогда: я знаю, что он хотел уйти воевать пилотом, но его не пустили – его работу сочли важной для фронта. Я еще не поняла, почему гусеницы почкоеда были важны для фронта, но, очевидно, были. Может, поэтому отец всегда и водит машину так быстро – хочет выйти на взлет.
Теперь я знаю, что он вырос на ферме в лесах Новой Шотландии, где не было ни водопровода, ни электричества. Поэтому он может построить что угодно и что угодно порубить: там, на ферме, все умели пользоваться топором и пилой. Отец окончил школу заочно, он сидел за кухонным столом и занимался при свете керосиновой лампы. Деньги на учебу в университете он заработал рубкой леса и чисткой кроличьих клеток. Когда-то он играл на скрипке на деревенских танцах. Ему было двадцать два года, когда он впервые услышал оркестр. Все это мне известно, но непостижимо. И еще я жалею, что знаю это. Мне хочется, чтобы мой отец был просто отцом, каким был всегда, а не отдельным от меня человеком с собственной биографией, достойной мифа. Если знаешь слишком много о других людях, оказываешься в их власти – они могут заявить на тебя права, обязать тебя понимать причины их поступков, и ты становишься уязвимым.
Я жестоковыйно отворачиваюсь от грядущей участи человеческого рода и начинаю считать в уме, сколько мне нужно скопить денег, чтобы купить новый свитер из натуральной шерсти. На уроках «домашней экономики», где на самом деле учат шить и готовить, я научилась втачивать молнию и делать шов «в замок». Теперь я многое шью себе сама, так дешевле. Правда, вещи моей работы не всегда выглядят так, как на обложке выкройки. От матери в этом деле мало помощи – что бы я ни надела, если оно не рваное, она неизменно говорит, что я выгляжу просто замечательно.
Я прибегаю к советам миссис Файнштейн, соседки, с чьим ребенком я сижу по выходным.
– Тебе очень идет синий, миленькая. И мареновый. Ты будешь чудо как хороша в мареновом.
Потом она уходит на весь вечер с мистером Файнштейном – волосы у нее уложены в высокую прическу, рот ярко-алый, она идет, чуть пошатываясь, в маленьких туфельках на высоченном каблуке, в звенящих браслетах и качающихся золотых серьгах. А я читаю Брайану Файнштейну книжку про маленький паровозик и укладываю его спать.
Иногда мы со Стивеном, как в детстве, моем вместе посуду, и тогда он вспоминает, что он мой брат. Я мою, он вытирает и задает мне тоном доброго дядюшки благосклонные снисходительные вопросы, которые меня бесят. Например, как мне нравится в девятом классе. Сам он в одиннадцатом, неизмеримо выше меня. Совершенно незачем лишний раз тыкать меня в это носом.
Но иногда в эти посудомойные вечера он открывает, как мне кажется, краешек своей души. Он рассказывает, какие клички носят учителя в его школе. Все они грубые, например, Подмышка или Человек-Табуретка. Иногда мы вместе изобретаем новые ругательства, загадочно-непристойные.
– Фрюха, – говорит он.
– Пвать, – парирую я и добавляю, что это глагол. Мы сгибаемся пополам от смеха и падаем на кухонные столы. Наконец в кухню входит мать и спрашивает:
– Чем это вы, дети, тут занимаетесь?
Иногда брат решает, что его долг – меня развивать. Он, похоже, невысокого мнения о большинстве девочек и не хочет, чтобы я выросла такой же. Не хочет, чтобы я была пустоголовой вертушкой. Он боится, что я стану тщеславной. По утрам он приходит к дверям ванной комнаты и спрашивает, способна ли я отлепиться от зеркала.
Он считает, что я должна развивать свои мозги. Чтобы помочь мне в этом, он изготавливает ленту Мёбиуса – вырезает длинную полосу бумаги, перекручивает и склеивает. У ленты Мёбиуса только одна сторона – это можно проверить, проведя пальцем по ее поверхности. По словам Стивена, это помогает представить себе бесконечность. Он рисует для меня бутылку Клейна, у которой нет внутренней и наружной сторон – точнее, ее внутренняя сторона совпадает с наружной. Бутылку Клейна труднее уложить в голове, чем ленту Мёбиуса – вероятно, потому, что она называется бутылкой, а мне сложно представить себе бутылку, не предназначенную для того, чтобы наливать в нее что-нибудь. Я не понимаю, какой тогда в ней смысл.
Стивен рассказывает, что интересуется проблемами двумерных вселенных. Он просит меня представить себе, как выглядела бы трехмерная вселенная для идеально плоского существа. Если трехмерный человек находится в двумерной вселенной, ее жители будут воспринимать его только в точках пересечения – как два овала, два двумерных сечения ног. Бывают и пятимерные вселенные, и семимерные. Я изо всех сил пытаюсь их вообразить, но не могу пойти дальше трех измерений.
– Почему трех? – спрашивает Стивен. Это его любимый прием – задавать мне вопросы, на которые у него уже есть ответ, или есть ответ иной, чем у меня.
– Потому что их только три, – отвечаю я.
– Ты хочешь сказать, что мы воспринимаем только три измерения, – говорит он. – Мы ограничены возможностями нашего собственного восприятия. Как, по-твоему, видит мир муха?
Я знаю, как видит мир муха. Я неоднократно разглядывала мушиные глаза под микроскопом.
– Фасеточно, – отвечаю я. – Но все равно каждая фасетка воспринимает только три измерения.
– Ты права, – говорит Стивен, и я чувствую себя взрослой, достойной этой беседы. – Но на самом деле мы воспринимаем четыре.
– Четыре?
– Время тоже измерение, – объясняет он. – Оно неотделимо от пространства. Мы живем в пространстве-времени.
Он говорит, что не существует четко очерченных объектов, сохраняющих неизменность независимо от течения времени. Он говорит, что пространство-время искривлено, и в искривленном пространстве-времени кратчайшее расстояние между двумя точками – не прямая, а кривая, следующая этому искривлению. Он говорит, что время можно растянуть или сжать и что в некоторых местах оно бежит быстрее, чем в других. Он говорит, что, если взять идентичных близнецов и посадить одного в очень быструю ракету на неделю, он вернется и обнаружит, что брат теперь старше его на десять лет. Я говорю, что, наверно, это будет очень печально.
Брат улыбается. Он говорит, что вселенная подобна воздушному шару, на котором нарисовали точки и стали его надувать. Точки – это звезды; они со временем становятся все дальше и дальше друг от друга. Он говорит, что по-настоящему интересный вопрос – какова наша вселенная: бесконечная и неограниченная или бесконечная, но ограниченная, как воздушный шар. Но воздушный шар вызывает у меня мысли только о взрыве, который произойдет, когда шар лопнет.
Брат говорит, что пространство – это в основном пустота и что материя на самом деле не сплошная. Это просто кучка разрозненных атомов, движущихся с большей или меньшей скоростью. И вообще материя и энергия – это разные аспекты одного и того же. Как будто все сделано из затвердевшего света. Стивен говорит, что знай мы достаточно, мы могли бы проходить сквозь стены, словно они из воздуха. Знай мы достаточно, мы могли бы двигаться быстрее света, и в этой точке пространство станет временем, а время – пространством и можно будет путешествовать во времени, вернуться обратно в прошлое.
Это первая из его идей, которая меня по-настоящему заинтересовала. Я бы хотела посмотреть на динозавров и на многое другое, в том числе на древних египтян. С другой стороны, в этой концепции есть что-то пугающее. Я не уверена, что мне хочется путешествовать в прошлое. Еще я не уверена, что хочу так впечатляться словами Стивена. Это дает ему слишком большое преимущество. И вообще нормальные люди не ведут подобных речей. Они звучат как отрывок из комикса – из тех, где изобретают лучевую пушку.
И потому я говорю:
– А какой в этом смысл?
Он улыбается:
– Если мы научимся это делать, то будем знать, что это возможно.
Я говорю Корделии, что, по словам Стивена, мы могли бы проходить сквозь стены, если бы знали достаточно. Я лишь одну из его идей способна пересказать. Остальные слишком сложны для меня или слишком причудливы.
Корделия смеется. Она говорит, что мой брат мозговитый и что не будь он таким милым, он был бы катышком.
Стивен устраивается работать на лето – ведет кружок гребли на каноэ в лагере для мальчиков. Я никуда не устраиваюсь, мне только тринадцать лет. Я еду с родителями на север, в окрестности Су-Сент-Мари, где отец наблюдает за экспериментальной колонией гусениц коконопрядов в клетках, затянутых сеткой.
Стивен пишет мне письма карандашом на страницах, вырванных из линованных рабочих тетрадей. В письмах он высмеивает все, на что глаз упадет, в том числе других вожатых лагеря и девушек, за которыми они гоняются в свободное время. Он описывает этих вожатых – с вулканическими прыщами, с клыками, торчащими изо рта, свисающими языками, как у псов, и глазами, скошенными от перманентного поглупения, вызванного присутствием девушек. Это наводит меня на мысль, что я обладаю определенной властью, или буду обладать. Я ведь тоже девушка. Я хожу рыбачить – в основном для того, чтобы было о чем написать брату. Кроме этого мне почти не о чем рассказывать.
Корделия пишет настоящими чернилами, черными. Ее письма полны прилагательных в превосходной степени и восклицательных знаков. Она ставит над i вместо точек маленькие кружочки, похожие на глаза сиротки Энни из комикса или на пузырьки. В конце она приписывает что-нибудь вроде «Жду ответа, как соловей лета».
«Как мне скучно!!!» – пишет она, подчеркнув последнее слово трижды. Она, кажется, даже скучает с энтузиазмом. И все же ее восторженность – наигранная. Иногда я вижу ее, когда она думает, что я на нее не смотрю: ее лицо становится неподвижным, далеким, бездумным. Как будто внутри никого нет. Но она тут же поворачивается ко мне и хохочет: «Правда, просто прелесть, когда они вот так закатывают рукав и суют внутрь сигаретную пачку? Для этого нужно иметь бицепс!» И все сразу становится как обычно.
Мне кажется, что я считаю дни до окончания срока. Я плаваю в имеющемся озере, ем изюм и крекеры, густо намазанные арахисовой пастой и медом, читаю детективные романы и дуюсь, потому что рядом нет ни одного моего сверстника. Неизменная бодрость родителей меня не утешает. Может, мне даже легче было бы, будь они мрачны, как я, или даже мрачнее; тогда я чувствовала бы себя обыкновеннее.
IX. Проказа
Уже ближе к полудню меня будит телефонный звонок. Это Чарна.
– Привет! – говорит она. – Мы попали в раздел «Культура»! И в статье три – можете пересчитать – три фотографии! Это просто круть!
Я вздрагиваю при мысли о том, как она представляет себе круть. И что значит «мы»? Но она довольна: меня повысили, вместо раздела «Жизнь» я теперь в «Культуре». Это хороший знак. Я вспоминаю свои былые идеи о бессмертии творца. Тогда я хотела достичь славы Леонардо да Винчи. Теперь меня засунули между рок-группами и новым фильмом. Искусство – это то, что сходит тебе с рук, сказал кто-то там. Это звучит так, словно искусство – что-то вроде краж в магазинах или другое мелкое преступление. А может, так оно и есть: искусство было и остается чем-то сродни воровству. Вооруженный захват визуального.
Я знаю, что ничего хорошего про меня не написали. Но любопытство побеждает. Я одеваюсь и спускаюсь на улицу в поисках ящика с газетами. Мне хватает выдержки не открывать газету сразу, а подождать до возвращения в квартиру.
Заголовок гласит: «СВАРЛИВАЯ ХУДОЖНИЦА ВСЕ ЕЩЕ СПОСОБНА ВОЗМУЩАТЬ СПОКОЙСТВИЕ». Я подмечаю: «художница» вместо «живописец», многозначительное «все еще» – намек, что я в шаге от старческого маразма. Андреа, инженю с прической-желудем, со мной расквиталась. Я удивлена, что она использовала старомодное словечко «сварливая». Оно напоминает о сварах и о сваренном обеде, то и другое подходит по смыслу. Но, вероятно, заголовок придумывала не она.
Фотографий в самом деле три. На одной – моя голова, снятая чуть снизу, так что кажется, будто у меня двойной подбородок. На других двух – картины. Миссис Смиитт, совершенно голая, тяжело летит по воздуху. Вдали виден церковный шпиль с луковицей. К спине миссис Смиитт прилеплен, как клоп-солдатик, мистер Смиитт, у обоих блестящие коричневые насекомые-крылья, изображенные в масштабе и тщательно выписанные. «Жучила. Благовещение» – гласит подпись к картине. На другой миссис Смиитт одна, с ножом, сточенным до полумесяца, и очищенной картофелиной. Она обнажена от талии вверх и от бедер вниз. Это картина из серии «Имперские панталоны». Фотографии неудачные, поскольку черно-белые. На них картины выглядят как поляроидные снимки. Я-то знаю, что на самом деле панталоны миссис Смиитт – интенсивного синего цвета, над которым я трудилась несколько недель. Они словно источают темный, удушливый свет.
Я пробегаю первый абзац статьи: «Выдающаяся художница Элейн Ризли вернулась в Торонто, свой родной город, к открытию ретроспективной выставки своих работ, которую давно пора было устроить». «Выдающаяся» – слово из эпитафии. Осталось только улечься на мраморную плиту и накрыться простыней. Меня цитируют – как обычно, искажая мои слова. Мой костюм тоже не обошелся без комментариев: «Элейн Ризли, на вид совершенно безобидная, в поношенном голубом тренировочном костюме, способна, однако, на едкие и намеренно провокационные высказывания в адрес современных женщин».
Я втягиваю в себя кофе и перехожу сразу к последнему абзацу: неизбежное «эклектический», обязательное «постфеминизм», «однако» и «несмотря на». Старый добрый Торонто с его предосторожностями и оговорками. Я бы предпочла открытую перестрелку, чтобы клочки летели, серу и адский пламень. Тогда я, по крайней мере, знала бы, что еще жива.
Я мстительно думаю о торжественном открытии выставки. Может, мне стоит поступить намеренно провокационно, подтвердить их худшие подозрения? Надеть что-нибудь из спецэффектов работы Джона – обгорелое лицо с одним ободранным, заплывшим кровью глазом, пластмассовую руку, из которой брызжет кровь. Или сунуть ноги в полые слепки ступней и ввалиться в галерею, как персонаж фильма про безумного ученого.
Я ничего такого не собираюсь делать, но перебор возможностей меня утешает. Всё происходящее как бы отдаляется, сводится к фарсу или розыгрышу, в котором я не участвую – только высмеиваю его.
Корделия увидит статью в газете и, может быть, посмеется. Хотя ее нет в телефонной книге, она должна быть где-то здесь, в городе. На нее это похоже – сменить фамилию. А может, она вышла замуж. Может, даже не один раз. Женщин, как правило, трудно искать. Они ускользают в чужое имя и исчезают в глубинах.
В любом случае она увидит статью. Узнает миссис Смиитт и хорошенько повеселится. Она поймет, что это я, и придет. Войдет и увидит себя – с подписью, с датой, в раме, на стене. Ее нельзя ни с кем спутать: длинная линия челюсти, кривоватая губа. На картине она изображена в комнате, одна; стены комнаты окрашены пастельно-зеленым.
Это единственная из моих картин, где есть Корделия – Корделия сама по себе. Картина называется «Половина лица». Название странное, ведь лицо изображено целиком. Но за спиной у нее, на стене, наподобие ренессансных медальонов или звериных голов – лосей, медведей, – какие раньше попадались в барах на севере, висит другое лицо, накрытое белой тканью. Кажется, что это театральная маска. Возможно, и так.
Эта картина мне далась нелегко. Трудно было зафиксировать Корделию в один момент времени, в одном возрасте. Я хотела изобразить ее тринадцатилетнюю и этот вызывающий, почти воинственный взгляд. «И?»
Но глаза меня подвели. В этих глазах нет силы; они придают лицу неуверенное, колеблющееся выражение. В них виден упрёк. Испуг.
На этой картине Корделия боится меня.
Я боюсь Корделию.
Я не боюсь увидеть Корделию. Я боюсь стать Корделией. Потому что в каком-то смысле мы с ней поменялись местами, но я забыла, когда.
Лето кончилось, и я пошла в десятый класс. Я все еще младше и ниже всех, но я выросла. Точнее, у меня выросла грудь. Еще у меня теперь бывают месячные, как у всех нормальных девочек; я посвящена в тайну, я тоже могу сидеть на скамейке во время игр в волейбол, ходить к медсестре за аспирином и ковылять по коридорам, зажав между ногами, словно сплющенный заячий хвост, прокладку, пропитанную кровью цвета печенки. В этом есть свои плюсы. Я брею ноги – брить там почти нечего, но мне приятна эта процедура. Я сижу в ванне и вожу бритвой по икрам – мне хотелось бы, чтобы они были толще, выпуклее, как у чирлидерш. Брат тем временем бормочет под дверью:
– Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?
– Пошел вон, – безмятежно говорю я. Теперь у меня есть на это право.
В школе я молчалива и бдительна. Я делаю все уроки. Корделия выщипывает брови в две тонкие ниточки, еще тоньше, чем у меня, и красит ногти лаком «Лед и пламя». Она теряет разные вещи – например, гребенки, а еще – домашнее задание по французскому. Она пронзительно хохочет в коридорах. Она выдумывает новые, затейливые ругательства, например «анальное отверстие представителя семейства псовых» (это значит «собачья жопа») или «экскременты могущественного сверхъестественного высшего существа» («срань господня»). Она начинает курить, и ее ловят за этим занятием в туалете для девочек. Учителя, должно быть, ломают голову – почему мы с Корделией дружим, что нас объединяет.
Сегодня, когда мы возвращаемся из школы, идет снег. Огромные мягкие хлопья, как холодные мотыльки, падают, лаская нам щеки. Мы с Корделией в приподнятом настроении. Мы скачем по тротуару в сумерках, а мимо проплывают машины, приглушенные и замедленные снегом. Мы поём:
- Запомните имя
- Лидии Пинкем,
- Чьи снадобья жёнам здоровье дарят!
Эта песенка – из рекламы, которую крутят по радио. Мы не знаем, что такое снадобья Лидии Пинкем, но всё, что предназначено для «жён», имеет отношение к месячным или еще чему-нибудь такому, о чем не принято говорить. Так что эта песенка нас смешит. Еще мы поём:
- Проказа,
- В стакан упали оба глаза,
- Такая страшная зараза…
Или:
- Ты отдала мне руку и сердце,
- Я в холодильник их положил…
Мы поем эти и другие переделки популярных песен, которые кажутся нам очень остроумными. Мы бежим и скользим в резиновых сапогах с подвернутым верхом, лепим снежки и кидаемся в фонарные столбы, пожарные гидранты, даже в проезжающие машины и – настолько близко, насколько смелости хватает – в прохожих на тротуаре, это в основном женщины, которые выгуливают собак или идут с сумками из магазина. Чтобы скатать снежок, надо положить учебники на землю. Мы бросаем не метко и почти всегда промахиваемся. Только один раз мы по ошибке попадаем в женщину в меховой шубе, со спины. Она оборачивается и сердито смотрит на нас, и мы убегаем – за угол, на боковую улицу, – так хохоча от ужаса и неловкости, что едва держимся на ногах. Корделия бросается навзничь на заснеженный газон.
– Дурной глаз! – взвизгивает она.
Мне почему-то неприятно смотреть, как она лежит в снегу, раскинув руки.
– Вставай, – говорю я. – Схватишь воспаление легких.
– И? – отвечает Корделия, но встает.
Зажигаются фонари, хотя еще не темно. Мы доходим до того места, где на другой стороне дороги начинается кладбище.
– Помнишь Грейс Смиитт? – спрашивает Корделия.
Я отвечаю «да». Я в самом деле ее помню, но нечетко, с пробелами. Я помню, какая она была, когда мы только познакомились, и потом – в яблоневом саду, в венке из цветов; и еще потом, гораздо позже, когда она была в восьмом классе и готовилась уйти в другую школу. Я даже не знаю, в какую школу она перешла. Я помню ее веснушки, ее улыбочку, ее жесткие косы, словно из конского волоса.
– Они экономили туалетную бумагу, – говорит Корделия. – Четыре квадратика на раз, даже если идешь по-большому. Ты знала?
– Нет, – отвечаю я. Но мне кажется, что когда-то я и впрямь об этом знала.
– А помнишь черное мыло, которым они пользовались? Помнишь? Оно пахло гудроном.
До меня доходит, что мы сейчас делаем: мы высмеиваем семью Смииттов. Корделия помнит про них много всего: серое белье, капающее с веревки в подвале, овощной нож, сточенный до узкой полоски, зимние пальто из итоновского каталога. Согласно Корделии, одежду следует покупать в универмаге «Симпсона». Туда мы теперь ездим в субботу утром, с непокрытой головой, трясясь в трамвае, идущем в центр, одну остановку за другой. А выписывать товары по итоновскому каталогу – еще хуже, чем отовариваться в универмаге Итона.
– Семейство Бух-Бух! – вопит Корделия в воздух, пронизанный снежными хлопьями. Это жестоко и вместе с тем метко; мы фыркаем от смеха. – Что ест на ужин семейство Бух-Бух? Жилы от мяса!
Игра идет полным ходом. Какого цвета у них нижнее белье? Цвета рубероида. Почему у миссис Бух-Бух на лице пластырь? Она порезалась, когда брилась. Можно сказать о них, выдумать про них все, что угодно. Они беззащитны, они в нашей власти. Мы представляем себе, как муж и жена Бух-Бух занимаются любовью, но это уже слишком, невообразимо, тошнотворно. Тошнотворно – это новое словечко, мы его подцепили от Утры.
– Что делает Грейс Бух-Бух для развлечения? Выдавливает прыщи! – Корделия так хохочет, что складывается пополам и чуть не падает. – Хватит, хватит, я сейчас описаюсь!
Она говорит, что прыщи у Грейс появились в восьмом классе; а теперь их должно быть еще больше. Это не выдумка, а правда. Мы смакуем мысль о прыщах Грейс.
Смиитты в нашей версии – полностью лишенные обаяния, скупые, тяжелые, как сырое тесто, скучные, как белый маргарин, который они, по нашим словам, едят на десерт. Мы высмеиваем их набожность, их мелочную экономию, размеры их ног, их фикус, в котором они отразились целиком. Мы говорим о них в настоящем времени, будто все еще с ними знакомы.
Игра дарит мне глубокое наслаждение. Я не могу объяснить подобную жестокость со своей стороны; не спрашиваю себя, отчего эта игра мне так приятна или зачем Корделия ее затеяла, почему настаивает, чтобы мы в нее играли, взбадривает ее снова, когда игра начинает сходить на нет. Корделия косится на меня, словно оценивая, как далеко – насколько дальше – я могу зайти в этом, как мы обе понимаем, низком предательстве. Я еще раз мельком представляю себе Грейс – она исчезает в дверях своего дома, на ней юбка с лямками и свитер в катышках. Мы все ее обожали. Но теперь – нет. И в нынешней версии, версии Корделии, этого никогда и не было.
Мы бежим по улице под снегом, открываем калитку кованого железа в ограде кладбища и входим. Мы здесь первый раз.
Этот конец кладбища еще не совсем освоен. Здешние деревья – пока лишь саженцы; без листьев они кажутся еще более временными. Земля в основном нетронута, но кое-где на ней шрамы вроде следов гигантских когтей, ямы, что-то раскопано. Надгробных камней мало, и они новые: продолговатые блоки гранита, отполированные до пресвитерианского блеска, буквы сугубо утилитарные, без каких-либо попыток их приукрасить. Они напоминают мне мужские плащи.
Мы идем среди этих надгробий, показывая, какие из них – самые серые, самые нелепые – могло бы выбрать семейство Бух-Бух, чтобы похоронить кого-то из своих. Отсюда через сетку-рабицу забора видны дома на другой стороне улицы. В одном из них живет Грейс Смиитт. Мне странна и необъяснимо приятна мысль о том, что Грейс, может быть, сейчас дома, в обычной на вид кирпичной коробке с белыми столбиками крыльца, и понятия не имеет, что мы о ней говорим. Миссис Смиитт, возможно, тоже дома – лежит на бархатном диване, накрывшись пледом; я помню, что у нее было такое обыкновение. Фикус стоит на лестничной площадке, он не сильно вырос. Фикусы растут очень медленно. А вот мы выросли, и дом кажется нам меньше.
Впереди простирается кладбище – многие акры кладбища. Овраг у нас сейчас слева, там виднеется краешком новый бетонный мост. Я мельком припоминаю старый мост и ручей под ним; наверно, сейчас прямо у нас под ногами растворяются мертвецы, превращаются в воду, холодную и прозрачную, и текут под гору. Но я тут же об этом забываю. Я говорю себе, что на кладбище нет никаких ужасов. Оно для этого чересчур практично, чересчур безобразно, чересчур аккуратно. Оно похоже на кухонную полку, куда убирают всё подряд.
Несколько минут мы идем молча, не зная, куда направляемся и зачем. Деревья становятся выше, а надгробия – старее. Теперь нас окружают кельтские кресты, изредка попадаются ангелы.
– Как нам отсюда выбраться? – спрашивает Корделия с нервным смешком.
– Если пойдем дальше в эту сторону, то наткнемся на дорогу. Слышишь, машины шумят.
– Мне надо сигу, – говорит она. Мы находим скамейку и садимся, чтобы Корделия могла освободить обе руки, прикрыть сигарету от ветра и зажечь. На ней нет ни перчаток, ни платка. Зажигалка у нее маленькая, черная с золотом.
– Посмотри-ка, это домики мертвецов, – говорит она.
– Мавзолеи, – знающим тоном отвечаю я.
– Семейный мавзолей Бух-Бухов, – она пытается взбодрить напоследок все ту же тему.
– У них не может быть мавзолея. Для них это слишком шикарно.
– «Итон», – читает Корделия. – Это, наверно, те самые, чей магазин, шрифт такой же. Здесь покоятся каталоги Итона.
– Мистер и миссис Каталог!
– Интересно, надето ли на них корректирующее белье, – Корделия затягивается. Мы пытаемся воскресить былую веселость, но не получается. Я думаю про Итонов, обоих (а может, их там больше), убранных в хранилище – словно они шуб или золотые часы, – в свою личную усыпальницу, и эта мысль еще странней оттого, что мавзолей Итонов стилизован под древнегреческий храм. Как именно они лежат внутри? На помостах? В саркофагах под каменными крышками, заросшими паутиной, как рисуют в комиксах-ужастиках? Я думаю об их драгоценностях, сверкающих в темноте, – конечно, на них надеты драгоценности, – и об их длинных сухих волосах. После смерти у трупа растут волосы. И ногти. Я не знаю, откуда мне это известно.
– Между прочим, миссис Итон на самом деле вампир, – врастяжечку произношу я. – Она выходит по ночам. Одетая в длинное белое бальное платье. Вот эта дверь со скрипом открывается, и она выходит.
– Пить кровь Бух-Бухов, которые слишком поздно гуляют по улицам, – с надеждой подхватывает Корделия, гася окурок.
Я не присоединяюсь к веселью.
– Нет, серьезно. Выходит. Я знаю.
Корделия испуганно смотрит на меня. Падает снег, сумерки, на кладбище никого, кроме нас.
– Да? – спрашивает она, ожидая услышать шутку.
– Да. Иногда мы с ней выходим вместе. Потому что я тоже вампир.
– Неправда, – Корделия встает, отряхивает снег. Неуверенно улыбается.
– Откуда ты знаешь? Почему ты так уверена?
– Ты же ходишь днем, – говорит она.
– Это не я. Это моя сестра-близнец. Ты просто не знаешь, что я – одна из двух близнецов. Идентичных – на вид нас не отличить. И вообще мне надо прятаться только от солнца. В такие дни, как сегодня, я могу ходить свободно. У меня есть гроб, наполненный землей, я в нем сплю. Он внизу, в… в… в… – я лихорадочно соображаю, где он может быть, – в подвале.
– Ты просто дурачишься, – говорит Корделия.
Я тоже встаю.
– Дурачусь?! – я понижаю голос. – Я правду говорю. Ты моя подруга, и я решила, что должна открыть тебе правду. Я на самом деле мертвая. Я мертва уже много лет.
– Ну, кончай играть, – резко отвечает Корделия. Я удивлена тем, как приятна ее неуверенность, моя власть над ней.
– Во что играть? Я вовсе не играю. Но тебе не о чем беспокоиться. Я не буду пить твою кровь. Ты моя подруга.
– Не вредничай, – говорит Корделия.
– Сейчас нас запрут на кладбище.
До обеих доходит, что это может быть чистой правдой. Мы несемся по дорожке, задыхаясь и хохоча, и находим ворота, которые, к счастью, все еще открыты. За ними шумит Янг-стрит, полная машин: час пик.
Корделия хочет показать, какие из машин принадлежат семейству Бух-Бух, но мне уже надоело. У меня своя, более ощутимая, более злонамеренная причина торжествовать: между нами проскочил силовой разряд, и я оказалась сильнее.
Я уже в одиннадцатом классе и догнала по росту многих девочек – то есть я еще не очень высокая. Я ношу темно-серую юбку-карандаш, в которой трудно ходить, хотя в ней заложена встречная складка, и свитер с рукавом «летучая мышь», красный в серую полоску переменной ширины. У меня широкий черный эластичный пояс, туго стягивающий талию, с золоченой пряжкой, и бархатные балетки, которые трутся друг о друга, когда я хожу, и выпирают в стороны. У меня короткий жакет, который я ношу с юбкой-карандашом. Таков модный силуэт: квадратный и расширенный сверху, на длинном узком стебле из бедер и ног. У меня злой язык.
Я даже знаменита своим злоязычием. Я не пускаю его в ход, пока меня не трогают, но когда это случается, я открываю рот, и из него вылетают короткие комментарии, полностью уничтожающие противника. Мне даже не приходится их выдумывать – они возникают сами, как облачка мысли с зажигающейся лампочкой в комиксах. «Не будь болячкой» и «Рыбак рыбака видит издалека» – стандартные отповеди у девочек, но я иду гораздо дальше. Я не стесняюсь сказать «болячка на заднице», что противно правилам хорошего тона, и прибегаю к собственным сокрушительным изобретениям, таким как «ходячий прыщ» и «вонючая подмышка». Если девочка называет меня мозговитой, я парирую: «Лучше быть мозговитой, чем безмозглой, как ты».
– Ты что, голову маслом намазала? – спрашиваю я. Или: – Не соси, когда разговариваешь!
Я знаю, где слабые места. «Сосать» – особенно удачное слово, особенно убийственное. Его обычно говорят мальчишки друг другу. У меня оно вызывает ассоциации с младенцами и пальцами. Я пока не исследовала вопрос, что еще можно сосать и при каких обстоятельствах.
Девочки в школе уже знают про мое ядовитое жало и умеют его избегать. Я хожу по коридорам, окруженная аурой опасных слов, и ко мне относятся с опаской, что меня вполне устраивает. Как ни странно, из-за того, что я такая вредная, у меня становится не меньше, а больше подруг – во всяком случае, с виду. Девочки меня боятся, но знают, где самое безопасное место: у меня за спиной, на полшага позади. «С Элейн ужасно весело, она такая остроумная», – говорят они без особой убежденности. Некоторые девочки уже собирают фарфор и домашнюю утварь, они завели себе сундуки для приданого. Подобные штуки меня смешат и вызывают презрение. И все же мне бывает неприятно, если я случайно обижаю кого-то. Я хочу, чтобы все наносимые мною обиды были намеренными.
У меня нет возможности испытать свой злой язык на мальчишках, поскольку они не говорят мне ничего провокационного. Кроме Стивена. Теперь мы с ним перекидываемся гадостями, у нас это вроде игры. «Вот тебе». «А вот тебе». Как правило, я затыкаю ему рот вопросом: «Кто тебя стриг? Газонокосильщик?» Стивен трепетно относится к своей прическе. А иногда, если он весь расфуфыренный, в форме своей частной школы: «Ты выглядишь как амбассадор универмага Симпсона». Амбассадоры Симпсона – это мальчики-подлизы, которые на официальном ежегодном фото класса позируют в блейзерах с вышитым на кармане гербом, выглядят очень чистенькими и аккуратными и рекламируют универмаг Симпсона.
– Ваш острый язык когда-нибудь доведет вас до беды, мадам, – говорит отец. Слово «мадам» означает, что я слишком близко подошла к какому-то краю, оно затыкает мне рот, но лишь ненадолго. Я научилась получать удовольствие от риска, от головокружения, которое настигает, когда понимаешь, что вышла за пределы допустимого. Что идешь по тонкому льду или по воздуху.
Больше всего от моего языка достается Корделии. Ей даже не нужно меня провоцировать, я на ней тренируюсь. Мы сидим на холме, откуда видно футбольное поле. Мы в джинсах, которые в школе разрешается носить только в дни футбольных игр. Слишком длинные отвороты джинсов подколоты английскими булавками для белья – это последний писк моды. Чирлидерши в юбочках до середины бедра скачут по полю, маша бумажными помпонами; они не длинноногие и золотые, как на обороте журнала «Лайф», а разноразмерные, разномастные и приземистые. Однако я все еще завидую их икрам. На поле выбегает футбольная команда.
– Ах, Грегори! – восклицает Корделия. – Настоящий качок.
– А мозгами – кабачок, – парирую я.
Корделия смотрит обиженно:
– А я считаю, что он красавчик.
– Красавчик – надень слюнявчик.
Когда Корделия говорит, что не стоит присаживаться на сиденья школьных унитазов, не протерев их, так как можно заразиться, я спрашиваю:
– Кто сказал? Твоя мамочка?
Я высмеиваю ее любимых певцов:
– Любовь, любовь, любовь. Они вечно стонут.
Я теперь яростно презираю чересчур бурные излияния чувств и «сопли». Я зову Фрэнка Синатру «поющий торт», а Бетти Хаттон – «живая шарманка». И вообще эти люди отстали от жизни. Сентиментальные нюни. Будущее за рок-н-роллом. «Сердца из камня» – это больше похоже на дело.
Иногда Корделия находится с ответом, но не всегда. Она говорит: «Это жестоко». Или высовывает язык из угла рта и меняет тему. Или закуривает.
Я сижу на истории, чертя каракули в тетради. Мы проходим Вторую мировую войну. Учитель обожает свой предмет. Он скачет перед доской, размахивая руками и указкой. Он коротышка с непослушной прядью волос и хромает. По слухам, он сам воевал. Он нарисовал на доске большую карту Европы белым мелом, а желтым пунктиром – границы между странами. Армии Гитлера наступают розовыми стрелками. Вот происходит аншлюс. Вот Гитлер захватывает Польшу. Вот сдается Франция. Я рисую тюльпаны и деревья, провожу линию почвы и тщательно прорисовываю все корневые системы. В Ла-Манше появляются подводные лодки – зеленые. Я рисую лицо девочки, сидящей через проход от меня. Начинается блиц, бомбы спускаются с неба, как зловещие серебряные ангелы, разрушают Лондон квартал за кварталом, дом за домом; каминные полки, печные трубы, супружеские ложа, вырезанные вручную и передаваемые из поколения в поколение, разлетаются на пылающие щепки, история превращается в осколки. «То был конец эпохи», – говорит учитель. Нам трудно это понять, говорит он, но ничто никогда уже не будет таким же. Видно, что он глубоко переживает. Очень неловко за него. «Таким же, как что?» – думаю я.
Мне с трудом верится, что я уже жила на свете, когда творились все эти очерченные мелом события. Все эти статистические смерти. Я жила на свете, когда женщины носили смешные наряды с подкладными плечами и утянутой талией, с баской, прикрывающей зад, словно фартук, надетый задом наперед. Я рисую женщину с широкими плечами и в широкополой шляпе. Я рисую собственную руку. Кисти – это труднее всего. Попробуй изобрази их так, чтобы не вышло похоже на связку сосисок.
Я гуляю с мальчиками. Я это не планирую, оно само получается. Мои отношения с мальчиками беспроблемны – это значит, что я не прикладываю никаких усилий. Это с девочками мне трудно, это от девочек я чувствую необходимость защищаться, а не от мальчиков. Я сижу у себя в спальне, срезая катышки с шерстяных свитеров, и тут звонит телефон. Это окажется очередной мальчик. Я выношу свитер в прихожую, где стоит телефон, сижу там на стуле, прижав трубку к уху плечом, и продолжаю срезать катышки, пока тянется разговор, состоящий во многом из пауз.
Паузы мальчикам необходимы по природе; их нельзя пугать обилием слов, произносимых слишком быстро. То, что мальчики говорят вслух, не так важно. Самое важное – в паузах между словами. Я знаю, чего хотим мы оба: сбежать. Он хочет сбежать от взрослых и других мальчиков. Я хочу сбежать от взрослых и других девочек. Мы ищем необитаемый остров – мимолетный, нереальный, но он существует.
Отец меряет шагами гостиную, звеня ключами и мелочью в карманах. Он нетерпелив, он поневоле слышит эти односложные восклицания, бормотания, паузы. Он выглядывает в прихожую и делает двумя пальцами «ножницы», имея в виду, что я должна оборвать разговор. «Мне надо идти», – говорю я. Мальчик издает звук, как будто воздух выходит из проколотой велосипедной шины.
Я многое знаю о мальчиках. Я знаю, что творится у них в голове, когда они смотрят на девушек и женщин. Они не могут признаться в этом другим мальчикам, да и вообще никому. Они боятся, что их тела – не такие, как у других, боятся сказать что-нибудь не то, боятся, что их осмеют. Я знаю, какие разговоры они ведут между собой в физкультурной раздевалке или куря украдкой за спортзалом. «Шибанутая мочалка», «сучка», «кошелка» – такими словами и даже хуже они называют девочек. Я не держу на них обиды за эти слова. Я знаю, они из того же ряда, что заспиртованные бычьи глаза и поедание соплей – мальчишки обязаны ими обмениваться, чтобы показать свою силу и стойкость. Если мальчик говорит такие слова, это не обязательно значит, что он не любит настоящих живых девочек вообще или одну настоящую живую девочку. Иногда настоящие живые девочки бывают альтернативой этим словам, иногда – их воплощением, а иногда лишь фоновым шумом.
Я не считаю, что какие бы то ни было из этих слов относятся ко мне. Они относятся к другим девочкам, которые расхаживают по школьным коридорам и ничего не знают об этих словах, встряхивают волосами, качают бедрышками, словно считают себя соблазнительными, говорят друг с другом слишком громко и беззаботно, никого этим не обманывая; или наоборот, ведут себя подчеркнуто невинно, как свежие от росы ромашки. И все это время их окружают облака безмолвных слов – «шибанутая мочалка», «сучка», «кошелка», – тычут в них пальцами, низводят, ставят на место, чтобы научить послушанию. С этими словами нужно уметь обращаться – проскакивать в паузы между ними, мысленно отражать их, уворачиваться от них. Примерно как ходить сквозь стены.
Все это я знаю о мальчиках вообще. Ничто из этого не относится к конкретным мальчикам, тем, с которыми я гуляю. Эти обычно старше меня, хотя не носят набриолиненных «утиных хвостов» и кожаной одежды. Они гораздо приятнее. Когда я куда-нибудь иду с ними, то должна возвращаться домой вовремя. Если я прихожу позже, отец ведет со мной долгие беседы, объясняя, что вернуться домой вовремя так же важно, как успеть на поезд. Если я не приду вовремя на вокзал, поезд уедет без меня, ведь верно?
– Но ведь дом – не поезд, – говорю я. – Он никуда не уедет.
Отец вне себя, он бренчит ключами в кармане:
– Дело не в этом!
– Мы беспокоимся, – объясняет мать.
– О чем? – спрашиваю я. С моей точки зрения, беспокоиться совершенно не о чем.
От моих родителей в этом, как и в других делах, толку никакого. Они не хотят покупать телевизор, хотя в других семьях телевизоры есть. Отец говорит, что телевизор превращает людей в идиотов, а кроме того, испускает опасные лучи, и еще по нему передают сообщения, действующие на подсознание. Когда за мной заходит очередной мальчик, отец возникает из подвала – в старой фетровой шляпе, с молотком или пилой в руке, – и сдавливает ему руку медвежьей хваткой. Он окидывает мальчика взглядом прищуренных проницательных глазок с хитринкой и называет его «сэр», словно одного из своих аспирантов. Мать изображает светскую даму и почти ничего не говорит. Или заявляет прямо при мальчике, что я сегодня прелестна.
По весне отец и мать, чтобы проводить меня, возникают из-за угла в мешковатых штанах, которые надевают для садовых работ. Родители тащат мальчика на задний двор, где у нас теперь лежит большая куча цементных блоков – отец сложил их туда на случай, если они как-нибудь потом пригодятся. Родители настойчиво демонстрируют мальчику клумбу ирисов, словно он пожилая дама; и он вынужден что-нибудь сказать про ирисы, хотя голова у него сейчас занята чем угодно, только не цветами. А иногда отец пытается втянуть мальчика в познавательную беседу на злобу дня или спрашивает, читал ли он то или это, и вытаскивает книги из шкафа, пока мальчик переминается с ноги на ногу. Потом мальчик неловко говорит мне: «А твой отец шутник».
Мои родители ведут себя как неуправляемые, чумазые, проказливые младшие братья и сестры, которые могут вдруг выпалить что-нибудь и поставить всю семью в неловкое положение. Я вздыхаю и делаю вид, что ничего особенного не происходит. Мне кажется, что я старше своих родителей. Много старше. Я чувствую себя древней старухой.
С мальчиками я не занимаюсь ничем таким, из-за чего стоит беспокоиться. Всё как у всех. Мы ходим в кино, где садимся в секцию для курящих и обжимаемся. Иногда мы ходим в кинотеатры для автомобилистов на открытом воздухе, едим попкорн и опять же обжимаемся. Существуют правила, которые регулируют обжимания: он посягает, она отталкивает, он посягает, она отталкивает. Пояс для чулок трогать не положено, лифчик тоже. И расстегивать молнии. Губы мальчиков отдают сигаретами и солью, а кожа пахнет лосьоном после бритья «Олд спайс». Мы ходим на танцы и крутимся под рок-н-роллы или медленно переступаем в синем свете среди других таких же пар. После формальных танцевальных вечеров мы идем к кому-нибудь домой или в ресторан «Сент-Чарльз», а потом обжимаемся, хоть и недолго – к этому времени мне обычно уже пора уходить. Для формальных танцевальных вечеров у меня есть особые платья, которые я шила сама, так как у меня нет денег их купить. У них многослойные тюлевые юбки на жестком кринолине, и я все время беспокоюсь, что крючки расстегнутся. У меня есть атласные туфли подходящего к платью цвета или с серебряными ремешками. Я надеваю клипсы, от которых адски болят мочки ушей. На эти танцевальные вечера мальчики присылают мне бутоньерки, которые я потом проглаживаю утюгом и держу в ящике стола: сплющенные гвоздики, побуревшие с краев бутоны роз, пучки мертвой растительности, словно коллекция засушенных голов, только из царства флоры, а не фауны.
Мой брат Стивен относится к этим мальчикам с презрением. Он считает, что они все идиоты и недостойны того, чтобы я воспринимала их всерьез. Он смеется над ними за глаза и коверкает их имена. Не Джордж, а Жоржик-Коржик; не Роберт, а Чмоберт. Стивен предлагает пари на то, сколько продержится тот или иной ухажер. «Этому я даю три месяца, – говорит он, увидев какого-нибудь мальчика в первый раз. Или: – Ну и когда ты собираешься его бросить?»
Я не обижаюсь на брата. Я ничего другого от него и не ожидаю, потому что он частично прав. Я не чувствую к этим мальчикам ничего такого, что чувствуют девочки в комиксах про истинную любовь. Я не томлюсь в ожидании звонка. Мне нравятся эти мальчики, но я в них не влюбляюсь. Описания томящихся влюбленных девушек в подростковых журналах – на каждой щеке по слезинке, словно жемчужные серьги, – ко мне совсем не подходят. В каком-то смысле отношения с мальчиками для меня несерьезное дело. Но отчасти – серьезное.
Часть, которую я воспринимаю всерьез, – это их тела. Я сижу в прихожей, зажав трубку плечом, и слушаю тело собеседника. Не столько его слова, сколько паузы – и в этих паузах их тела воссоздают себя заново, или я их создаю, они обретают форму. Когда я хочу видеть мальчика, это значит – я скучаю по его телу. Я изучаю их руки, подносящие сигареты к губам во тьме кинозала, наклон плеча, угол бедра. Я искоса разглядываю мальчиков при разном освещении. Моя любовь к ним визуальна: вот та часть их, которой я хотела бы владеть. «Не двигайся, – думаю я. – Замри. Подари мне это». Вся власть, какую имеет надо мной мальчик, действует через глаза. А когда он мне надоедает, эта усталость отчасти физическая, но также отчасти зрительная.
Это лишь в определенной степени имеет отношение к сексу; но некоторое – точно имеет. У одних мальчиков есть машины, а у других нет, и с ними я езжу на автобусах, на трамваях, на только что открывшемся метро – оно чистое, в нем никогда ничего не происходит, и оно похоже на длинный туалет, отделанный кафелем пастельных цветов. Мальчик провожает меня домой. Мы выбираем кружной путь. Пахнет сиренью, скошенной травой или горящими листьями, смотря по времени года. Мы идем по новому бетонному пешеходному мосту, над нами склоняются ивы, а внизу журчит ручей. Мы стоим на мосту в тусклом свете фонарей, опираясь спиной на перила – я обнимаю мальчика, а он меня. Мы задираем друг другу одежду и проводим рукой по спине – я чувствую, как напрягается его хребет, натянутый до звона, вот-вот лопнет. Я чувствую его тело по всей длине, в изумлении касаюсь его лица. Лицо мальчика так меняется, смягчается, открывается, жаждет. Тело – чистая энергия, отвердевший свет.
В овраге находят убитую девочку. Не в нашем, возле дома, а в другом ответвлении большого оврага, дальше на юг, мимо кирпичного завода, там, где река Дон, окаймленная плакучими ивами, заваленная мусором и грязная, лениво вьется по направлению к озеру. Никто не ожидает подобных происшествий в Торонто, где жители даже не запирают на ночь задние двери домов и задвижки оконных рам. Но, значит, такое все же случается. Об убийстве написали на первых полосах всех газет.
Девочка – моя ровесница. Ее велосипед нашли рядом с телом. Ее задушили, а также надругались над ней. Мы знаем, что значит «надругались». В газетах печатают ее прижизненные фотографии, они уже приобрели тот потусторонний вид, какой фотографии обычно принимают с годами. Это печать ушедшего времени, невозвратного, невосстановимого. В газетах публикуют подробное описание ее одежды. На ней был свитер из ангорки и меховая горжетка с помпонами – такие сейчас в моде. У меня нет горжетки, но мне хотелось бы ее иметь. У нее была белая, но бывают и из коричневой норки. На свитере она носила брошку в виде двух птичек с красными глазами— стеклышками. В общем, обычная школьная одежда. Я жадно впитываю все детали, но меня поражает несправедливость. Мне кажется ужасно нечестным, что можно в один прекрасный день выйти из дома в самой обыкновенной одежде, и тебя убьют без предупреждения, и потом все эти люди будут на тебя смотреть, обследовать. Убийство должно быть обставлено более торжественно.
Я давно уже решила, что в овраге нет никаких страшных мужчин. Я думала, что это лишь страшилка, сочиненная матерями. Но, похоже, они все-таки существуют, вопреки моим убеждениям.
Мысль об убитой девочке меня беспокоит. После того, как проходит первоначальный шок, никто в школе о ней не упоминает. Даже Корделия не хочет о ней говорить. Как будто эта девочка сама совершила что-то постыдное, допустив, чтобы ее убили. И за это ее отправили туда, куда отправляют всё, о чем нельзя говорить, – вместе со светлыми волосами, свитером из ангорки и всей ее обыкновенностью. Она всколыхнула во мне что-то, как ветер вздымает опавшие листья. Я вспоминаю про куклу, которая у меня когда-то была, – с белой меховой опушкой по подолу юбки. Я вспоминаю, как боялась этой куклы. Я не думала о ней много лет.
Мы с Корделией сидим за обеденным столом и делаем уроки. Я помогаю Корделии, пытаюсь объяснить ей, как устроен атом, но она отказывается воспринимать его всерьез. Ядро атома похоже на ягоду малины, а электроны с кольцами – на планету Сатурн. Корделия высовывает язык из угла рта и хмурится, глядя на ядро.
– Это похоже на малину, – говорит она.
– Корделия, – говорю я. – Экзамен завтра!
Молекулы ее не интересуют. Она никак не может взять в толк периодическую таблицу элементов. Она отказывается понимать, что такое масса. Она отказывается понимать, почему взрывается атомная бомба. У нас в учебнике физики есть картинка: взрыв, грибовидное облако и все такое. Для Корделии эта бомба ничем не отличается от любой другой.
– Масса и энергия – разные аспекты, – объясняю я. – Именно поэтому E=mc2.
– Все было бы проще, не будь Чистюля Перси таким мерзким, – говорит Корделия. Чистюля Перси – наш учитель физики. Он похож на дятла Вуди из мультика – у него такие же рыжие волосы дыбом. И еще он шепелявит.
В гостиную заходит Стивен, заглядывает нам через плечо.
– Неужели вам все еще втюхивают физику для малышей?! – негодующе восклицает он. – До сих пор рисуют атом похожим на малину?!
– Вот видишь! – говорит мне Корделия.
Я чувствую, что Стивен подрывает мой авторитет.