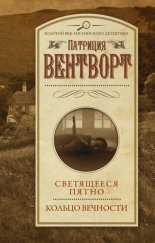Кошачий глаз Этвуд Маргарет
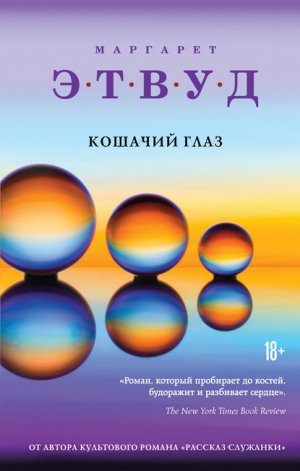
– А я и есть крупнее, – улыбаюсь я.
Андреа разглядывает мой пастельно-голубой тренировочный костюм. Сама она в черном – одобренном, гламурном черном, а не в обноске шестидесятых вроде моего выставочного платья. Волосы у нее красные, явно и совершенно беззастенчиво крашенные спреем, стриженные шапочкой, как у желудя. Она расстраивает меня своей молодостью: она кажется мне подростком, хоть я и понимаю, что ей должно быть двадцать с чем-то. А она, видимо, считает меня немолодым чучелом с заскоками, вроде своей школьной учительницы. Скорее всего, она хочет хорошенько оттоптаться на мне в своей статье. Скорее всего, ей это удастся.
Мы сидим напротив друг друга за письменным столом Чарны. Андреа ставит на стол фотоаппарат и во- зится с диктофоном. Она журналист в газете.
– Это для раздела «Жизнь», – говорит она. Я знаю, что скрывает под собой это название. Раньше этот раздел назывался «Для женщин». Забавно, что теперь он называется «Жизнь», как будто жизнь интересует только женщин, а другие разделы, например, спортивный, посвящены смерти.
– «Жизнь», говорите? У меня двое детей. Я пеку печенье.
Все это правда. Андреа злобно смотрит на меня и щелкает диктофоном.
– Как вы переносите славу? – спрашивает она.
– Это разве слава, – отвечаю я. – Декольте Элизабет Тейлор – вот это слава. А я – лишь прыщик на газетном листе.
Она ухмыляется:
– Ну хорошо, может быть, вы что-нибудь скажете о своем поколении художников… художниц, об их устремлениях, их целях?
– Вы имеете в виду живописцев. О каком поколении мы говорим?
– Ну, наверно, о поколении семидесятых. Именно тогда женщины… Тогда ваше творчество начало привлекать к себе внимание.
– Мое поколение – это не семидесятые, – говорю я.
Она улыбается:
– Ну ладно, а какое тогда?
– Сороковые.
– Сороковые? – для нее это все равно что античная археология. – Но тогда вы еще не…
– Я росла в сороковые, – объясняю я.
– А, понятно. Вы имеете в виду, что сороковые годы оказали на вас формирующее влияние. Вы не могли бы рассказать, как это отразилось в вашем творчестве?
– Цвета. Цвета в моих работах – это гамма сороковых годов. – Я начинаю смягчаться. Она хотя бы не говорит постоянно «типа» и «это». – Война. Есть люди, которые помнят войну, и те, которые не помнят. Это – точка водораздела, здесь проходит граница.
– Вы имеете в виду войну во Вьетнаме? – уточняет она.
– Нет, – холодно отвечаю я. – Вторую мировую.
Она слегка пугается, будто я только что воскресла из мертвых, причем не до конца. Она не знала, что я настолько стара.
– Итак, – говорит она. – В чем же разница?
– У нас выше устойчивость внимания. Мы доедаем всё, что нам положили на тарелку. Мы сохраняем веревочки. Мы обходимся тем, что есть.
Она удивлена. Я сказала о сороковых всё, что хотела. Я начинаю потеть. Я чувствую себя как у зубного врача, сижу с некрасиво открытым ртом, пока незнакомец с фонариком и зеркалом разглядывает у меня во рту что-то не видное мне самой.
Она бодро и ловко разворачивает беседу от войны опять на женский вопрос, который и интересует ее в первую очередь. Труднее ли приходится женщине, подвергалась ли я дискриминации, недооценивали ли меня? Как совмещать творчество и детей? Мои ответы ей нисколько не помогают: все художники считают, что их недооценивают. Можно рисовать, пока дети в школе. Мой муж просто замечательный, он меня всячески поддерживает, в том числе финансово. (Я не уточняю, какой по счету муж.)
– Значит, вы не считаете, что пользоваться поддержкой мужчины – это унизительно? – спрашивает она.
– Женщины все время поддерживают мужчин. Что плохого, если в кои-то веки поддержка пойдет в другую сторону?
Мои слова не совсем соответствуют тому, что она хочет услышать. Она предпочла бы возмутительные истории. Хотя в ее жизни наверняка ничего такого не было – она слишком молода. И все же людям моего возраста положено иметь в запасе возмутительные истории. Хотя бы оскорбления, унижения. Учителя-мужчины, щиплющие учениц, называющие их «детка», спрашивающие, почему не было великих художников среди женщин, и все такое. Она хотела бы видеть меня разгневанной и старомодной.
– А у вас были женщины-наставники? – спрашивает она.
– Женщины – кто?
– Ну, учительницы или другие женщины-художницы, чьим творчеством вы восхищались.
– А разве не следует говорить «наставницы»? – зловредно подмечаю я. – Нет, не было. Я училась у мужчины.
– Кто это был?
– Его звали Иосиф Хрбик. Он был очень добр ко мне, – торопливо добавляю я. Его история отлично уложилась бы в ее схему, но этого я ей рассказывать не собираюсь. – Он научил меня рисовать голых женщин.
Это выбивает ее из колеи:
– А как же… ну, знаете… феминизм? Ваше творчество многие считают феминистическим.
– Действительно, а как же феминизм. Я терпеть не могу ходить строем. Я не люблю, когда меня загоняют в гетто. И вообще, я слишком стара для изобретательницы феминизма, а вы слишком молоды, чтобы его как следует понимать.
– Значит, для вас эта терминология лишена смысла?
– Мне приятно, когда женщинам нравятся мои работы. Разве это не естественно?
– А мужчинам нравятся ваши работы? – коварно спрашивает она. Она явно подготовилась к этому интервью, знает мои картины с ведьмами и суккубами.
– Каким именно мужчинам? Мои работы нравятся не всем. Но не потому, что я женщина. Если кому-то не нравятся работы художника-мужчины, это не потому, что он мужчина. Они им просто не нравятся.
Я ступила на зыбкую почву, и меня это бесит. Голос у меня спокойный, но кофе кипит внутри.
Она хмурится, возится с диктофоном:
– Тогда зачем вы все время рисуете женщин?
– А кого мне рисовать, мужчин? Я живописец. Живописцы изображают женщин. Рубенс писал женщин. Ренуар писал женщин. Пикассо писал женщин. Все пишут женщин. Разве писать женщин – это что-то плохое?
– Но не так же, – говорит она.
– Как «так»? И вообще, почему мои женщины должны быть похожи на чьих-то еще?
Я ловлю себя на том, что ковыряю кожу на пальцах, и прекращаю. Еще минута – и у меня застучат зубы, как у мышей, загнанных в угол. Ее голос куда-то удаляется, я ее едва слышу. Но вижу предельно четко: рубчики на воротнике свитера, пушковые волоски на щеке, блеск пуговицы. Я слышу то, чего она не говорит вслух: «Ты одета, как чучело. Твои работы – говно. Сиди прямо, не сутулься и не смей дерзить».
– Зачем вы пишете картины? – спрашивает она, и я снова слышу ее абсолютно отчетливо. Слышу, как она теряет терпение из-за того, что я ей перечу.
– А зачем вообще люди что-то делают? – отвечаю я.
Теперь темнеет раньше; по дороге домой из школы мы проходим сквозь дым от горящих листьев. Идет дождь, и нам приходится играть в доме. Мы сидим на полу в комнате Грейс – сидим тихо, потому что у миссис Смиитт больное сердце, – вырезаем скалки и сковородки и клеим их вокруг своих бумажных дам.
Но Корделия быстро разбирается с этой игрой. Она догадывается, почти мгновенно, отчего у Грейс дома столько каталогов «Итона». Это потому, что Смиитты, вся семья, так покупают одежду – заказывают по итоновскому каталогу. Вот они все в разделе «Одежда для девочек» – клетчатые платья, юбки на лямках, зимние пальтишки, в которых ходят Грейс и ее сестры, из негнущегося, ноского сукна, с капюшонами, цветов «ирландский зеленый», «королевский синий» и «бордо». Корделия дает понять, что сама в жизни не надела бы пальто из итоновского каталога. Впрочем, явно она этого не говорит. Как и все мы, она хочет быть на хорошем счету у Грейс.
Она проскакивает кухонные принадлежности, листает страницы. Переходит к лифчикам, затейливо кружевным корсетам с эластичными вставками – «корректирующее белье», как это называется в каталоге, – и подрисовывает моделям усы. Модели выглядят так, словно их покрыли тонким слоем бежевой штукатурки. Корделия прибавляет им волос – под мышками, между грудями. Она читает вслух описания, фыркая от подавляемого смеха: «”Прелестная отделка тонким кружевом, с дополнительной поддержкой для зрелой фигуры”. Это значит – для больших буферов. Посмотрите, что тут написано – размер чашечки! Как чайные чашки!»
Груди завораживают Корделию и в то же время кажутся ей омерзительными. У ее старших сестер груди уже выросли. Утра и Мира сидят у себя в спальне, где две одинаковые кровати и все в муслиновых оборочках, подпиливают ногти и тихо смеются; или греют на кухне коричневый воск в кастрюльке и уносят к себе наверх, чтобы намазать на ноги. Они смотрятся в зеркало и делают унылые лица: «Я выгляжу как Старая Халда! У меня эти дела!» Из их корзинок для мусора пахнет умирающими цветами.
Сестры говорят Корделии, что ей кое-каких вещей не понять, она еще мала, а потом все равно ей про это рассказывают. Корделия открывает нам истину, понизив голос и округлив глаза: «эти дела» – это когда между ног идет кровь. Мы ей не верим. Она приносит вещественное доказательство: прокладку, стянутую из Утриной корзинки для мусора. На прокладке – бурая корка, вроде засохшей мясной подливки. «Это не кровь», – с отвращением говорит Грейс, и она права, это совершенно не похоже на то, что бывает, когда порежешь палец. Корделия негодует. Но доказать ничего не может.
Я до сих пор не думала о телах взрослых женщин. Но теперь они открываются в новом, пугающем свете: чуждые и гротескные, волосатые, пухлые, чудовищные. Мы околачиваемся вокруг комнаты, где Утра и Мира сдирают с ног восковые слои; они повизгивают от боли, а мы пытаемся подсмотреть через замочную скважину и хихикаем. Мы их стесняемся, непонятно почему. Они знают, что мы над ними смеемся, и выглядывают, чтобы прогнать нас. «Корделия, а не пошла бы ты к черту вместе со своими подружками!» Они улыбаются чуть зловеще, словно зная, что ждет нас в будущем. «Вот погодите, сами увидите», – говорят они.
Это пугает. То, что случилось с ними – то, отчего они разбухают, размякают, ходят шагом, когда раньше бегали. Им будто надели на шею невидимый поводок и держат в узде – и то же самое может случиться и с нами. Мы незаметно рассматриваем груди встречных женщин на улице, груди наших учительниц; только не наших матерей, это слишком близко и потому пугает. Мы рассматриваем свои подмышки и ноги – не пробиваются ли там пучки волос; грудную клетку – нет ли внезапных выпуклостей. Но пока ничего не происходит. Пока что мы в безопасности.
Корделия доходит до последних страниц каталога, где картинки черно-белые. Костыли, бандажи и протезы. ««Грудной насос», – говорит она. – Видите? Это чтобы надувать сиськи, как велосипедные шины, чтобы они стали больше». И мы не знаем, верить ей или нет.
У своих матерей мы спросить не можем. Нам немыслимо вообразить их без одежды, вообще думать о том, что у них под платьем есть какое-то тело. Они о многом умалчивают. Между нами и ними – пролив, пропасть, такая глубокая, что дна не разглядеть. Ее заполняет немота. Матери заворачивают свои отходы в несколько слоев газеты и перевязывают веревочкой, и все равно капают на только что натертый воском пол. Их бельевые веревки провисают под тяжестью трусов, ночных рубашек, носков, выставляя напоказ личное, запачканное – все, что они выстирали и выполоскали, погружая руки в серую с хлопьями воду. Они все знают о ершиках для чистки унитаза, о сиденьях унитаза, о микробах. Мир полон грязи, сколько ни убирай, и мы знаем, что матери не обрадуются нашим грязным вопросикам. Так что вместо этого мы шушукаемся между собой, и слухи перелетают от одной девочки к другой, становясь все ужаснее.
Корделия говорит, что у мужчин есть морковки между ног. На самом деле это не морковки, а нечто гораздо худшее. Они покрыты волосами. Из кончика выходят семена, попадают к женщинам в животы и там превращаются в детей, хочешь – не хочешь. Некоторые мужчины прокалывают свои морковки и вставляют в них кольца, словно в уши.
Корделия не очень четко объясняет, как семена выходят наружу и как они выглядят. Она говорит, что они невидимые, но мне не верится. Если эти семена вообще существуют, они должны быть похожи на птичий корм или на семена морковки, длинные и тонкие. И еще Корделия не может объяснить, как эту морковку засовывают в женщину, чтобы посадить в нее семена. Очевидный кандидат – пупок, но тогда там должен остаться разрыв или разрез. Вся ее теория весьма сомнительна, а гипотеза, что мы сами появились на свет в результате подобного акта, вызывает возмущение. Я думаю о кроватях, в которых все это предположительно происходит: кровати-близнецы в доме Кэрол, всегда такие аккуратные, элегантное ложе с балдахином у Корделии, темная кровать цвета красного дерева у Грейс, непоколебимо респектабельная под вязаным покрывалом и многослойными одеялами. Такие кровати уже сами по себе – опровержение возмутительной теории, достойный отпор. Я представляю себе мать Кэрол с ехидной улыбкой на губах, миссис Смиитт в пришпиленной короне седеющих кос. Они бы поджали губы, выпрямились с достоинством. Они бы такого не допустили.
«Детей посылает Бог», – говорит наконец Грейс, веско, как она умеет, давая понять, что диспут окончен. Она улыбается застегнутой на все пуговицы, презрительной улыбкой, и мы приободряемся. Лучше, чтобы дети получались от Бога, а не от нас.
Но у меня свои сомнения. В частности, я многое знаю. Я знаю, что эта штука называется не морковкой. Я видела, как стрекозы и жуки летают, сцепившись, забравшись один на другого. Я знаю, что это называется «спаривание». Я знаю про яйцеклады, которыми насекомые откладывают яйца – на листьях, на гусеницах, на поверхности воды; они отчетливо изображены и подписаны на рисунках, которые отец приносит домой для правки. Я знаю о существовании муравьиных маток и о том, что самки богомола съедают самцов. Но пользы мне от этого никакой. Я представляю себе мистера и миссис Смиитт – голых, в чем мать родила, и мистер Смиитт залезает на спину миссис Смиитт и сцепляется с ней. Картина совершенно неправдоподобная, даже за вычетом полета.
Я могу спросить у брата. Но, хотя мы с ним вместе разглядывали под микроскопом болячки и межпальцевую грязь, хотя нас не пугают бычьи глаза, рыбьи потроха и все, что можно найти под корягой, спросить его о таком будет неделикатно и, может быть, даже болезненно. Я вспоминаю слово «ЮПИТЕР», выведенное на песке угловатым почерком – ловким лишним пальцем. Если верить Корделии, этот палец в конце концов покроется волосами. Может, брат об этом не знает.
Корделия говорит, что мальчишки, когда целуются, суют язык девочке в рот. Не те мальчишки, которых мы знаем, а другие, постарше. Она это говорит таким же тоном, каким мой брат произносит в присутствии Кэрол «жучиный сок» или «сопли», и Кэрол реагирует точно так же – так же морщит нос и передергивается. Грейс говорит, что Корделия вызывает отвращение.
Я представляю себе плевки, которые иногда попадаются на тротуарах в центре города; и коровьи языки в мясных лавках. Зачем это делают, с какой стати засовывают язык в чужой рот? Конечно, чтобы вызвать отвращение. Чтобы посмотреть, что ты сделаешь в ответ.
Я поднимаюсь из подвала по ступеням, к которым прибиты черные резинки. Миссис Смиитт стоит у кухонной раковины в своем обычном фартуке с нагрудником. Она закончила отдыхать и теперь стоит, готовит ужин. Она чистит картошку; она часто чистит то одно, то другое. Шелуха спадает из ее крупных костистых рук длинной бледной спиралью. Нож для чистки, который использует миссис Смиитт, так сточился, что лезвие превратилось в тоненький полумесяц. Кухня наполнена паром, в ней пахнет костным мозгом и тушеным мясом.
Миссис Смиитт поворачивается и смотрит на меня, в левой руке у нее очищенная картофелина, а в правой нож. Она улыбается:
– Грейс говорит, что ваша семья не ходит в церковь. Может быть, ты захочешь как-нибудь пойти с нами. В нашу церковь.
– Да, – подхватывает Грейс, которая поднялась за мной из подвала. И мне нравится то, что они предлагают. Воскресным утром Грейс будет только моя, мне не придется делить ее с Кэрол или Корделией. Грейс по-прежнему самая желанная из всех нас, мы все хотим заполучить ее себе.
Когда я рассказываю родителям, они начинают беспокоиться.
– Ты точно хочешь пойти? – спрашивает мать. Она говорит, что в детстве ее заставляли ходить в церковь, хотела она того или нет. Ее отец был очень строгий. Ей не разрешали свистеть по воскресеньям. – Ты уверена?
Отец говорит, что он против промывания мозгов детям. Когда вырастут, сами решат насчет религии, которая, кстати, как он считает, несет ответственность за кучу войн и кровопролитий, а также ханжества и нетерпимости.
– Каждый образованный человек обязан знать Библию. Но тебе только восемь лет.
– Почти девять, – поправляю я.
– Ну что ж, – говорит отец. – Не верь всему подряд, что там будут рассказывать.
В воскресенье я надеваю одежду, которую мы с матерью выбрали вместе – шерстяное платье в темно-синюю и зеленую клетку, белые рубчатые чулки, которые подвязками прикрепляются на жесткий белый хлопчатобумажный пояс. У меня стало больше платьев, но я, в отличие от Кэрол, не хожу с матерью покупать наряды. Моя мать терпеть не может ходить по магазинам. Шить она тоже не умеет. Мои вещи – с чужого плеча, их отдает нам какая-то подруга матери, у которой дочь крупнее меня. Все ее платья сидят на мне плохо: у одного подол провисает, у другого рукава сборят под мышками. Мне кажется, что с платьями так и должно быть. Белые чулки, впрочем, куплены, и от них тело чешется даже сильнее, чем от коричневых, которые я ношу в школу.
Я вытаскиваю из красной пластиковой сумочки свой стеклянный шарик, синий «кошачий глаз», и перекладываю его в ящик письменного стола, а в сумочку кладу пятицентовик, который мать дала мне на пожертвование. Я иду по изрытым улицам к дому Грейс. На ногах у меня туфли – для сапог еще не сезон. Я звоню, и Грейс открывает. Должно быть, она меня ждала. На ней тоже платье и белые чулки, а в косах – темно-синие банты. Она оглядывает меня с ног до головы:
– У нее нет шляпки!
Миссис Смиитт, стоящая в прихожей, рассматривает меня так, словно я сиротка, подкинутая ей на порог. Она посылает Грейс наверх на поиски головного убора, и Грейс приносит старую темно-синюю бархатную шляпку с резинкой под подбородок. Она мне мала, но миссис Смиитт говорит, что на этот раз сойдет.
– В нашу церковь не ходят с непокрытой головой, – говорит она. Она делает упор на слове «нашу», словно подчеркивая, что есть на свете и другие церкви, более низкого ранга, простоволосые.
У миссис Смиитт есть сестра, которая тоже идет с нами в церковь. Ее зовут тетя Милдред. Она старше миссис Смиитт и работала миссионером в Китае. У нее такие же красные руки с выпирающими костяшками, такие же очки в железной оправе, такие же косы короной, как у миссис Смиитт, только совсем седые, и волосы на лице тоже седые, и их больше. Обе женщины в шляпках, похожих на кое-как перевязанные свертки фетровых лоскутов с торчащими в разные стороны углами. Я видела такие шляпы в каталогах «Итона» несколько лет назад, но там их носили модели с гладкими волосами, высокими скулами и блестящими темно-розовыми ртами. На миссис Смиитт и ее сестре эти шляпы смотрятся немного по-другому.
Когда все Смиитты надевают пальто и шляпы, мы залезаем в их машину: миссис Смиитт и тетя Милдред впереди, а я, Грейс и ее две младшие сестры сзади. Хотя я все еще боготворю Грейс, в моем обожании нет ничего физического, и мне неловко, что меня так сильно прижало к ней, когда мы втиснулись вчетвером на заднее сиденье ее машины. Прямо передо мной сидит за рулем мистер Смиитт. Он коротенький, лысый, и мы его почти никогда не видим. Та же история с отцом Кэрол и с отцом Корделии: в повседневной жизни семьи они почти невидимы.
Мы едем по пустым воскресным улицам, следуя на запад вдоль трамвайных путей. Смиитты продышивают весь воздух в машине, и он начинает пахнуть чем-то несвежим, как высохшая слюна. Церковь большая, кирпичная; на крыше вместо креста какая-то штука, похожая по форме на луковицу. Она крутится. Я спрашиваю про это – вдруг оно имеет какое-то религиозное значение, но Грейс говорит, что это просто вентилятор.
Мистер Смиитт паркует машину, мы вылезаем и входим в церковь. Мы садимся в ряд на длинную скамью из темного блестящего дерева. Я впервые в жизни попала в церковь. В ней высокие потолки, а с них свисают на цепях люстры с рожками как цветки вьюнка. Впереди – простой золотой крест и ваза с белыми цветами. Дальше – три витражных окна. В среднем, самом большом, изображен Иисус в белых одеждах, с распростертыми руками, и над ним парит белая птица. Внизу написано толстыми черными библейскими буквами, с точками между словами: «ЦАРСТВО·БОЖИЕ·ВНУТРЬ·ВАС·ЕСТЬ». В левом окне Иисус сидит боком, в розовато-красной одежде, и на его колени облокотились двое детей. Под этой картинкой написано: «ПУСТИТЕ·МАЛЫХ·СИХ». У обоих Иисусов вокруг головы нимб. На окне с другой стороны – женщина в синем, без нимба, лицо ее частично прикрыто белым платком. Она несет корзину и тянется вниз одной рукой. У ее ног сидит мужчина с чем-то вроде бинта на голове. Подпись: «НО·ЛЮБОВЬ·ИЗ·НИХ·БОЛЬШЕ». У всех трех окон – бордюры, на которых вьются винные лозы с гроздями винограда и разными цветами. На улице день, и витражи светятся. Я не могу оторвать от них глаз.
Тут слышится органная музыка и все встают, и я теряюсь. Я слежу за Грейс – встаю, когда она встаёт, и сажусь, когда она садится. Когда поют, она открывает сборник гимнов и показывает пальцем строку, но я не знаю ни одного мотива. Потом нам приходит пора идти в воскресную школу, так что мы выходим цепочкой вместе со всеми остальными детьми и спускаемся в подвал.
У входа в помещение воскресной школы висит грифельная доска, на которой кто-то написал цветным мелом: «Здесь был Килрой». Рядом нарисован человечек, выглядывающий из-за забора, у него видны только глаза и нос.
Занятия в воскресной школе, так же, как и в обычной, проходят в классах. Только учителя моложе: наша учительница – подросток постарше в голубой шляпке с вуалью. В классе одни девочки. Учительница читает нам библейскую историю про Иосифа и его разно- цветный хитон. Потом она слушает, как девочки декламируют наизусть то, что им надо было выучить к этому уроку. Я сижу, болтая ногами. Я ничего не учила. Учительница улыбается мне и выражает надежду, что я теперь буду приходить каждую неделю.
После этого все классы собираются в один большой зал с рядами серых деревянных скамеек, вроде тех, на которых мы сидим в школе, когда обедаем. Мы рассаживаемся на скамьях, свет гаснет, и на пустую стену в дальнем конце зала начинают проецировать цветные слайды. Это не фотографии, а картины. Они старинные на вид. На первой изображен рыцарь, едущий через лес; он смотрит наверх, на луч света, падающий в просвет между деревьями. Кожа у рыцаря очень белая, глаза большие, как у девочки, а рука прижата к месту, где под латами, похожими на автомобильный бампер, вероятно, находится сердце. Под большим светящимся лицом рыцаря видны настенные выключатели, часть досок, которыми обшиты по низу стены, и угол пианино.
На следующей картине оказывается тот же рыцарь, только поменьше, а под ним написаны слова, которые мы поём под тяжелое буханье аккордов невидимого пианино:
- Дай мне сил, Христос Господь,
- Искушенья побороть,
- Помоги мне чистым быть,
- Всей душой Тебя любить.
- Муки все претерпевать,
- Слабым, бедным помогать.
- И спасения искать,
- В небеса войти дерзать,
- Где пресветлый облик Твой,
- Где и счастье, и покой![3]
Я слышу, как рядом со мной, в темноте, поет Грейс – ее голос карабкается всё выше и выше, тоненький и пронзительный, будто птичий. Она знает все слова. Она и заданный ей отрывок из Писания тоже знала наизусть. Когда мы склоняем головы, чтобы помолиться, я чувствую, как меня переполняет благость. Я чувствую, что меня сочли своей, приняли в круг. Бог любит меня, кто бы он ни был.
После воскресной школы мы идем обратно в церковь, на заключительную часть службы, и я кладу свой пятицентовик в тарелку для сборов. Происходит нечто, называемое славословием. Потом мы выходим из церкви, втискиваемся в машину Смииттов, и Грейс осторожно спрашивает:
– Папа, а можно мы поедем посмотрим на поезда?
Младшие девочки с показным энтузиазмом подхватывают:
– Да, да!
– А вы хорошо себя вели? – спрашивает мистер Смиитт, и девочки снова кричат: «Да, да!»
Миссис Смиитт издает неопределенный звук.
– Ну ладно, – говорит мистер Смиитт девочкам. Он ведет машину на юг по пустым улицам, вдоль трамвайных рельсов, мимо одинокого трамвая, похожего на скользящий по воде остров, и наконец мы видим вдали плоское серое озеро, а под собой – мы стоим на краю чего-то вроде невысокого обрыва – плоскую серую равнину, покрытую железнодорожными путями. По этой железной равнине движутся в разные стороны несколько поездов. Поскольку сегодня воскресенье и поскольку наблюдение за поездами – явно привычное воскресное занятие для Смииттов, мне начинает казаться, что железнодорожные пути и сонные, тяжело грохочущие составы имеют какое-то отношение к Богу. Еще мне ясно, что на самом деле посмотреть на поезда хочет вовсе не Грейс и не ее младшие сестры, а сам мистер Смиитт.
Мы сидим в припаркованной машине, глядя на поезда, пока миссис Смиитт не говорит, что обед погибнет. Тогда мы едем обратно в дом Грейс.
Меня приглашают на воскресный обед. Я впервые остаюсь на трапезу у Грейс. Перед едой она ведет меня наверх, помыть руки, и я узнаю еще кое-что про ее семью: здесь разрешают использовать только четыре квадратика туалетной бумаги. Мыло в ванной черное и шершавое. Грейс говорит, что оно дегтярное.
На обед – запеченный окорок, фасоль в томате, запеченный картофель и пюре из тыквы. Мистер Смиитт режет ветчину, миссис Смиитт накладывает гарнир, и тарелки передают по кругу. Я начинаю есть, и младшие сестры Грейс смотрят на меня сквозь очки.
– В нашем доме принято воздавать хвалу перед едой, – говорит тетя Милдред, улыбаясь с напором. Я не понимаю, о чем она. У нас дома принято говорить «Спасибо», когда встаешь из-за стола. Но все Смиитты склоняют головы, складывают ладони вместе, и Грейс произносит:
– За все блага, что мы сейчас получим, да преисполнит нас Господь истинной благодарности, аминь.
А мистер Смиитт говорит:
– Ням-ням хорош, питьё хорош, Боженька хорош, давай ням-ням.
И подмигивает мне.
– Ллойд! – восклицает миссис Смиитт, и мистер Смиитт заговорщически хихикает.
После обеда мы с Грейс сидим в гостиной на бархатном диване – на том же самом, где отдыхает после обеда миссис Смиитт. Я сижу на нем впервые, и мне кажется, что меня допустили к чему-то открытому не для всех, вроде трона или гроба. Мы читаем газету, принесенную из воскресной школы. В ней есть история Иосифа и другая, про мальчика, который украл деньги из тарелки для сборов, но потом раскаялся и стал собирать макулатуру и бутылки в фонд церкви, чтобы возместить украденное. Иллюстрации в газете – черно-белые рисунки пером, но на первой странице – цветная картинка с Иисусом в пастельных одеждах, окруженным детьми. Они из разных народов – коричневые, желтые, белые, все чистенькие и хорошенькие, некоторые держат его за руки, а другие глядят на него большими обожающими глазами. У этого Иисуса нет нимба.
Мистер Смиитт дремлет в бордовом кресле, выпятив круглый живот. В кухне звенят тарелки. Это миссис Смиитт и тетя Милдред моют посуду.
Я попадаю домой уже под вечер, в руках у меня красная пластиковая сумочка и газета из воскресной школы.
– Ну что, тебе понравилось? – спрашивает мать все так же обеспокоенно.
– Тебя чему-нибудь научили? – спрашивает отец.
– Мне задали выучить псалом, – важно говорю я. Слово «псалом» звучит как тайный пароль. Я слегка обижена. Оказывается, родители многое от меня скрывали – такое, что нужно знать. Например, шляпки: как могла мать забыть про шляпку? О Боге мне доводилось слышать и раньше – он упоминается в наших школьных утренних молитвах и в гимне «Боже, храни короля». Но оказалось, что этим дело не ограничивается: сколько текстов надо вызубрить, гимнов разучить, пятицентовиков положить в тарелку для сборов, чтобы Бог был по-настоящему тобой доволен! Однако мысль о рае меня беспокоит. Сколько мне будет лет, когда я попаду туда? А что, если я умру старухой? В раю я хочу быть такого возраста, как я сейчас.
У меня есть Библия – я взяла ее взаймы у Грейс, и это не самая лучшая ее Библия, но следующая по порядку. Я отправляюсь к себе в комнату и зубрю: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум».
У меня в спальне по-прежнему нет занавесок. Я выглядываю в окно, смотрю вверх: вот небеса, вот звезды – там же, где и всегда. Но они больше не кажутся мне холодными, белыми и далекими, как спирт и эмалированные лотки. Теперь мне кажется, что они зорко следят за мной.
Девочки стоят в школьном дворе или сверху на склоне, небольшими кучками, они шепчутся между собой, шепчутся и плетут на шпульках. Сейчас это модно – шпулька с четырьмя вбитыми в конец гвоздями и моток шерсти. Нитку наматывают петлей на каждый гвоздь по очереди, на два оборота, а потом пятым гвоздем нижние петли накидываются на верхние. С другого конца шпульки свисает толстый круглый шерстяной хвост, который потом надо закрутить, как раковину улитки, и сшить из него коврик – подставку для заварочного чайника. У меня есть такая шпулька, и у Грейс и Кэрол тоже, и даже у Корделии, хотя ее плетение безнадежно запутано.
Эти кучки шепчущихся девочек со шпульками и разноцветной шерстью имеют отношение к мальчикам. К обособленности от мальчиков. Каждая кучка девочек исключает всех остальных девочек, но также и абсолютно всех мальчиков. Мальчики нас тоже исключают, но активно, подчеркнуто. Нам же нет нужды это подчеркивать.
Порой я все еще захожу в комнату брата и лежу на полу, читая комиксы, но никогда – если у меня в гостях другие девочки. Меня одну еще потерпят, а как часть группы девочек – ни за что. Это ясно без слов.
Когда-то я воспринимала мальчишек как нечто само собой разумеющееся, я привыкла к ним. Но теперь начала к ним присматриваться, потому что они не такие, как мы. Например, они слишком редко моются. От них пахнет немытым телом, сальной головой, но еще – выделанной кожей, от кожаных заплаток на штанах, и шерстью от самих штанов, которые доходят только до колена и зашнуровываются, как футбольные бриджи. Ниже – толстые шерстяные гольфы; как правило, они мокрые и собираются гармошкой у щиколотки. На улице мальчишки носят кожаные шлемы с лямкой под подбородком. Одежда у них цвета хаки, или темно-синяя, или серая, или темно-зеленая, чтобы грязь была не так заметна. Во всем этом есть что-то военное. Мальчишки гордятся своей неяркой одеждой, съезжающими гольфами, грязной, запачканной чернилами кожей: для них грязь – почти так же хорошо, как раны. Они специально стараются вести себя как мальчишки. Они зовут друг друга по фамилиям и привлекают внимание к отступлениям от норм гигиены свыше обычного: «Эй, Робертсон! А ну вытри сопли!», «Кто это пёрнул?» Они отвешивают друг другу боксерские удары в плечо, вопя: «Попал!», «И я попал!» Когда ты в одной комнате с мальчишками, всегда кажется, что их больше, чем на самом деле.
Мой брат тоже, как все мальчишки, отвешивает боксерские удары в плечо и комментирует дурные запахи, но у него есть тайна. Он никогда не откроет ее другим мальчишкам, потому что его осмеют.
Тайна заключается в том, что у него есть девочка. Это настолько большой секрет, что даже она сама об этом не знает. Он рассказал только мне и взял с меня двойную клятву молчать. Даже когда мы с ним одни, я не имею права называть ее имя – только инициалы, Б.В. Мой брат иногда бормочет эти инициалы в присутствии других людей, например, наших родителей. При этом он сверлит меня взглядом, ожидая, чтобы я кивнула или подала какой-нибудь другой знак, что я его услышала и поняла. Он пишет шифрованные записки и оставляет там, где я их точно найду – у меня под подушкой или в ящике письменного стола. Расшифрованные, они оказываются удивительно непохожими на обычные послания брата, неоригинальными и, говоря откровенно, тупыми – мне даже не верится, что это писал он. «Говорил с Б.В.», «Сегодня видел её». Он пишет карандашами разных цветов и ставит восклицательные знаки. Однажды ночью выпадает аномально ранний снег, и поутру, выглянув в окно, я вижу исполненные томления инициалы, выведенные мочой на белой пелене, уже подтаявшей.
Я вижу, что эта девочка приносит ему страдания, но вместе с тем и наслаждение. Но я не могу понять, почему. Я ее знаю. Ее настоящее имя – Берта Ватсон. На переменах она гуляет с девочками постарше – в верхней части склона, среди чахлых ёлок. Она среднего роста, и у нее прямые каштановые волосы с чёлкой. Я не вижу в ней ничего волшебного, никаких отклонений от нормы. Мне интересно, как она этого добилась, что за фокус проделала с моим братом, чтобы превратить его в глупую, робеющую копию самого себя.
То, что мне открыли этот секрет, что меня одну для этого избрали, преисполняет меня ощущением собственной значимости. Но эта значимость – отрицательная: как у белого листа бумаги. Мне можно знать, потому что я не в счёт. Я чувствую себя избранной, но в то же время отвергнутой. И еще я чувствую, что должна заботиться о брате, потому что впервые несу за него ответственность. Его положение шатко, а у меня есть козырь. Мне приходит в голову, что я могу разболтать его тайну, сделать его мишенью для насмешек; выбор за мной. Брат в моей власти, и мне это не нравится. Я хочу, чтобы он стал как раньше – неизменным, непобедимым.
Девочки надолго не хватает. Вскоре брат перестает о ней вспоминать. Он опять высмеивает меня или не замечает; он снова главный. Он раздобывает набор юного химика и проводит опыты в подвале. Я думаю, лучше пусть он будет одержим химией, чем девчонкой. Кипящие зелья, ужасные запахи, небольшие взрывы с сернистым дымом, удивительные иллюзии. Можно создать невидимые письмена, которые проступят, если подержать бумагу над пламенем свечи. Можно сделать крутое яйцо резиновым, так что оно пролезет в молочную бутылку (правда, вытащить его оттуда уже труднее). «Преврати воду в кровь и удиви своих друзей!» – приглашает инструкция.
Брат все еще меняется комиксами, но без усилий, рассеянно. Поскольку результат ему безразличен, ему удается заключать более удачные сделки. Комиксы лежат стопками у него под кроватью, множатся, но теперь он читает их только тогда, когда в гости приходят другие мальчики.
Брат исчерпал возможности химического набора. Теперь у него в комнате висит карта звездного неба, а по ночам он выключает свет и сидит у темного открытого окна, в холоде, натянув бордовый свитер поверх пижамы, и созерцает небеса. Он смотрит в отцовский бинокль, который ему разрешают брать при условии, что он будет надевать ремешок на шею, чтобы не уронить. Теперь брат хочет обзавестись телескопом.
Когда он пускает меня к себе и когда ему хочется поговорить, он учит меня новым названиям и показывает на карте главные точки: Орион, Медведица, Дракон, Лебедь. Это созвездия. Каждое из них состоит из огромного количества звезд, которые в сотни раз больше и жарче нашего Солнца. Эти звезды, говорит он, отстоят от нас на много световых лет. На самом деле мы их не видим, мы видим только свет, который они испустили давным-давно, сотни и тысячи лет назад. Звезды – как эхо. Я сижу во фланелевой пижаме и дрожу, шея у меня болит оттого, что голова запрокинута – я вглядываюсь в холод, в бесконечно далекую темноту, в черный котел, где бесконечно кипят костры звёзд. Звезды брата отличаются от библейских: они бессловесны, они пылают во всеуничтожающем молчании. Мне кажется, что мое тело растворяется и меня затягивает вверх, вверх, как редеющий туман – в необъятный опустошающий космос.
– Арктур, – говорит брат. Иностранное слово, непонятное, но тон брата мне знаком: узнавание, ощущение завершенности, к набору добавлен еще один экспонат. Я вспоминаю банки со стеклянными шариками, которые были весной – как он ронял шарики в банку по одному, пересчитывая. Мой брат снова стал коллекционером; теперь он собирает звёзды.
На школьных окнах – черные кошки и бумажные тыквы. На Хэллоуин Грейс надевает обычное дамское платье, Кэрол наряжается феей, Корделия – клоуном. Я накидываю простыню, потому что больше у меня ничего нет. Мы ходим от дверей к дверям, неся коричневые бумажные магазинные пакеты, и они наполняются яблоками в карамели, шариками из попкорна, козинаками с арахисом. Подойдя к двери, мы скандируем: «Гони монету! Гони монету! Ведьмы гуляют по белу свету!» На фасадных окнах, на крыльце словно плавают большие оранжевые тыквенные головы, светящиеся, без тел. Назавтра мы уносим свои тыквы в овраг, на мост, швыряем их вниз и смотрим, как они разбиваются о землю. С сегодняшнего дня уже ноябрь.
Корделия роет яму у себя на заднем дворе, где нет почвы. Она уже несколько раз начинала рыть, но безуспешно – упиралась в камень. Сейчас она, кажется, выбрала место удачней. Корделия копает заостренной лопатой; иногда мы ей помогаем. Это не маленькая ямка, а большая квадратная яма; она становится все глубже и глубже, а кучи земли по краям растут. Корделия говорит, что мы сможем устроить в яме штаб. Поставить там стулья и сидеть на них. Она хочет, когда выкопает на достаточную глубину, закрыть яму досками и сделать крышу. Она уже набрала досок – строительного мусора от двух новых домов рядом с ее участком. Корделия так увлечена этой ямой, что ее трудно заставить поиграть во что-нибудь другое.
На темнеющих улицах расцветают маки. Это ко Дню Памяти[4]. Маки сделаны из пушистой ткани, они красные, как сердца на Валентинов день, с черной сердцевинкой, через которую продета булавка. Мы носим их на пальто. Мы разучиваем стихотворение про них:
- Во Фландрии полях алеют маки
- Среди крестов, за рядом ряд.
- То наши памятные знаки…[5]
В одиннадцать часов мы встаём рядом с партами на три минуты молчания. В лучах слабого ноябрьского солнца танцуют пылинки. Угрюмая мисс Ламли у доски, головы склонены, глаза закрыты, мы прислушиваемся к тишине, к шорохам собственных тел и к грому далеких пушек. «Мы – павшие». Я стою зажмурясь, пытаясь чувствовать то, что положено: патриотизм и скорбь по мертвым солдатам, которые погибли за нас. Я даже не могу представить себе их лиц. Я не знаю никого, кто умер.
Корделия, Грейс и Кэрол ведут меня к глубокой яме на заднем дворе Корделии. На мне черное платье и плащ из костюмерного шкафа. Предположительно, я Мария, королева шотландская, уже обезглавленная. Они поднимают меня под мышки и за ноги и опускают в яму. Потом прилаживают сверху доски. Дневной свет и воздух исчезают, и по доскам стучат комья земли. Лопата за лопатой. В дыре темно, холодно и сыро, и пахнет, как в жабьей норе.
Я слышу их голоса – наверху, снаружи, – а потом уже не слышу. Я лежу, размышляя, когда же мне пора будет выходить. Ничего не происходит. Когда меня положили в яму, я знала, что это игра. Теперь я понимаю, что это не игра. Я ощущаю печаль, словно меня предали. Потом давящую темноту; потом ужас.
Возвращаясь мысленно ко времени, проведенному в яме, я не могу вспомнить, что происходило, пока я в ней лежала. Не могу вспомнить, что на самом деле чувствовала. Может быть, не происходило ничего. Может быть, те чувства, что я помню, – не те, что были у меня на самом деле. Я знаю, что позже девочки пришли и выпустили меня из ямы, и мы продолжили игру, эту или какую-то другую. У меня не осталось мысленного образа себя в яме; только черный квадрат, наполненный пустотой. Похожий на дверь. Может быть, этот квадрат пуст; возможно, это лишь памятный знак, метка, разделяющая время до и время после. Точка, в которой я стала бессильной. Плакала ли я, когда меня доставали из ямы? Мне это кажется возможным. С другой стороны, я в этом сомневаюсь. Но вспомнить не могу.
Вскоре после этого мне исполнилось девять лет. Я помню другие свои дни рождения, раньше и позже, но этот – нет. Мне наверняка устроили праздник, первый настоящий день рождения с гостями, ведь раньше мне было некого пригласить. Наверняка был торт, со свечками, с загадыванием желаний, четвертак и десятицентовик, завернутые в бумагу и спрятанные в торте, чтобы попасться кому-нибудь на зуб, и подарки. Корделия наверняка пришла, и Грейс, и Кэрол. Всё это должно было случиться, но единственное, что осталось у меня в голове, – смутный страх перед днями рождения, не чужими, а моими собственными. Я вспоминаю пастельную глазурь на торте, розовые свечки, горящие в бледном свете ноябрьского дня, стыд и ощущение провала.
Я закрываю глаза и жду, чтобы появились картинки. Мне нужно заполнить черный квадрат времени, вернуться и увидеть, что в нем. Я словно исчезла в какой-то момент и появилась позже, уже другой, не зная причин перемены. Я буду рада увидеть даже доски над головой. Я закрываю глаза и жду, чтобы появились картинки.
Сначала ничего нет: только отступающая пустота, как туннель. Но вскоре что-то начинает проявляться: гуща темно-зеленых листьев и фиолетовых цветов, темно-лиловых, насыщенный и печальный цвет, и грозди красных ягод, прозрачных, как вода. Стебли так переплелись, так перепутались с другими растениями, что стали как живая изгородь. Запах земли и другой, острый запах поднимаются среди листьев, запах старых вещей, тяжелый и плотный, забытый. Ветра нет, но листья шевелятся, по ним пробегают волны, словно там крадутся невидимые кошки, или словно листья движутся сами по себе.
Паслён, думаю я. Это тёмное слово. В ноябре паслён не растёт. Паслён – обычный сорняк. Если он вырастет в саду, его выдергивают и бросают. Паслён – родственник картофеля, поэтому цветы у них похожи. Картошка тоже может стать ядовитой, если ее оставить на солнце, и она позеленеет. Я стараюсь знать такие вещи.
Я сознаю, что это воспоминание – не то, что я ищу. Но цветы, запах, движение листьев упорствуют – насыщенные, завораживающие, вызывающие отчаяние, повергающие в скорбь.
V. Отжим
Я выхожу из галереи, сворачиваю на восток. Мне нужно зайти в магазин, купить нормальной еды, организоваться. Оставшись в одиночестве, я возвращаюсь в те времена, когда забывала поесть и работала ночь напролет. Работала, пока меня не охватывало странное чувство, в котором я не сразу распознавала голод. Тогда я тайфуном налетала на холодильник. Остатки сладки.
Сегодня утром были яйца, но их больше нет. Нет хлеба. Нет молока. А почему сначала они были? Должно быть, это запас Джона. Наверно, он иногда ест у себя в мастерской. А может, он все это принес для меня? Мне как-то не верится. Я куплю себе апельсинов. И йогурт. Натуральный. Буду позитивно смотреть на жизнь, заботиться о себе, кормить себя ферментами и полезными бактериями. Эти греющие мысли доводят меня до самого центра города.
Здесь когда-то стоял универмаг Итона, вот на этом углу, квадратный, желтый. Теперь вместо него новое здание, так называемый торговый комплекс. Можно подумать, торговля – это психическое отклонение. Стены комплекса – стеклянные, фасеточные, зеленые, словно айсберг.
Напротив – знакомая страна: универмаг Симпсона. Я знаю, что в нем должен быть продуктовый отдел. В зеркальных витринах – стопки банных полотенец, пухлые мягкие диваны и кресла, постельное белье с модным рисунком. Я думаю о том, где, в конце концов, окажутся все эти тряпки. Люди покупают их, увозят, набивают ими свои дома: гнездовой инстинкт. Для тех, кто видел птичье гнездо вблизи, это рисует не очень-то привлекательную картину. В любой дом влезет лишь ограниченное количество тряпок, но, конечно, их можно время от времени выбрасывать. Когда-то мы старались покупать добротные, ноские вещи. Со временем они становились как будто частью тебя. Мы проверяли, хорошо ли подрублен подол, крепко ли пришиты пуговицы, щупали ткань, потирая её большим и указательным пальцами. В следующей витрине – мрачные манекены. Таз выдвинут вперед, плечи перекошены. В целом похоже на маньяка, замахнувшегося топором. Видимо, такой облик нынче в моде: озлобленность и агрессия. На тротуарах множество андрогинов во плоти: девочки в черных кожаных куртках и грубых ботинках, стриженные под ежик или с прической «утиный хвост», мальчики – капризные, с надутыми губами, как у моделей на обложках модных журналов, волосы уложены гелем в «иголочки». Издали я не могу отличить мальчиков от девочек, хотя сами они, наверно, могут. При виде их я чувствую себя отставшей от жизни.
К чему они стремятся? Может, мальчики хотят выглядеть как девочки, а девочки – как мальчики? Или мне только так кажется из-за того, что все они пугающе молоды? Они держатся хладнокровно, но их стремления очевидны – торчат наружу, как присоски на щупальцах у осьминога. Они хотят взять от жизни всё и сразу.
Но, наверно, и мы с Корделией вызывали те же чувства у людей постарше, когда переходили вот этот самый перекресток – воротники подняты, брови выщипаны скептическим изгибом, мы залихватски вышагивали в резиновых сапогах, изо всех сил пытаясь создать впечатление, что нам на всех плевать. Шли мы на Центральный вокзал – засунуть четвертаки в фотоавтомат, четыре черно-белые фотографии размером как на документы. Корделия с сигаретой в углу рта, глаза полузакрыты – играет знойную женщину. Суперчёткая.
Я вкручиваюсь через крутящуюся дверь в универмаг Симпсона и немедленно теряюсь. Тут всё поменяли. Были чинные, оправленные в дерево стеклянные прилавки со стандартными перчатками, пристойными часами, шарфиками в цветочек. Респектабельность и хороший вкус. А теперь тут помесь косметического салона с ярмаркой: серебряный декор, золотые колонны, цепочки бегущих огней, надписи фирменными шрифтами – буквы размером с человеческую голову. Воздух насыщен парфюмерными ароматами, враждующими между собой. На экранах высвечиваются безупречные лица, вертятся, прихорашиваются, вздыхают через приоткрытые губы, принимают чьи-то ласки. На других экранах – поры крупным планом «до и после», подробности ухода за всем, что только можно представить – руками, шеей, бедрами. Локтями – особенно локтями: старение начинается с кожи на локтях и метастазирует дальше. Это религия. Обряды вуду и заклинания. Мне хочется уверовать во всё это – кремы, омолаживающие лосьоны, прозрачные мази во флаконах с крутящимися шариками наверху, как клей. «Ты что, не знаешь, из чего делают весь этот мусор? – сказал как-то Бен. – Из молотых петушиных гребней». Но меня это не останавливает, я всё что угодно готова испробовать, лишь бы сработало – сок из слизней, слюну жаб, жало гада, клюв совенка, все на свете, лишь бы мумифицироваться, остановить безжалостную капель времени, остаться хотя бы приблизительно собой.
Но у меня уже столько этих снадобий, что хватило бы забальзамировать всех моих одноклассниц – наверняка они теперь в этом нуждаются не меньше моего. Я останавливаюсь лишь на миг, чтобы девушка, раздающая пробники духов, прыснула на меня каким-то новым ядовитым ароматом. Похоже, мода на роковых женщин вернулась. Вероника Лейк торжествующе прокралась обратно. Снадобье пахнет сладкой виноградной газировкой. Не представляю, кого такой запах может соблазнить – разве что плодовую мушку.
– Вам самой-то нравится? – спрашиваю я у девушки. Должно быть, им одиноко стоять тут весь день на высоких каблуках, опрыскивая прохожих.
– Эти духи очень популярны, – уклончиво отвечает она. Я на миг вижу себя ее глазами: увядшая женщина, почти бабушка, но еще на что-то надеется. Я – ее целевая аудитория. Я спрашиваю, где продуктовый отдел, и она отвечает. В подвале. Я встаю на эскалатор, но еду внезапно вверх. Плохо дело, раз я начала так путать направления. Или у меня провал в памяти, и я уже побывала внизу? Я схожу с эскалатора и блуждаю меж рядами детских нарядных платьев. Кружевные воротники, рукава-фонарики, пояса-кушаки. Я помню такие платья. Многие – в клеточку: подлинные цвета шотландского тартана, словно обагренные кровью, темно-зеленые с красной полоской, темно-синие, черные. «Черная стража». Неужели те, кто придумал эти платья, забыли историю? Неужели ничего не знают о шотландцах? Ничего лучше не придумали, как одевать девочек в цвета отчаяния, резни, предательства и убийства? «Уже усеян – с новой строки – земной мой путь листвой сухой и желтой»[6]. Когда-то школьников заставляли многое учить наизусть. Впрочем, шотландская клетка была модной и в мое время. Белые носки, туфельки с ремешками, вечно не тот подарок на день рождения, завернутый в хрустящую бумагу, и девочки с оценивающими глазами, скользкими обманчивыми улыбками, одетые в шотландку, как леди Макбет.
В те бесконечно тянувшиеся времена, когда Корделия так полно властвовала надо мной, у меня была привычка отколупывать кожу со ступней. Я занималась этим по ночам, когда мне полагалось спать. Ступни были прохладные и слегка влажные, как кожица гриба. Я начинала с больших пальцев. Подтягивала ступню к лицу и прокусывала начальную дырочку там, где кожа толще всего – у основания большого пальца, с внешней стороны. Потом ногтями рук – ногти я никогда не обгрызала, какой смысл обгрызать то, чему не больно, – я начинала сдирать кожу узкими полосками. То же повторяла с большим пальцем другой ноги, потом с каждой пяткой по очереди. Я сдирала кожу ровно на такую глубину, чтобы пошла кровь. Никто кроме меня никогда не видел моих ступней, поэтому никто не знал, чем я занимаюсь. По утрам я натягивала носки на ободранные ноги. Ходить было больно, но можно. Когда была боль, было что-то определенное, насущное, о чем я могла думать. За что я могла держаться. Еще я жевала пряди своих волос, так что в любой момент хотя бы одна прядь была мокрой и заостренной. Я обрывала зубами заусенцы на ногтях, оставляя пятна обнаженной, мокнущей плоти – они твердели, превращались в струпья и отшелушивались. В ванне или в тазу для мытья посуды мои руки выглядели как обгрызенные, словно над ними поработали мыши. Все это я проделывала постоянно, даже не замечая. А вот ступни – это было сознательно.
Помню, когда родились девочки – сначала одна, потом другая – я начала думать, что мне следовало бы иметь сыновей, а не дочерей. Я думала, что дочери мне не по плечу, что я не знаю, как они устроены. Наверно, я боялась, что возненавижу их. С сыновьями я бы знала, что делать: мы бы ловили лягушек, удили рыбу, играли в войну, возились в грязи. Я научила бы их защищаться и объяснила бы, от кого именно. Но мир сыновей изменился: теперь гораздо вероятней увидеть мальчика с таким вот растерянным лицом. Будто ночной зверек случайно попал под солнечный свет и ослеп. «Умей постоять за себя как мужчина», – говорила бы я. И при этом сама стояла бы на зыбкой почве.
Что же касается девочек, во всяком случае – моих дочерей, они, похоже, родились с каким-то защитным покрытием, каким-то иммунитетом, которого не хватало мне. Они смотрят прямо в глаза – ровным, оценивающим взглядом. Они сидят за столом на кухне и своей ясностью пропитывают воздух вокруг. Они душевно здоровы – во всяком случае, мне хочется так думать. Это благодать, которая меня спасает. Дочери изумляют меня. Всегда изумляли. Когда они были маленькие, я чувствовала, что должна скрывать от них определенные черты своей собственной личности, свой страх, самые неприятные стороны своих браков, дни пустоты. Я не хотела ничего передать дочерям – ничего из того, что им повредило бы. В такие минуты я лежала на полу в темноте, задернув занавески и закрыв дверь. «У мамочки болит голова, – говорила я. – Мамочка работает». Но им, кажется, не нужна была такая защита, они всё видели, смотрели на вещи прямо, принимали всё как есть. «Мама там, в комнате. Она лежит на полу. Завтра она поправится», – я слышала, как Сара сказала это Анне, когда одной было десять, а другой четыре. И я поправилась. Они верили в меня, как верят, что завтра взойдет солнце и что убывающая луна потом начнет возрастать, и эта вера меня поддерживала. Должно быть, именно благодаря такой вере Бог продолжает существовать.
Кто знает, что будут дочери думать обо мне потом? Кто знает, что они уже сейчас обо мне думают? Мне хотелось бы видеть в них счастливое завершение своей истории. Но, конечно, для самих девочек они – вовсе не завершение.
Кто-то подходит ко мне сзади, и вдруг раздается голос, словно из пустоты:
– Вам чем-нибудь помочь?
Я вздрагиваю. Это продавщица, на этот раз не молодая. Немолодая. Тут я расстраиваюсь: до меня доходит, что она моя ровесница. Моя и Корделии.
Я стою среди платьев в шотландскую клетку, щупая рукав. Одному Богу известно, сколько я так простояла. Не говорила ли я вслух? Горло перехватило, ноги болят. Но что бы ни сулила мне судьба, я не собираюсь съезжать с катушек среди платьев для девочек в универмаге Симпсона.
– Продуктовый отдел, – говорю я.
Она вежливо улыбается. Она утомлена, и я ее разочаровала, так как не нуждаюсь в платьях из шотландки.
– О, вам надо прямо вниз, в подвал.
Она любезно отводит меня туда.
Открывается черная дверь. Я сижу в Корпусе, в запахе мышиного помета и формальдегида, на подоконнике, батарея поджаривает мне ноги, и я смотрю из окна на улицу, где хлюпают по лужам феи, гномы и снеговики под звуки «Джингл беллз» в исполнении духового оркестра. Феи выглядят укороченными, побитыми жизнью, они полосатые из-за дорожек, промытых каплями дождя на пыльном окне. От моего дыхания на стекле образуется туманный круг. Брата здесь нет, он уже слишком взрослый для этого. Он так сказал. Поэтому весь подоконник – мой.
На соседнем окне теснятся Корделия, Грейс и Кэрол, перешептываясь и хихикая. Я сижу на своем подоконнике одна, потому что они со мной не разговаривают. Я что-то не так сказала, но не знаю, что именно – они не объясняют. Корделия велела мне хорошенько обдумать все сказанное мною сегодня и постараться понять свою ошибку. Так я научусь больше не говорить подобного. Когда я догадаюсь, в чем был мой проступок, они опять начнут со мной разговаривать. Всё это – для моего же блага, потому что они мои подруги и помогают мне сделаться лучше. Вот я и думаю, пока внизу идут волынщики в промокших меховых шапках и тамбурмажоретки с голыми мокрыми ногами, красными улыбками и слипшимися в сосульки волосами: что я сказала не так? Вроде бы я сегодня говорила абсолютно все то же самое, что и в обычные дни.
В комнату входит мой отец в белом лабораторном халате. Он работает в другой части здания, но пришел нас проведать. «Ну что, девочки, нравится парад?» – спрашивает он. «О да, спасибо», – отвечает Кэрол и хихикает. «Да, спасибо», – говорит Грейс. Я молчу. Корделия слезает со своего подоконника, вскальзывает на мой и подъезжает ко мне вплотную. «Мы получаем огромное удовольствие, большое вам спасибо», – говорит она голосом, который у нее предназначается исключительно для взрослых. Мои родители считают, что у Корделии прекрасные манеры. Она обнимает меня за плечи и слегка сжимает – заговорщически, наставительно. Всё будет хорошо, если я буду сидеть неподвижно, ничего не скажу, ничего не выдам. Тогда я обрету спасение, меня снова примут в круг. Я улыбаюсь, дрожа от облегчения, от благодарности. Но стоит моему отцу выйти за дверь, и Корделия поворачивается ко мне. Лицо ее выражает не гнев, а печаль. Она качает головой. «Как ты могла? – говорит она. – Разве можно быть такой грубой? Ты ему даже не ответила! Ты ведь понимаешь, что это значит? Боюсь, тебя придется наказать. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Сказать мне нечего.
Я стою у закрытой двери в комнату Корделии. За дверью сидят Корделия, Грейс и Кэрол. У них совещание. Совещаются они обо мне. Я никак не оправдываю их ожиданий, хотя они постоянно дают мне возможность исправиться. Мне нужно больше стараться. Но в чем именно стараться?
Утра и Мира поднимаются по лестнице и идут ко мне по коридору. Они защищены броней старшинства. Мне страстно хочется быть их ровесницей. Я знаю, что они – единственные, у кого есть хоть какая-то власть над Корделией. Я вижу в них союзниц; точнее, думаю, что они стали бы моими союзницами, если бы знали. Знали что? Даже в разговоре с самой собой я нема.
– Привет, Элейн, – говорят они. А потом: – Во что вы, девочки, играете сегодня? В прятки?
– Не могу сказать, – отвечаю я. Они улыбаются добрыми снисходительными улыбками и уходят к себе в комнату, делать педикюр и говорить о взрослых вещах.
Я облокачиваюсь на стену. Из-за двери доносятся неразборчивые голоса, смех – эта роскошь для меня недоступна. Мимо проплывает Мамочка, что-то напевая себе под нос. На ней рабочий халат, в котором она обычно рисует. На щеке мазок яблочно-зеленой краски. Она улыбается мне улыбкой ангела – благосклонной, но далекой:
– Здравствуй, милая. Скажи Корделии, что на кухне в жестянке есть для вас печенье.
– Можешь войти, – доносится из комнаты голос Корделии. Я смотрю на закрытую дверь, на ручку, на свою руку, которая тянется к ней – так, будто она больше не часть меня. Обычное дело. Так девочки этого возраста обращаются друг с другом. Или обращались тогда. Но я была в этом неопытна. Когда мои дочери приближались к опасному возрасту – к девяти годам, – я со страхом следила за ними. Осматривала их пальцы – нет ли обгрызенной кожи, – ступни, волосы. Задавала им наводящие вопросы: «Все в порядке? Твои подруги – они хорошие?» А дочери смотрели, будто недоумевая, о чем я говорю, отчего так беспокоюсь. Я думала, что они должны как-нибудь себя выдать: кошмарами, унынием. Но я ничего не видела. Это могло означать всего лишь, что они всё умело скрывают – так же умело, как я в свое время. Когда их подружки приходили к нам домой, я вглядывалась в лица – искала притворство, фальшь. Я стояла на кухне и вслушивалась в голоса в соседней комнате. Я думала, что смогу распознать. А может, всё было ещё хуже. Может быть, мои дочери сами такое творили. С кем-то еще. Это объясняло бы их ровное благодушие, отсутствие погрызов на пальцах, немигающие взгляды голубых глаз.
Обычно матери начинают тревожиться, когда дочери входят в подростковый возраст, но со мной было как раз наоборот. Я расслабилась. Вздохнула с облегчением. Маленькие девочки малы и прелестны только для взрослых. Друг для друга они не милые малышки. Друг для друга они большие и опасные.
Холодает все сильнее. Я лежу, подтянув колени поближе к груди. Я обдираю кожу со ступней; я умею это делать не глядя, на ощупь. Я беспокоюсь о том, что сказала сегодня, о выражении своего лица, о своей походке, о своей одежде, потому что всё это нуждается в улучшении. Я не нормальная, не такая, как другие девочки. Так говорит Корделия. Но она мне поможет. Грейс и Кэрол тоже помогут. Но понадобится много труда и много времени.
По утрам я вылезаю из постели, одеваюсь – жесткий хлопчатобумажный пояс с подвязками, чулки в рубчик, шерстяной пуловер с узором из узелков, юбка в шотландскую клетку. Мне помнится, что одежда была холодная. Вероятно, она и в самом деле была холодная.
Я надеваю туфли – поверх носков, натянутых на ободранные ноги.
Я выхожу на кухню, где мать готовит завтрак. На плите кастрюлька с кашей – смесью «Ред ривер», овсянкой или манкой – и стеклянный кофейник-перколятор. Я опираюсь руками на край белой плиты и смотрю, как медленно кипит и густеет каша, как всплывают и лопаются по одному неторопливые пузыри, выпуская маленькие клубы пара. Каша похожа на кипящую грязь. Я знаю, что, когда придет время ее есть, начнутся проблемы: у меня сожмется желудок, похолодеют руки, мне будет трудно глотать. Что-то плотно засело у меня под грудиной. Но я все равно запихаю в себя кашу, потому что так надо.
А иногда я наблюдаю за кофейником. Это интереснее, потому что видно всё: как пузырьки собираются под перевернутым стеклянным зонтиком, выжидают, и вдруг кипящая колонна взлетает вверх по центральной трубке, обдавая молотый кофе в металлической корзинке, и капли кофе просачиваются в прозрачную воду, окрашивая ее в бурый цвет, словно чернилами.
А иногда я поджариваю хлеб, сидя за столом, где стоит тостер. В каждой из приготовленных ложек лежит по темно-желтой капсуле рыбьего жира, похожей на маленький футбольный мяч. На столе сверкают белые тарелки и стаканы с соком. Тостер установлен на серебряную подставку для горячего. У него две дверцы, у каждой дверцы ручка в нижней части, а посредине вверху – светящаяся, красная от жара решетка. Когда тост готов с одной стороны, я поворачиваю ручку, дверцы открываются, тост соскальзывает вниз и сам собой переворачивается. Я думаю, не положить ли мне палец в тостер, на раскаленную докрасна решетку.
Все это лишь способы потянуть время, замедлить его, чтобы не пришлось выходить на улицу. Но что бы я ни делала, я против воли натягиваю зимние штаны, заправляю в них юбку, сбивая ее в комья между ног, надеваю теплые носки, сую ноги в сапоги. Пальто, шарф, варежки, вязаная шапка – я упакована, меня целуют, кухонная дверь открывается, закрывается за мной, и ледяной воздух врывается мне в нос, как выстрел. Я ковыляю через голый яблоневый сад – штанины лыжных брюк шелестят друг о друга – и выхожу на остановку.
Там ждут Грейс и Кэрол, а особенно – Корделия. Стоит мне выйти за порог дома, и от них уже не укрыться. Они со мной в школьном автобусе, где Корделия стоит рядом и шипит мне в ухо: «Не сутулься! На тебя люди смотрят!» Кэрол со мной в одном классе, и ее работа – отчитываться Корделии обо всех моих словах и поступках в течение дня. Они со мной на переменах, а в обеденный перерыв – в подвале. Они обсуждают, что я принесла с собой на обед, как держу бутерброд, как жую. По дороге из школы домой я должна идти перед ними или позади них. Впереди идти хуже, потому что они обсуждают мою походку и как я выгляжу со спины. «Не горбись, – говорит Корделия. – Не размахивай так руками».
При посторонних – даже при других детях – они никогда не говорят ничего такого: все, что происходит между нами – тайна, и ее должны знать только мы четверо. Я знаю, что хранить секрет – очень важно; выдать его было бы величайшим, неискупимым грехом. Если я наябедничаю, то стану вечным изгоем. Но Корделия так себя ведет и имеет такую власть надо мной вовсе не потому, что она мой враг. Наоборот. Про врагов я все знаю. На школьном дворе некоторые враждуют – они кричат друг другу всякое, а если это мальчишки, то и дерутся. На войне были враги. Мальчишки из школы Богоматери Неустанной Помощи – враги мальчишек из нашей школы. Во врагов положено кидать снежками и радоваться, если попал. На врагов можно злиться, их можно ненавидеть. Но Корделия – мой друг. Она желает мне добра, хочет помочь. Они все хотят помочь. Они мои друзья, мои подруги, мои лучшие подруги. До них у меня не было подруг, и теперь я в ужасе, что могу их потерять. Я хочу им угодить.
С ненавистью было бы проще. С ненавистью я бы знала, что делать. Ненависть – чистая, стальная, прямая, незыблемая; в отличие от любви.
Впрочем, бывают и передышки.
Иногда Корделия решает, что пришло время поработать над Кэрол. По дороге из школы домой она плетется позади, а меня приглашают идти рядом с Грейс и Корделией и думать, какие проступки Кэрол сегодня совершила. «Она чересчур умничает», – говорит Корделия. Мне не жалко Кэрол. Она всё это заслужила, когда творила то же самое со мной. Я радуюсь, что пришел ее черед.
Но исправление Кэрол скоро прекращается. Она слишком быстро ударяется в слёзы и плачет слишком громко, не владея собой. Она привлекает чужое внимание. На нее нельзя положиться – она может выдать тайну. В ней есть что-то ненадежное, на нее можно давить лишь до определенного предела, у нее нет чувства чести. Она годится только на роль информатора. Если это очевидно даже мне, то Корделии должно быть еще более очевидно.
Иногда выпадают и совершенно обычные дни. Корделия вроде бы забывает о том, что должна кого-то улучшать, и я решаю, что она отказалась от этого замысла. От меня ожидают, что я буду вести себя как ни в чем не бывало. Но это трудно – у меня такое ощущение, что за мной следят постоянно. В любой момент я могу переступить черту, о которой не подозреваю.
В прошлом году я почти не бывала дома одна после школы и на выходных. Теперь я хочу быть дома и одна. Я нахожу предлоги, чтобы не выходить играть. Я все еще называю это игрой.
«Мне нужно помогать маме», – говорю я. Это звучит убедительно. Девочки в самом деле помогают мамам по хозяйству. Особенно Грейс. Но это не настолько правда, насколько мне хотелось бы.
Моя мать управляется по дому очень быстро – она больше любит работать на свежем воздухе: сгребать листья осенью, чистить снег зимой, полоть по весне. Когда я помогаю, получается только медленнее. Но я околачиваюсь на кухне и клянчу какую-нибудь работу, пока мать не вручает мне метелку для пыли с наказом обмахнуть точеные ножки обеденного стола или края книжных полок. Иногда я режу финики, рублю орехи, смазываю формочки для маффинов куском вощеной бумаги, в которую был завернут кулинарный жир, или полощу выстиранное белье.
Мне нравится полоскать. Стиральная комната – маленькая, заключенная сама в себе, тайная, подземная. На полках стоят странные могущественные зелья: крахмал в белых узелках, похожих на птичьи какашки, синька, от которой белое делается еще белее, бруски мыла, бутылки хлорки с черепом и костями, воняющие санитарией и смертью.
Сама стиральная машина – белый эмалированный цилиндр, тяжелый корпус на четырех тоненьких ножках. Она медленно танцует по полу – «чуг-луг, чуг-луг», и белье с мыльной водой ворочается в ней, словно кипя на медленном огне. Словно каша из тряпок. Я наблюдаю, опершись ладонями на край стиральной машины, а подбородком о ладони, я распластываюсь по стенке, ни о чем не думая. Вода сереет, и мне это приятно, ведь из белья выходит грязь и оно становится чистым. Как будто это делаю я сама, одним взглядом.
Моя задача – пропустить стираное белье через отжим в стиральную раковину, наполненную чистой водой, потом во вторую раковину для второго отжима, а потом сложить в скрипучую корзину для белья. Потом мать выносит белье на улицу, развешивает и закрепляет деревянными прищепками. Иногда я тоже этим занимаюсь. На морозе белье застывает и становится жестким, как фанера. Однажды мелкий соседский мальчишка собирает конские яблоки, оставленные лошадью молочника, и прилепляет к нижней части свежевыстиранных простыней, развешенных для сушки. Все простыни белые. Всё молоко привозят в фургонах, запряженных лошадьми.
Устройство для отжима – два резиновых валика цвета бледной плоти, они вращаются кругом и кругом, проталкивая белье в щель. Вода с мыльной пеной брызжут, как сок. Я закатываю рукава, встаю на цыпочки, шарю в баке и вынимаю капающие комбинации, подштанники и пижамы. Они на ощупь как одежда в пруду, которая подворачивается под руку, и ты вдруг понимаешь: «Да это же утопленник». Я пропихиваю углы простыней в щель, валики подхватывают их и протаскивают насквозь. Рукава рубашек раздуваются, как воздушные шары, от пойманного в них воздуха, с манжет капает мыльная пена. Мне велели быть очень осторожной, когда я делаю эту работу: бывает, что у женщины рука попадает между валиками, ну или какая-нибудь другая часть тела, например, волосы. Я представляю себе, что произойдет с моей рукой, если она попадет в валики: кровь и плоть подвижным бугром отожмет ближе к плечу, а кисть выедет с другой стороны – плоская, как перчатка, и белая, как бумага. Сначала будет очень больно, я знаю. Но есть в этом и что-то притягательное. Через валики можно пропустить целого человека, и он выедет с другой стороны – плоский, аккуратный, оформленный, как засушенный в книге цветок.
– Ты выйдешь играть? – спрашивает Корделия по дороге из школы домой.
– Мне надо помогать маме, – отвечаю я.
– Опять? – говорит Грейс. – Что это она всё время помогает? Раньше так не было.