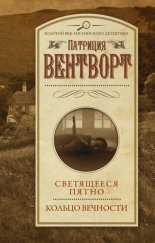Кошачий глаз Этвуд Маргарет
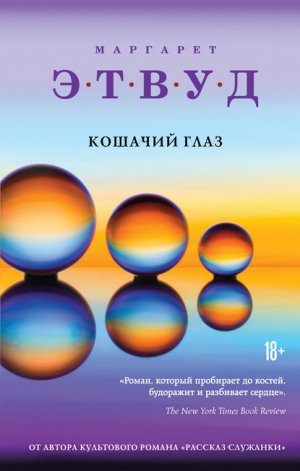
– Ты соврала, – радостно говорит Грейс, забывая, что надо шептать.
Я все молчу.
– Ты должна попросить у Бога прощения. Я так делаю каждый вечер.
Я сижу в темноте, обрывая кутикулы. Я думаю о том, как Грейс просит у Бога прощения. Но за что? Бог прощает, только если ты жалеешь о сделанном, а Грейс никогда ни о чем не жалеет. Она никогда не думает, что поступила неправильно.
Грейс, Корделия и Кэрол идут впереди, я отстаю от них на целый квартал. Сегодня они не разрешают мне идти с ними, потому что я не слушалась, но и не разрешают мне слишком сильно отставать. Я шагаю в такт песне «Мы – веселая компашка». У меня в мозгах пустота – ничего, кроме этих слов. Я иду, опустив голову, разглядывая тротуар и водосточную канаву – нет ли там серебряной бумаги от сигарет. Хотя я давно уже не собираю серебряную бумагу. Я знаю, что ничего ценного с ней не сделаешь.
Я вижу лист бумаги с цветной картинкой. Поднимаю его. Я знаю, кто там нарисован: это Дева Мария. Эта бумажка – из школы Богоматери Неустанной Помощи. «Ссаные помочи». Дева Мария – в длинном голубом одеянии, под которым совсем не видно ее ног. На голове у нее белое покрывало, а поверх него – корона и желтый нимб, из которого торчат лучи света, как гвозди. Она улыбается печально, разочарованно; руки распростерты, словно она приглашает гостей, а сердце – снаружи, и в него воткнуто семь мечей. Во всяком случае, это выглядит как мечи. Сердце большое, красное и гладкое, как атласная подушечка для булавок или валентинка. Под картинкой написано: «Семь скорбей».
Дева Мария иногда мелькает в газете, которую нам выдают в воскресной школе, но ее не изображают в короне или с сердцем вроде подушечки для булавок, и ее никогда не увидишь саму по себе. Она всегда служит фоном. Ее не очень-то и восхваляют, разве что на Рождество, да и то главную роль в это время играет младенец Иисус. Когда миссис Смиитт и тетя Милдред говорят о католиках – это иногда случается за воскресным обедом, – то неизменно отзываются о них с презрением. Католики молятся статуям и пьют за причастием настоящее вино, а не виноградный сок. «Они поклоняются папе римскому», – говорят Смиитты. Или: «Они поклоняются Деве Марии». Словно это что-то ужасно плохое.
Я внимательно смотрю на картинку. Но я знаю, что оставить ее себе – опасно, и я ее выбрасываю. Это верное решение – те трое уже остановились, ждут, чтобы я их догнала. Любой мой поступок, за исключением ходьбы, привлекает их внимание.
– Что это ты сейчас подобрала? – спрашивает Корделия.
– Бумагу.
– Какую еще бумагу?
– Просто бумагу. Газету из воскресной школы.
– Зачем ты ее подобрала?
Когда-то я бы обдумала этот вопрос и постаралась ответить правдиво. Теперь я говорю:
– Не знаю.
Это единственный возможный ответ, который не приведет к насмешкам или дальнейшему допросу.
– Что ты с ней сделала?
– Выбросила.
– Не подбирай предметы на улице, – говорит Корделия. – На них микробы.
На этом она оставляет меня в покое.
Я решаю делать нечто опасное, бунтарское, возможно, даже кощунственное. Раз я больше не могу молиться Богу, я буду молиться Деве Марии. Это решение меня пугает, словно я собираюсь что-то украсть. Сердце бьется сильней, руки холодеют. Я чувствую, что обязательно попадусь.
Я решаю, что надо встать на колени. В церкви Смииттов мы не встаем на колени, но мне известно, что у католиков есть такое обыкновение. Я опускаюсь на колени рядом с кроватью и складываю руки, как дети на рождественских открытках, только на мне пижама в синюю полоску, а те дети всегда в ночных рубашках. Я закрываю глаза и стараюсь думать о Деве Марии. Я хочу, чтобы она мне помогла или, по крайней мере, подала знак, что слышит меня. Но я не знаю, что сказать. Меня никогда не учили к ней обращаться.
Я пробую представить, как бы она выглядела, если бы я встретила ее на улице: во что она была бы одета – по-современному, наподобие моей матери, или в это голубое платье с короной, и если в голубое платье – то собралась бы толпа на нее поглазеть? Может, люди решили бы, что она только что играла в рождественской пьесе. Но если у нее снаружи сердце, пронзенное мечами, это просто так не объяснишь. Я пытаюсь придумать, что бы я ей сказала. Но она уже знает. Она знает, как я несчастна.
Я молюсь все жарче. Мои молитвы – бессловесные, наперекор всему, отчаянные, безнадежные, бесслёзные. Ничего не происходит. Я до боли тру глаза кулаками. Мне мерещится лик, потом голубое пятно, и наконец я вижу лишь сердце. Вот оно, алое, круглое, окруженное темным светом, чернотой вроде светящегося бархата. В центре вспыхивает что-то золотое и гаснет. Точно, это сердце. Оно похоже на мою красную пластиковую сумочку.
Середина марта. На стеклах окон классной комнаты расцветают бумажные тюльпаны к Пасхе. На земле еще лежит снег – грязным кружевом, хотя зима уже мягчает и тускнеет. Небо становится ниже и непроницаемей.
Мы идем домой под низким глухим небом, серым и набухшим от сырости. Из него сыплются влажные мягкие хлопья, скапливаются на крышах и на ветках. Время от времени эти скопления соскальзывают и падают на землю с глухим ватным стуком. Ветра нет, все звуки приглушены снегом.
Не холодно. Я развязываю уши синей вязаной шерстяной шапки, чтобы они свободно болтались. Корделия снимает варежки, лепит снежки, швыряет в деревья, телефонные столбы, куда попало. Сегодня у нее выдался дружелюбный день: она берет под руки меня и Грейс, и мы маршируем по улице, распевая: «Мы идем без остановки». Я тоже пою. Мы вместе прыгаем и скользим.
Ко мне возвращается доля той эйфории, что я когда-то ощутила при виде первого снега: мне хочется ловить снежные хлопья ртом. Я позволяю себе, на пробу, смеяться, как смеются другие. Мой смех – притворство, попытка быть нормальной.
Корделия бросается навзничь на чей-то белый газон перед домом, растопыривает руки, движет ими в снегу вверх-вниз, делая снежного ангела. Хлопья падают ей на лицо, в смеющийся рот, тают, прилипают к бровям. Она моргает, закрывает глаза, чтобы в них не попадал снег. На миг мне кажется, что это какая-то совсем незнакомая девочка, сияющая светом еще неведомых добрых возможностей. Или жертва дорожной аварии, которую отбросило в снег.
Она открывает глаза, тянется к нам руками, мокрыми и красными, и мы ставим ее на ноги так, чтобы не нарушить получившийся рисунок. У снежного ангела перистые крылья и крохотная голова. Там, где руки Корделии останавливались – ближе к бокам – отпечатались ее пальцы, как когти.
Мы забыли о времени – уже темнеет. Мы бежим по улице, ведущей к мосту через овраг. Даже Грейс бежит – неуклюже, крича нам: «Подождите!» Сегодня для разнообразия в хвосте плетется она.
Корделия первой добегает до холма и несется вниз. Она пробует ехать, но снег слишком рыхлый, недостаточно ледяной, к тому же с примесью золы и гравия. Она падает и катится кубарем. Мы думаем, что она это нарочно – так же, как делала снежного ангела. Мы в восторге несемся к ней, запыхавшись и хохоча. Подбегаем как раз когда она встает.
Мы прекращаем смеяться – теперь мы видим, что она упала случайно, а не нарочно. Она не любит, когда с ней что-то происходит не по ее замыслу.
– Ты ушиблась? – спрашивает Кэрол дрожащим голосом, она испугана, она уже видит, что дело серьезное. Корделия не отвечает. Ее лицо снова закаменело, взгляд злобный.
Грейс переходит на другое место так, чтобы оказаться сзади Корделии – самую малость позади. С этой позиции она улыбается мне плотно сжатыми губами.
– Ты смеялась? – обращается ко мне Корделия. Я решаю, что она спрашивает, смеялась ли я над ее падением.
– Нет, – отвечаю я.
– Она смеялась, – ровным тоном говорит Грейс. Кэрол переступает ногами, чтобы оказаться на другой стороне дорожки, подальше от меня.
– Я дам тебе еще один шанс, – говорит Корделия. – Ты смеялась?
– Да, но…
– Отвечай только «да» или «нет».
Я молчу. Корделия взглядывает на Грейс, будто ища одобрения. Вздыхает – преувеличенный вздох, как у взрослой женщины.
– Ты опять лжёшь. Что нам с тобой делать?
Мне кажется, что мы стоим тут уже очень давно. Становится холодно. Корделия протягивает руку и стягивает с меня вязаную шапку. Спускается по склону, выходит на мост, колеблется мгновение. Подходит к перилам и швыряет мою шапку вниз, в овраг. Белый овал ее лица поворачивается ко мне:
– Иди сюда.
Значит, ничего не изменилось. Время будет тянуться так же, как раньше – бесконечно. Мой смех все-таки был ненастоящий, это я просто так задыхалась.
Я иду туда, где у перил стоит Корделия. Снег не хрустит под ногами, а проминается, будто утрамбовываешь вату. Звук такой, словно у меня внутри головы заполняют дырку в зубе. Я обычно боюсь так близко подходить к краю моста, но сейчас – нет. Страх – определенное чувство, а я сейчас не чувствую ничего определенного.
– Вон твоя дурацкая шапка, – говорит Корделия. И правда, шапка лежит внизу, все еще синяя на белом снегу, даже в сумерках. – Иди туда и подними ее.
Я смотрю на Корделию. Она хочет, чтобы я спустилась в овраг, где подстерегают плохие мужчины и где нам запрещено ходить. Я думаю, что будет, если я вдруг возьму и не пойду. Что сделает Корделия?
Я вижу, что это и ей приходит в голову. Может, она зашла слишком далеко и наконец наткнулась на какой-то стержень во мне, способный сопротивляться. Если я сейчас не повинуюсь – кто знает, как далеко зайдет мой бунт. Двое остальных тоже спустились с холма и смотрят – с безопасной точки на середине моста.
– Ну, иди же, – говорит Корделия уже мягче, словно подбадривает, а не приказывает. – Тогда получишь прощение.
Я не хочу туда спускаться. Это запрещено и опасно; уже темно, и склон наверняка скользкий, вдруг я не смогу влезть опять наверх. Но там моя шапка. Если я приду домой без нее, придется объяснять. Придется рассказать всё. А если я откажусь идти в овраг, что сделает Корделия? Может быть, рассердится и навсегда перестанет со мной разговаривать. Может быть, столкнет меня с моста. До сих пор она ничего такого не делала, не била меня, не щипала, но теперь, после того, как она бросила мою шапку с моста, кто знает, на что она еще окажется способна.
Я иду к концу моста.
– Когда возьмешь шапку, досчитай до ста, – приказывает Корделия. – Тогда можешь подниматься наверх.
Она больше не сердится. Она говорит так, словно объясняет правила игры.
Я лезу вниз по крутому склону, держась за ветки и стволы деревьев. Это даже не настоящая тропа, просто след, протоптанный теми, кто здесь поднимается и спускается: мальчишками, мужчинами. Девочки здесь не ходят.
Оказавшись среди голых деревьев на дне оврага, я смотрю наверх. Силуэт моста на фоне неба. Я вижу темные очертания трех голов, наблюдающих за мной.
Моя синяя шапка лежит на льду ручья. Я стою в снегу и смотрю на нее. Корделия права, это дурацкая шапка. Я смотрю на нее и чувствую, как в душе поднимается протест, потому что эта дурацкая шапка – моя и она заслуживает, чтобы над ней насмехались. Я больше не хочу ее носить никогда в жизни.
Я слышу – где-то журчит вода, внизу, подо льдом. Я делаю шаг на лед, тянусь к шапке, подбираю ее и проваливаюсь. Я стою по пояс в ручье, и меня окружают вставшие дыбом осколки льда.
Меня пронзает холод. Ботики наполняются водой, и туфли внутри них – тоже; вода пропитывает лыжные брюки. Наверно, я взвизгнула или издала какой-то другой звук, но сама, кажется, ничего не слышала. Я вцепляюсь в шапку и смотрю вверх, на мост. Там никого нет. Они, должно быть, ушли, убежали. Вот зачем мне велели считать до ста: чтобы они могли убежать.
Я пытаюсь двигать ногами. Они очень тяжелые, потому что в боты налилась вода. При желании я могла бы так и стоять тут. Сейчас уже настоящие сумерки, снег на земле синевато-белый. Он занес старые шины и куски ржавой жести, торчащие из воды; кругом – синие арки, синие пещеры, чистые и безмолвные. Вода в ручье холодная и мирная, она течет прямо с кладбища, с могил и костей. Это вода из мертвецов – растворенных, прозрачных, и я стою в ней. Если я скоро не пошевелюсь, то замерзну в ручье. Я стану мертвецом, упокоенным, прозрачным, как они.
Я иду вброд, обламывая края льда. Идти в ботах, полных воды, тяжело; можно поскользнуться и совсем свалиться в воду. Я хватаюсь за ветку, вытягиваю себя на берег, сажусь в синий снег, снимаю боты и выливаю из них воду. Рукава куртки промокли до локтей, варежки тоже. Теперь мои руки и ноги как будто режут ножами, и от боли у меня текут слезы.
Я вижу свет на краю оврага – там дома, невозможно высоко надо мной. Я не знаю, как мне лезть наверх, когда рукам и ногам так больно; я не знаю, как мне добраться до дома.
Голова наполняется черными опилками; мелкие пылинки тьмы залетают в глаза. Как будто снежинки – черные, как бывает на негативе. Снег сменился твердыми зернышками вроде града. Они шуршат на ветвях, словно перешептываются люди в битком набитой комнате, зная, что должны соблюдать тишину. Это мертвецы незримо выходят из воды и обступают меня. «Ч-ш-ш», – говорят они мне.
Я лежу на спине у ручья, глядя в небо. У меня больше ничего не болит. Небо отливает красным. Мост выглядит по-другому: он как будто поднялся выше и стал более сплошным, словно перила исчезли или заполнился промежуток между ними и мостом. И еще он светится – на нем лужицы света, зеленовато-желтого, я никогда не видела такого. Я сажусь, чтобы разглядеть получше. Тело кажется невесомым, как в воде.
На мосту кто-то стоит, я вижу темный силуэт. Сначала я думаю, что это Корделия за мной вернулась. Потом понимаю, что это не ребенок – слишком высокий. Лица не видно, только очертания. Один из источников желто-зеленого света – прямо за головой у этого человека, и свет как будто исходит лучами от головы.
Я знаю, что надо вставать и идти домой, но кажется гораздо легче остаться тут, в снегу, под градинами, нежно гладящими мне лицо. И еще мне очень хочется спать. Я закрываю глаза.
Кто-то обращается ко мне. Вроде бы голос зовет, только очень тихо, словно чем-то приглушен. Я вообще не уверена, что слышала. Я с натугой открываю глаза. Человек, стоящий на мосту, выходит наружу за перила. Или проходит сквозь них. Это женщина, я вижу длинную юбку. Или это длинный плащ? Она не падает, а приближается ко мне, словно шагая, но ведь там нет ничего, по чему она могла бы шагать. У меня нету сил на испуг. Я лежу в снегу, охваченная летаргией, и с ленивым любопытством слежу за женщиной. Мне тоже хотелось бы так ходить по воздуху.
Вот она совсем близко. Я вижу белое сияние ее лица, темный платок или капюшон на голове. Или это волосы? Она протягивает ко мне руки, и меня охватывает счастье. Под распахнутым плащом светится что-то красное. Это сердце, думаю я. Это сердце, которое снаружи, оно светится, как неон, как пылающий уголь.
И вдруг я ее больше не вижу. Но чувствую, что она рядом, не как обнимающие меня руки, но как дуновение теплого воздуха. Она мне что-то говорит.
«Теперь ты можешь идти домой, – говорит она. – Все будет хорошо. Иди домой».
Слова не звучат вслух, но она говорит именно это.
Пятна света на мосту исчезли. Я взбираюсь наверх в темноте, вокруг шуршит град, я цепляюсь за ветки и стволы, подтягиваюсь, туфли проскальзывают на утоптанном заледенелом снегу. У меня ничего не болит – даже ноги, даже руки. Я как будто лечу. Теплое дуновение движется вместе со мной, нежно касаясь лица.
Я знаю, кого видела. Это Дева Мария, сомнений нет. Даже когда я ей молилась, то не была уверена, что она по правде есть, но теперь я это знаю точно. Кто еще умеет так ходить по воздуху? У кого пылающее сердце? Да, не было ни голубого платья, ни короны; ее одежда казалась черной. Но ведь сейчас темно. Может, корона тоже была, просто я ее не видела. И вообще она может одеваться по-разному, в платья разного цвета. Это совершенно неважно, важно то, что она явилась меня спасти. Она не хотела, чтобы я замерзла в снегу. Она до сих пор со мной, невидимая, окутывает меня теплом и убирает боль, она меня все-таки услышала.
Я уже на главной тропе; светящиеся окна теперь ближе, прямо надо мной, по обе стороны. У меня слипаются глаза. Я даже иду не по прямой – меня шатает. Но я продолжаю передвигать ноги: шаг, другой.
Впереди – улица. Выйдя на нее, я вижу свою мать, она идет очень быстро. Пальто у нее нараспашку, голова не покрыта, полузастегнутые ботики хлопают. Увидев меня, она переходит на бег. Я застываю на месте и смотрю, как она бежит в пальто, полы которого разлетаются в сторону, и неуклюжих ботах. Я словно гляжу на кого-то совсем чужого, легкоатлета на соревнованиях. Я стою под фонарем, мать подбегает, и я вижу ее глаза – большие, блестящие от слез, – и волосы, припудренные снежной крупкой. Она без варежек. Она с ходу обнимает меня, и Дева Мария вдруг исчезает. Меня снова пронзают боль и холод. Я начинаю дрожать крупной дрожью.
– Я упала в воду. Я доставала свою шапку, – бормочу я. Голос глухой, язык едва ворочается.
Мать не спрашивает: «Где ты была?» или «Почему ты так задержалась?» Вместо этого она говорит:
– Где твои боты?
Они там, в овраге, их заносит снегом. Я забыла про них, и про шапку тоже.
– Шапка упала с моста, – говорю я. Мне надо выложить это враньё как можно быстрее. Мне до сих пор не приходит в голову, что можно рассказать правду о Корделии.
Мать снимает пальто и закутывает меня. Губы плотно сжаты, лицо испуганное и в то же время сердитое. Такое лицо у нее бывало в нашем детстве, когда там, на севере, мне или брату случалось пораниться. Она просовывает руку мне под мышку и тащит за собой. Каждый шаг отзывается болью в ногах. Я начинаю гадать, накажут ли меня за спуск в овраг.
Когда мы приходим домой, мать стаскивает с меня мокрую, заледеневшую одежду и сажает меня в теплую ванну. Внимательно осматривает пальцы моих рук и ног, нос, мочки ушей.
– Где были Грейс и Корделия? – спрашивает она. – Они видели, что ты упала в воду?
– Нет. Их там не было.
Я вижу, что она обдумывает, не позвонить ли их матерям – независимо от любых моих слов. Но я слишком устала, мне уже все равно.
– Мне помогла женщина, – говорю я.
– Какая женщина? – спрашивает мать, но я знаю, что правду говорить нельзя. Если я скажу все как есть, мне не поверят.
– Просто женщина.
Мать говорит, мне очень повезло, что нет обморожения. Я знаю, что такое обморожение – это когда пальцы отваливаются. Так Бог наказывает пьяниц. Мать вливает в меня чашку чая с молоком и укладывает в постель с грелкой, под фланелевые простыни, с двумя дополнительными одеялами сверху. Я все еще дрожу. Возвращается отец, и я слышу, как они тихо, беспокойно переговариваются в прихожей. Потом отец входит и кладет ладонь мне на лоб, и растворяется в тенях.
Мне снится, что я бегу по улице, на которой стоит наша школа. Я совершила какой-то проступок. Осень, горят костры из листьев. За мной гонится толпа. Она кричит.
Невидимая рука хватает мою руку и поднимает меня ввысь. Наверх ведут ступени, и я взбираюсь по ним. Кроме меня, их никто не видит. Теперь я стою в воздухе, люди смотрят на меня, задрав головы, но не могут достать. Они все еще кричат, но я их больше не слышу. Рты открываются и закрываются бесшумно, как у рыб.
Меня не пускают в школу два дня. Весь первй день я лежу в постели, плавая в хрупкой стеклянистой ясности жара. На второй день я начинаю обдумывать случившееся. Я помню, как Корделия бросила мою вязаную синюю шапку с моста. Я помню, как провалилась сквозь лед, и как мать бежала ко мне, и ее голова была присыпана крупкой. Все эти моменты несомненны, но промежутки между ними – в тумане. Там мертвецы и женщина в плаще, но скорее, как сон. Теперь я уже не уверена, что это в самом деле была Дева Мария. Я верю, что это была она, но я этого не знаю.
Я получаю от Кэрол открытку «Желаю скорейшего выздоровления» – ее засунули в щель для писем у нас на двери. В выходные Корделия звонит мне по телефону:
– Мы не знали, что ты упала в воду. Мы извиняемся, что не подождали тебя. Мы думали, что ты идешь за нами.
Голос звучит очень обдуманно, с точно отрепетированной интонацией, без тени раскаяния.
Я знаю: она сочинила что-то, чтобы скрыть подлинные события. Как и я. Я знаю, что ее заставили извиниться и что потом я буду за это расплачиваться. Но это первое извинение, которое я от нее услышала. Хоть оно и вынужденное, теперь я чувствую себя не сильнее, а слабее. Я не знаю, что сказать.
– Ничего, – выдавливаю я из себя. Думаю, что искренне.
Когда я снова прихожу в школу, Корделия и Грейс держатся вежливо, но отстраненно. Кэрол явно сильней испугана или сильней заинтересована.
– Моя мама сказала, что ты чуть не замерзла до смерти, – шепчет она, когда мы строимся в пары перед звонком. – Меня отлупили щеткой для волос. Всыпали по первое число.
Снег на газонах тает; на полах везде грязь – в школе, дома на кухне. Корделия осторожно присматривается ко мне. Когда мы идем из школы домой, я ловлю на себе ее оценивающие взгляды. Разговор натужный – мы притворяемся, что все нормально. Мы заходим в лавку и покупаем лакричные жгуты. Платит Кэрол. Мы трогаемся дальше, сося лакрицу, и Корделия произносит:
– Я считаю, Элейн нужно наказать за то, что она наябедничала. А вы как думаете?
– Я не ябедничала, – говорю я. У меня больше ничего не обрывается в животе, мне не приходится с усилием сдерживать слезы, а ведь раньше я бы именно так реагировала на подобное ложное обвинение. Мой голос – ровный, спокойный, разумный.
– Не смей возражать, – говорит Корделия. – Почему тогда твоя мать звонила нашим матерям?
– Да, почему? – подхватывает Кэрол.
– Не знаю, и мне плевать, – отвечаю я. И сама изумляюсь этим словам.
– Ты грубишь, – говорит Корделия. – А ну убери ухмылку с лица!
Я все еще трусиха, по-прежнему боюсь ее; это не изменилось. Но я поворачиваюсь и иду прочь. Словно шагаю с обрыва, веря, что воздух меня удержит. И он меня держит. Я понимаю, что не обязана ее слушаться. И что гораздо хуже – и гораздо лучше – я никогда не была обязана ее слушаться. Я могу делать что хочу.
– Не смей от нас уходить! – говорит Корделия у меня за спиной. – А ну вернись сюда сейчас же!
Но я теперь понимаю подлинную суть ее слов. Они – имитация. Она подражает кому-то из взрослых. Это такая игра. Во мне никогда не было недостатков, которые следовало искоренять. Это всегда была игра, и меня обдурили. Я сваляла дурака. Я сержусь на себя так же сильно, как на них.
– Десять стопок тарелок, – говорит Грейс. Когда-то этого было достаточно, чтобы призвать меня к покорности. Но теперь я думаю, что это просто глупо.
Я все иду. Меня переполняет отвага, от нее кружится голова. Они – не мои лучшие подруги. Они мне вообще не подруги. Меня с ними ничто не связывает. Я свободна.
Они плетутся за мной, комментируя мою походку, мой вид сзади. Если бы я обернулась, то увидела бы, как они меня передразнивают.
– Задавака! Задавака! – кричат они. В их голосах слышится ненависть, но вместе с ней – потребность. Я нужна им, а они мне – нет. Я к ним равнодушна. Во мне что-то твердое, кристаллическое, словно стеклянное ядрышко. Я перехожу улицу и иду дальше, жуя лакрицу.
Я больше не посещаю воскресную школу, я отказываюсь играть после уроков с Грейс, Корделией и даже с Кэрол. Я больше не хожу домой по мосту через овраг, а выбираю кружной путь – через кладбище. Когда они приходят втроем к нашей задней двери и зовут меня играть, я говорю, что занята. Они пытаются выманить меня показной добротой, но я больше не попадаюсь на эту удочку. Я читаю у них во взглядах жадность. Я будто вижу их насквозь. Почему я раньше так не умела?
Я много времени провожу за чтением комиксов в комнате брата, когда его там нет. Мне хотелось бы взбираться на небоскребы, летать благодаря волшебному плащу, прожигать дыры в металле кончиками пальцев, носить маску, видеть сквозь стены. Я бы хотела бить людей – преступников – и чтобы от каждого удара кулака разлетался лучами желтый или красный огонь. Ба-бах! Трах! Бубух! Я знаю, что мне хватит решимости. Я намерена каким-то образом всему этому научиться.
В школе я завожу новую подругу, ее зовут Джилл. Она любит другие игры – настольные. Я прихожу к ней домой, и мы играем в «Пиковую даму», «микадо», «снап». Грейс, Корделия и Кэрол слоняются на окраинах моей жизни, заманивая, насмехаясь, выцветая с каждым днем, все сильнее развоплощаясь. Я их уже почти не слышу, потому что не слушаю.
VIII. Половина лица
Много лет подряд я заходила в церкви. Я говорила себе, что хочу посмотреть на произведения искусства; я не знала, что ищу что-то. Я не осматривала церкви специально, даже если они были в путеводителе и имели историческую ценность. Я никогда не посещала их во время служб, сама эта идея была мне неприятна: меня интересовало то, что находится в церквях, а не то, что в них делают. По большей части я натыкалась на них случайно и входила, повинуясь импульсу.
Войдя, я не уделяла внимания церковной архитектуре, хотя и разбираюсь в ней: когда-то я писала рефераты о клересториях и нефах. Я смотрела на витражи, если они в этой церкви были. Я предпочитала католические храмы протестантским, и чем вычурней, тем лучше – есть на что поглядеть. Мне нравилась беззастенчивая пышность; позолота и барочные излишества меня не пугали.
Я читала памятные надписи на стенах и на плитах пола, особый пунктик у богатых англикан – они думали, что накопят больше бонусов у Господа, если их имена выбьют на какой-нибудь плите. Еще англикане любят изодранные военные флаги и всякие памятники погибшим на войне.
Но главное – я искала статуи. Статуи святых, фигуры крестоносцев на крышке саркофага, настоящих или тех, кто лишь притворялся крестоносцем; разного рода фигуры. Статуи Девы Марии я приберегала на закуску. Я приближалась к ним с надеждой, но всегда уходила разочарованная. Я не узнавала в этих статуях ту, кого они должны были изображать. Это были раскрашенные куклы, пресные, в бело-голубых нарядах, благочестивые и безжизненные. А потом я думала: с какой стати я ожидала чего-то другого?
Первый раз я поехала в Мексику с Беном. Это было к тому же наше первое путешествие вдвоем, и вообще мы впервые проводили время вместе. Я думала, что это ненадолго. Я даже не решила, хочу ли, чтобы в моей жизни опять появился мужчина; к этому времени я уже не считала, что лучшее средство забыть мужчину – завести другого. Я выдохлась. Но каким облегчением оказалось – быть с человеком без закидонов, которого так легко обрадовать.
Мы поехали сами по себе, на две недели. Оказалось, что эта поездка имеет некоторое отношение к бизнесу Бена. Сару мы оставили в семье ее лучшей подруги. Мы начали с Веракруса, попробовали местных креветок и проверили отели на предмет тараканов, потом взяли машину напрокат и поехали в горы, ища, как всегда, что-нибудь живописное и не кишащее туристами.
Мы наткнулись на небольшой городок у озера. По мексиканским меркам там было очень тихо. Мексика вообще показалась мне какой-то нутряной – как будто тело вскрыли и вывернули кровью наружу. Возможно, городок был не похож на другие из-за озерной прохлады.
Пока Бен осматривал рынок, ища, что бы сфотографировать, я зашла в церковь. Небольшую, бедную на вид. Внутри никого не было. Пахло древней кладкой, запущенностью, затхлостью. Я бродила по проходам, глядя на грубо намалеванные маслом остановки крестного пути, они выглядели как детские картинки-раскраски. Нарисовано было плохо, но искренне, от души.
И тут я увидела Деву Марию. Я ее не сразу узнала – она была не в обычном бело-голубом с золотом наряде, а в черном. Короны у нее тоже не было. Голова склонена, лицо в тени, руки распростерты ладонями наружу. У ее ног торчали огарки свечей, а черное платье было чем-то увешано – сначала я решила, что звездами, но оказалось, что это маленькие медные или оловянные руки, ноги, овцы, ослы, куры и сердца.
Я поняла. Это – Богоматерь потерянных вещей. Она возвращает утраченное. Она единственная из толпы деревянных, мраморных и алебастровых мадонн показалась мне настоящей.
Возможно, стоило помолиться ей, преклонить колени, зажечь свечу. Но я не стала этого делать, потому что не знала, о чем молиться. Что я потеряла? Что могла бы повесить ей на платье?
Через некоторое время пришел Бен и нашел меня.
– Что случилось? – спросил он. – Что ты делаешь на полу? Тебе нехорошо?
– Нет, – ответила я. – Ничего. Просто отдыхаю.
От лежания на холодном камне я промерзла насквозь, окоченела, руки и ноги свело судорогой. Я не помнила, почему оказалась на полу.
Мои дочери – обе – прошли через фазу, когда на всё отвечали «И?» Это означало «Ну и что?» Это началось, когда старшей исполнилось двенадцать или тринадцать лет. Они скрещивали руки на груди и смотрели пустым взглядом на меня, или на своих подруг, или друг на друга. «И?»
– Не надо так говорить, – просила я. – Это меня с ума сводит.
– И?
Корделия в этом возрасте пользовалась тем же словечком. Так же скрестив руки, с таким же неподвижным лицом и пустым взглядом. «Корделия! Надень перчатки, на улице холодно». – «И?» «Я не могу прийти, мне надо делать уроки». – «И?»
«Корделия, – думаю я. – Ты заставила меня поверить, что я – ничтожество».
«И?»
На это у меня нет ответа.
Лето приходит и уходит, наступает осень, потом зима, и умирает король. Я слышу это по радио в обеденный перерыв. Я иду обратно в школу по заснеженной улице и думаю: «Король умер». Теперь всё, что случилось при его жизни, окончательно ушло в прошлое: война, самолеты, летящие на одном крыле, озеро грязи вокруг нашего дома, много всего. Я думаю о его головах на монетах, числом много тысяч – теперь это головы мертвого человека, а не живого. Все деньги будут менять, и все марки тоже. Теперь на них будет королева. Та, что раньше была принцессой Элизабет. Я помню, как разглядывала ее на фотографиях, где она была гораздо моложе. У меня есть и еще какое-то воспоминание о ней, но оно очень туманно и мне почему-то неприятно.
Корделия и Грейс обе перескочили через класс. Теперь они в восьмом, хотя им всего по одиннадцать лет, а их одноклассникам по тринадцать. Мы с Кэрол Кэмпбелл еще только в шестом. Мы все теперь ходим в другую школу, ее наконец построили с нашей стороны оврага, так что нам не нужно ездить на автобусе и обедать в подвале. Новая школа – современное одноэтажное здание из желтого кирпича, снаружи похожее на почту. Классные доски в ней гладкие, щадящие зрение зеленые, вместо шершавых черных, а пол – линолеумный, пастельных цветов вместо скрипучего дощатого, как в школе имени королевы Марии. Нет отдельных дверей для мальчиков и девочек, раздельных площадок для игры. Даже учителя тут другие: моложе и мягче. Среди них есть молодые мужчины.
Я забыла многое – и даже забыла сам факт, что я это забыла. Я помню свою старую школу, но лишь смутно, будто последний раз была там пять лет назад, а не пять месяцев. Я помню, что ходила в воскресную школу, но без подробностей. Я знаю, что мне неприятно думать про миссис Смиитт, но не знаю, почему. Я забыла, как падала в обморок, забыла про стопки тарелок, про то, как провалилась в ручей и видела Деву Марию. Я забыла все плохое, что со мной случилось. Хотя я встречаю Корделию, Грейс и Кэрол каждый день, я не помню ничего, связанного с ними; помню только, что когда-то мы дружили – когда я была маленькая, до того, как у меня появились другие подружки. Что-то произошло, что-то, связанное с этими тремя, но оно – как текст мельчайшим шрифтом, как даты древних битв. Их имена для меня словно имена в сноске учебника или написанные угловатым, как паучьи ножки, почерком, побуревшими чернилами на форзаце старинной Библии. Не вызывают никаких чувств. Как дальние родственники, живущие далеко и едва мне знакомые. Кусок времени куда-то пропал.
Никто никогда не говорит об этом пропавшем куске, кроме моей матери. Иногда она произносит что-нибудь вроде: «Когда у тебя были трудности», и я теряюсь. О чем она? Эти намеки на трудные времена кажутся мне туманно угрожающими и смутно оскорбительными: я не из тех девочек, у которых бывают трудности. Мне всегда легко. Вот я на групповой фотографии шестого класса, с широкой улыбкой. «Счастлива, как устрица» – так обычно говорит моя мать. Я счастлива, как устрица – в жесткой раковине, плотно закрытой.
Мои родители трудятся в доме и во дворе. Отец отделывает подвал и выгораживает там комнаты – это дело не быстрое, он пилит и стучит молотком в свободное от работы время, оборудуя фотолабораторию и чулан для домашних консервов. Перед домом у нас теперь настоящий газон. В саду посадили персик и грушу, заложили грядку для спаржи и целый огород других овощей. Бордюры ломятся от цветов: тюльпаны и нарциссы, ирисы, пионы, гвоздики, хризантемы; на каждый месяц свои. Иногда меня заставляют помогать, но обычно я наблюдаю со стороны, как родители самозабвенно возятся в грязи кверху задом, копают, полют, пачкая колени глиной. Они как дети в песочнице. Я люблю цветы, но знаю, что ради них не пошла бы на такие труды, такие усилия, не стала бы так пачкаться.
Деревянный мост через овраг сносят. Все говорят, что давно пора, по нему уже опасно ходить. Его заменят бетонным. Однажды я иду туда, останавливаюсь на верху склона с нашей стороны оврага и смотрю, как сносят мост. Внизу у ручья лежит куча гнилых досок. Сваи еще стоят, как стволы мертвых деревьев, и кое-где торчат поперечины, но перил уже нет. Мне становится неспокойно, словно там внизу что-то захоронено – безымянное, но очень важное, – или будто на мосту кто-то есть, кого-то забыли там по ошибке, и теперь он застрял посередине и не может выбраться на твердую землю. Но, конечно, на мосту никого нет.
Корделия и Грейс заканчивают среднюю школу и переходят в старшие классы, в другие места: Корделия, по слухам, в частную школу Святого Себастьяна для девочек, а Грейс – в математическую в северном районе города. Она хорошо складывает числа, в аккуратные столбики. В последнем классе средней школы она все еще ходит с косичками. Кэрол на переменах крутится возле мальчишек, и часто двое-трое за ней гоняются. Они любят швырять ее в сугробы и натирать ей лицо снегом или, когда снега нет, связывать ее скакалками. Убегая от них, она сильно машет руками. Бежит она, странно вихляясь, медленно, чтобы ее поймали, и когда это случается, громко визжит. Она носит подростковый лифчик. Другие девочки ее недолюбливают.
На обществоведении я делаю доклад про Тибет, про молитвенные колеса и переселение душ, и про то, что у тамошних женщин по два мужа. На естествознании я провожу опыты по выращиванию разных растений из семян. У меня есть мальчик, как у всех. Время от времени он посылает мне записки на уроках, написанные очень черным карандашом. Иногда бывают вечеринки – с неловкими танцами, дурацкими шутками, возней (среди мальчишек) и мокрыми, неумелыми поцелуями со стуком зубов. Мой возлюбленный вырезает мои инициалы на своей новенькой парте и получает за это ремня. Он и за другое временами получает ремня. Это – предмет восхищения. Я впервые в жизни вижу телевизор, он похож на сцену с маленькими черно-белыми марионетками и не впечатляет.
Кэрол Кэмпбелл куда-то уезжает, но я этого не замечаю. Я перескакиваю из шестого класса сразу в восьмой, пропустив хронологию английских монархов и кровеносную систему, оставив позади своего бой- френда. Я стригусь. Я давно хотела это сделать. Мне надоели длинные волнистые волосы, которые нужно собирать резинками или заколками, мне надоело быть ребенком. Я с удовлетворением наблюдаю, как волосы падают с меня, словно рассеивается туман, и проступает голова – резче вылепленная, четче очерченная. Я готова идти в старшие классы. Я не прочь пойти туда прямо сейчас.
А пока я готовлюсь к этому, совершая перестановку в своей комнате. Я вычищаю из шкафа старые игрушки, выворачиваю все ящики письменного стола. В глубине ящика я нахожу одинокий стеклянный шарик «кошачий глаз» и несколько старых высохших каштанов. И еще – красную пластиковую сумочку, которую, как я помню, мне когда-то подарили на Рождество. Сумочка детская. Когда я беру ее в руки, в ней что-то гремит; внутри обнаруживается пятицентовик. Я беру его, чтобы потратить, а в сумочку кладу стеклянный шарик. Каштаны я выбрасываю.
Я нахожу свой старый фотоальбом с черными страницами. Я давно не пользуюсь фотоаппаратом, так что и про альбом забыла. В нем подклеены черными треугольничками фотографии, но я совершенно не помню, как их снимала. Например, несколько изображений чего-то вроде больших валунов у озера. И подписи: «Зорька», «Ромашка». Почерк мой, но не помню, чтобы я это писала.
Я уношу находки в подвал и кладу в сундук – место для всех старых вещей, которые не идут на выброс. Там лежит свадебное платье матери, несколько вычурных серебряных столовых приборов, портреты в сепиевых тонах, изображающие неизвестных мне людей, таблички для ведения счета в бридже, украшенные шелковыми кистями, еще довоенные. Тут есть и несколько наших с братом рисунков – его космические корабли с красными и золотыми взрывами, мои хрупкие старомодные девочки. Я с отвращением гляжу на их фартуки и бантики, примитивные лица и руки. Мне неприятно смотреть на вещи из своего детства. Я решаю, что эти рисунки очень неумелые. Что сейчас я рисую гораздо лучше.
За день до начала занятий в новой школе у нас звонит телефон. Это Мамочка Корделии; она хочет поговорить с моей матерью. Я решаю, что у них какие-то скучные взрослые дела, и продолжаю читать газету на полу в гостиной. Но мать, положив трубку, приходит ко мне.
– Элейн, – произносит она. Это что-то необычное: она не часто использует мое имя. Голос у нее серьезный.
Я поднимаю голову от приключений мага Мандрагора. Она смотрит на меня:
– Это звонила мама Корделии. Корделия записалась в твою школу. Ее мама спрашивает, не хотите ли вы ходить в школу и из школы вместе.
– Корделия? – повторяю я. Я не видела ее и не говорила с ней целый год. Она исчезла без следа. Я выбрала именно эту школу, потому что могу ходить туда пешком, а не ездить на автобусе; почему бы не ходить вместе с Корделией? – Хорошо.
– Ты уверена, что тебе этого хочется? – спрашивает мать с некоторым беспокойством. Она не объясняет, с чего вдруг Корделия теперь будет в моей школе, а я не спрашиваю.
– Почему же нет? – говорю я. Я уже соскальзываю в легкомыслие, типичное для этого возраста, но еще я не могу понять, на что мать намекает. Меня попросили оказать Корделии – или ее маме – какую-то мелкую любезность. Моя мать всегда считает, что подобные услуги следует оказывать, когда тебя об этом просят. Что же ее вдруг смутило?
Она не отвечает. Вместо этого она зависает. Я возобновляю чтение комикса.
– Так я позвоню ее маме, или ты хочешь сама поговорить с Корделией?
– Позвони ты, – говорю я. И добавляю: – Пожалуйста.
У меня сейчас нет особого желания говорить с Корделией.
Наутро я захожу за ней – для меня это по дороге в школу. Дверь открывается, в проеме стоит Корделия, но она изменилась. Она уже не длинная, не поджарая; она отрастила полноразмерную грудь, прибавила в бедрах, лицо тоже как-то отяжелело. У нее уже не прическа «паж», а длинные волосы. Они собраны в хвост резинкой, к которой приделаны маленькие белые тряпочные ландыши на проволоке. В челке высветлена прядь перекисью водорода. Губная помада у нее оранжевая, и лак на ногтях тоже оранжевый. Я пользуюсь бледно-розовой помадой. При виде Корделии я понимаю, что не выгляжу как подросток – я выгляжу как маленькая девочка, одетая подростком. Я до сих пор худая и плоская. Мне страшно хочется быть старше.
Мы идем в школу вместе, сперва почти молча. Мимо заправки, мимо похоронного бюро, потом с милю вдоль полосы магазинов, универмага «Вулворт», аптеки «I.D.A.», лавки зеленщика, скобяной лавки – все они располагаются в двухэтажных зданиях желтого кирпича с плоскими крышами. Мы прижимаем к груди стопки учебников, и пышные хлопчатобумажные юбки шуршат вокруг голых ног. Сейчас, в конце лета, все газоны тускло-зеленые или желтые, истоптанные.
Я предполагала, что Корделия будет на класс старше меня. Оказывается, нет, она со мной сравнялась. Ее исключили из школы Святого Себастьяна за то, что она пририсовала пенис летучей мыши. Во всяком случае, так она рассказывает. Она говорит, что на доске в классе была нарисована летучая мышь с развернутыми крыльями и маленьким бугорком между ног. И когда учитель вышел из класса, Корделия подошла к доске, стерла бугорок и нарисовала другой, побольше и подлиннее – «не так уж намного больше» – и тут учитель вернулся и поймал ее с поличным.
– И это все? – спрашиваю я.
Не совсем. Еще она аккуратно подписала под бугорком: «Мистер Малдер». Малдером звали учителя.
Наверняка она еще что-то натворила, но рассказывает только об этом. И, подумав, добавляет, что ее к тому же оставили на второй год.
– Я была слишком маленькая для этой программы, – говорит она. Это звучит так, словно она повторяет чужие слова, вероятнее всего – слова своей матери. – Мне было всего двенадцать лет. Не следовало переводить меня через класс.
Сейчас ей тринадцать лет. Мне двенадцать. Меня тоже перевели через класс. Я гадаю, не случится ли и со мной то же – вдруг я тоже начну пририсовывать пенисы летучим мышам и останусь на второй год.
Школа, в которую мы ходим, называется Бёрнемская. Она построена недавно – прямоугольная, с плоской крышей, ничем не украшенная, невыразительная, похожая на фабрику. Это последняя мода в современной архитектуре. Внутри – длинные коридоры с пестрыми полами из какого-то материала, похожего на гранит, но не гранита. Желтоватые стены уставлены темно-зелеными шкафчиками. В школе есть актовый зал и система громкого оповещения.
Каждое утро нас оповещают по этой системе. Сначала идет чтение Писания и молитвы. Я склоняю голову во время молитв, но молиться отказываюсь, сама не зная почему. Затем директор рассказывает о ближайших мероприятиях, а также напоминает, чтобы мы не бросали на пол обертки от жвачки и не любезничали в коридорах, как супруги со стажем. Директор – мистер Маклеод, но все зовут его «Железный Купол» за лысое темя. Он шотландец. У Бёрнемской школы есть собственная тартановая расцветка, школьный герб с чертополохом и парой ножей, таких, какие шотландцы носят в гетрах, и девиз на гэльском языке. Всё это – тартан, герб, девиз и официальные цвета школы – принадлежит клану, к которому относится сам мистер Маклеод.
В вестибюле рядом с портретом королевы висит портрет леди Флоры Маклеод и двух ее внуков, играющих на волынке, на фоне Данвеганского замка. Нас призывают считать этот замок своим родовым обиталищем, а леди Флору – своей духовной водительницей. На пении мы разучиваем песню о лодке, идущей на Скай – про Красавчика Принца Чарли и про то, как он бежал от англичан, которые хотели его убить. Мы учим наизусть «Вы, кого водили в бой…»[7] и стихи про мышь[8], которые часто вызывают хихиканье, так как в них встречается слово «грудь». Я еще никогда не ходила в старшие классы, поэтому шотландский колорит воспринимаю как должное. Он слегка затушевывает чуждость малочисленных армян, греков и китайцев, учащихся в нашей школе, – мы все одинаково утопаем в море тартана.
Я очень мало кого знаю здесь, и Корделия тоже. Когда я заканчивала среднюю школу, в моем классе было всего восемь человек, а у Корделии – четыре. Так что школа для нас полна незнакомцев. Кроме того, мы в разных параллелях, а значит, даже не можем поддержать друг друга морально.
Я самая маленькая в классе. Этого следовало ожидать, так как я еще и самая младшая. У всех девочек уже выросла грудь; они источают сонный запах жаркого дня и пудры; кожа лица у них на вид скользкая, блестящая от маслянистых выделений. Я побаиваюсь их и не люблю раздевалку, где мы облачаемся в синие хлопчатобумажные спортивные костюмы с шароварами и с нашими именами, вышитыми на нагрудном кармане. В раздевалке я чувствую себя еще худосочней, чем обычно; случайно поймав свое отражение в зеркале, я вижу, как у меня выпирают ключицы и ребра. Во время игры в волейбол все прочие девицы тяжеловесно топчутся вокруг меня: голоса у них подчеркнуто-пронзительные, а новая, лишняя плоть трясется, как желе. Я стараюсь держаться от них подальше – просто потому, что они крупней и могут сбить меня с ног. Но на самом деле я их не боюсь. В каком-то смысле я их презираю, потому что они похожи на Кэрол Кэмпбелл – все время визжат и трепыхаются.
Среди мальчиков есть писклявые, у которых еще не поломался голос, но многие мальчишки огромны. Кое-кому из них пятнадцать, почти шестнадцать лет. По бокам головы волосы у них длинные, зачесаны назад и уложены на затылке бриолином в «утиный хвост». И еще они бреются. Некоторые выглядят так, словно вынуждены бриться почти все время. Они сидят на задних партах и высовывают длинные ноги в проход. Они уже оставались на второй год по крайней мере однажды; они уже махнули рукой на школу, а школа махнула рукой на них, и они просто отбывают время, ожидая освобождения. В коридорах они выкрикивают что-то вслед проходящим девочкам, иногда громко чмокают в их сторону или околачиваются вокруг их шкафчиков. На меня они не обращают внимания, я для них ребенок.
Но я не чувствую себя младше одноклассников. В каком-то смысле я старше их. В нашем учебнике по гигиене и здоровью есть глава о подростковых эмоциях. Если ей верить, меня должен все время сотрясать ураган подростковых эмоций – я должна каждую минуту то смеяться, то плакать. Как они выражаются, «словно на американских горках». Но ко мне это описание совершенно не подходит: я спокойна, я гляжу на выходки своих соучеников, ведущих себя точно по учебнику, со смесью научной любознательности и почти стариковской снисходительности. Когда Корделия произносит: «Правда ведь, он просто душка?», мне очень тяжело понять, что она имеет в виду. Иногда я в самом деле плачу без причины, как написано в учебнике. Но я не могу поверить в собственную печаль, не воспринимаю ее всерьез. Я рассматриваю в зеркало себя плачущую, заинтригованная зрелищем собственных слез.
В обед мы сидим вместе с Корделией в школьной столовой, среди отделки в бледных тонах, за длинными белесыми столами. Мы едим обеды, которые прели в наших шкафчиках с самого утра и слегка пахнут физкультурными кедами, пьем шоколадное молоко через соломинки и обмениваемся комментариями (остроумными и саркастическими, как нам кажется) в адрес других учеников и учителей. Корделия уже умеет это делать, потому что проучилась год в старшей школе. Она поднимает воротник своей блузки и наигранно презрительно усмехается. «Он катышек», – говорит она. Или: «Ну и козёл». Эти слова относятся только к мальчикам. Девочки могут быть мальчишницами, задаваками, дешевками, серыми мышками; они также могут быть зубрилами и подлизами, как мальчики – если считается, что они слишком прилежны в учебе. Но катышками и козлами девочки быть не могут. Мне нравится слово «катышек». Я думаю, что имеются в виду катышки свалявшейся шерсти, которые образуются на свитерах. У всех мальчишек, которых называют катышками, такие свитера. Я тщательно срезаю все катышки с собственной одежды.
Корделия собирает глянцевые фото кинозвезд и певцов – она выписывает их, выискивая адреса фан-клубов в журналах про кино, где на последней странице рекламируют полупрозрачное женское бельё фирмы «Фредерик из Голливуда» и шоколадные жевательные таблетки для похудения. Корделия крепит эти фото кнопками к доске объявлений, висящей у нее над письменным столом, или приклеивает скотчем к стенам своей комнаты. Когда я прихожу к Корделии в гости, мне всегда кажется, что за мной наблюдает целая толпа людей – их глянцевые черно-белые глаза следуют за мной по комнате. Некоторые снимки с автографами, и мы разглядываем их под лампой, чтобы понять, продавило ли перо бумагу. Если нет, значит, автограф не настоящий, а напечатанный. Корделии нравится Джун Аллисон. Еще ей нравятся Фрэнк Синатра и Бетти Хаттон. Про Бэрта Ланкастера она говорит, что он самый «секси» из всех.
По дороге из школы домой мы заходим в магазин пластинок и слушаем диски на 78 оборотов в будочке, обитой пробкой. Иногда Корделия покупает пластинку на свои карманные деньги (ей дают больше, чем мне), но по большей части она только слушает. Она ждет, что я, подобно ей, буду закатывать глаза в экстазе и стонать. Ей известны все ритуалы. Она знает, как нам положено себя вести, раз мы старшеклассницы. Но я считаю такое поведение наигранным и фальшивым; выполняя ритуалы, я не могу не чувствовать, что притворяюсь.
Мы несем пластинки домой к Корделии, ставим на проигрыватель в гостиной и врубаем полную громкость. Возникает Фрэнк Синатра – бестелесный голос, он елозит по нотам, будто кто-то поскальзывается на грязном тротуаре. Он въезжает на ноту, пошатывается, снова обретает равновесие и сползает липкой жижей к следующей ноте.
– Правда, он потрясный? – спрашивает Корделия. Она бросается на диван – ноги перекинуты через подлокотник, голова свисает вниз. Она ест пончик, посыпанный сахарной пудрой, и нос у нее тоже испачкан в этой пудре. – Мне кажется, он прямо вот тут, водит рукой вверх и вниз мне по хребту.
– Угу, – отвечаю я.
Приходят Утра и Мира. Утра говорит:
– Ты что, опять по нему страдаешь?
А Мира:
– Корделия, дорогая, ты бы не могла немного убавить громкость?
Теперь она разговаривает с Корделией особенно нежным голоском и часто называет ее «дорогая».
Утра уже студентка. Она ходит на вечеринки студенческих братств. Мира в последнем классе школы, но не нашей. Обе стали еще прекрасней, очаровательней и утонченней. Они носят кашемировые свитера и жемчужные серьги-гвоздики и курят сигареты. Они их называют «сигами». Яйца они называют «яйками», а завтрак – «зайкой». Если они хотят сказать «беременная», то произносят «бэ-рэ». Мать они по-прежнему зовут Мамочкой. Они сидят, курят и болтают – небрежно, с полупрезрительной иронией – о своих знакомых. Этих знакомых зовут как-нибудь вроде Микки, Бобби, Робби или даже Пудель. По именам трудно понять, мальчики это или девочки.
– Ты уже напитала свою персону? – спрашивает Утра у Корделии. Это их новое выражение. Оно означает: «Ты уже наелась?» – Это вообще-то для ужина.
Она имеет в виду пончики.
– Там еще много, – Корделия, по-прежнему свисая вниз головой, смахивает сахарную пудру с носа.
– Корделия, – говорит Утра. – Не задирай так воротник. Это выглядит дешево.
– Не дешево, а четко, – отвечает Корделия.
– «Четко»! – Утра закатывает глаза и выдыхает дым через нос. – Ты выражаешься как в рекламе бриолина.
Корделия наконец садится нормально, высовывает язык и смотрит на Утру.
– И? – наконец произносит она. – Что ты вообще понимаешь? Тебе уже на пенсию пора.
Утра, которой уже можно пить коктейли вместе со взрослыми дома перед ужином, а вот в барах пока нельзя, кривит рот.
– По-моему, ей вредно учиться в старших классах, – говорит она Мире. – Она становится твердолобой.