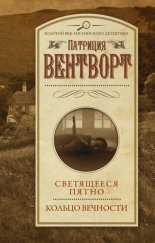Кошачий глаз Этвуд Маргарет
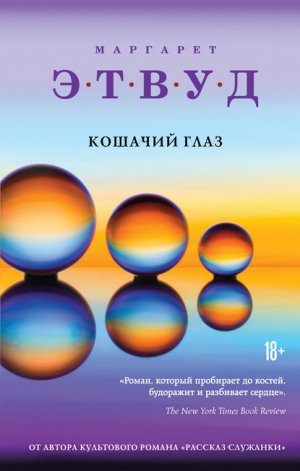
– У вас все в порядке?
Вопрос дурацкий, потому что ответ на него, совершенно очевидно, «нет». В ее бедственном состоянии явно поучаствовали рвота и алкоголь. Я уже вижу, как веду ее выпить кофе, а потом куда? Я не смогу от нее отделаться, она увяжется за мной в студию, наблюёт в ванну и уснёт на футоне. Я – легкая добыча, они видят меня издалека, различают в толпе, какое бы суровое лицо я ни строила. Уличные рэперы, мунисты, юноши с гитарами, что клянчат у меня жетоны метро. Стоит беспомощному в меня вцепиться, и я сама становлюсь беспомощной.
– Она просто пьяная, – говорит какой-то прохожий. Что значит «просто»? Это уже само по себе ад.
– Ну-ка, – говорю я. – Давайте я вам помогу. Вставайте.
Слабачка, мысленно говорю я себе. Сейчас она попросит денег, и ты ей дашь, и она потратит их на дешевый портвейн. Но она уже на ногах, она висит на мне. Если получится дотащить ее до ближайшей стенки, прислонить и отряхнуть от пыли, то можно будет подумать о бегстве.
– Ну вот, – говорю я. Но она не хочет облокачиваться на стену, она облокачивается на меня. Изо рта у нее пахнет так, словно там произошел несчастный случай. Теперь она плачет – рыдает, не скрываясь, как ребенок; она вцепилась пальцами в мой рукав.
– Не бросай меня, – говорит она. – Боже. Не бросай меня одну.
Глаза у нее закрыты, в голосе чистая нужда, чистое горе. Он бьёт мне в самую слабую, сострадательную часть души; но я – лишь замена, и кто знает, какую дыру, какую потерю я закрываю собой. Я ничего не могу сделать.
– Вот, – говорю я. Роюсь в кошельке, достаю десятку и сую, скомканную, ей в руку. Откупаюсь. Я – доверчивая сердобольная дура. У меня на сердце рана, она болит, и из нее текут деньги.
– Дай бог здоровья, – говорит она. Голова ее мотается из стороны в сторону и назад, ударяясь о стену. – Всяческих милостей от Бога… от Божьей матери…
Невнятное благословение, но кто докажет, что я в нем не нуждаюсь? Эта женщина, должно быть, католичка. Можно найти храм, запихнуть ее в дверь, как посылку. Она ихняя, вот пусть они с ней и разбираются.
– Мне надо идти, – говорю я. – У вас все будет хорошо.
Я откровенно вру. Она широко открывает глаза, пытаясь сфокусировать зрение. Ее лицо вдруг притихает.
– Я про тебя знаю, – говорит она. – Ты Божья Матерь, и ты меня не любишь.
Настоящий алкогольный бред, и человек совершенно не тот. Я выдергиваю руку, словно из розетки под током.
– Нет, – говорю я.
Она права, я ее не люблю. Глаза у нее не карие, а зеленые. Глаза Корделии.
Я иду прочь, руки у меня обагрены виной. Я отпускаю себе грех: я хороший человек. Что, если бы она умирала. Кроме меня, никто не остановился.
Я дура, потому что путаю это с добротой. Я не добра.
Я слишком много знаю, чтобы быть доброй. Я знаю себя.
Я знаю, что я мстительна, жадна, скрытна и коварна.
Мы возвращаемся в сентябре. На севере ночи холодные и листья уже начинают желтеть, но в городе еще жарко, еще влажно. Здесь поразительно шумно, воняет бензином и асфальтом, плавящимся от жары. Воздух в нашем доме затхлый, застоявшийся, он был заперт на жаре все лето. Из кранов поначалу течет ржавь. Я принимаю ванну в красноватой, едва теплой воде. Мое тело уже начало костенеть, выдавливать из себя чувства. Будущее захлопывается вокруг меня, как дверь.
Корделия все это время ждала меня. Я понимаю это, когда вижу ее на остановке школьного автобуса. Весной она чередовала доброту и жестокость, перемежая их периодами равнодушия; но сейчас она стала жестче, беспощадней. Словно ее гонит потребность – понять, как далеко можно зайти. Она теснит меня, будто к краю, к обрыву: еще шаг назад, другой – и я упаду.
Мы с Кэрол теперь в пятом классе. У нас новая учительница, мисс Стюарт. Она шотландка, у нее акцент. «Здрррравствуйте, девочки», – говорит она. Она держит на столе пучок засушенного вереска в банке из-под варенья и миниатюрный портрет Красавчика Принца Чарли, которого погубили англичане. У него была такая же фамилия, как у нее. В ящике стола она держит флакон лосьона для рук. Она готовит его сама.
Во второй половине дня она заваривает себе чай. Он пахнет не столько чаем, сколько снадобьем, которое она подливает из маленькой серебряной фляжки. У нее голубовато-белые волосы, очень красиво завитые. Она ходит в шуршащих шелковистых лиловых платьях и носит в рукаве кружевной платочек. Она часто надевает марлевую повязку на рот и нос, как у медсестер, потому что у нее аллергия на меловую пыль. Это не мешает ей кидаться в мальчишек, если они не слушают на уроке, щетками для стирания с доски. Она кидает незаметно и не сильно, но всегда попадает. После того, как она попадает в мальчишку, он должен принести щетку обратно и вернуть ей. Мальчишки не обижаются на нее за это; они, кажется, считают, что если в тебя бросили щеткой – это знак отличия.
Мисс Стюарт любят все. Кэрол говорит, нам повезло, что мы в ее классе. Я бы тоже ее любила, будь у меня силы на это. Но я слишком онемела, слишком порабощена.
Я ношу свой стеклянный «кошачий глаз» в кармане, чтобы за него держаться. Он лежит у меня в руке, как драгоценный камень, бесстрастно созерцая всё, что происходит вокруг, сквозь плоть и ткань. С его помощью я возвращаюсь в себя и начинаю смотреть собственными глазами. Впереди идут Корделия, Грейс и Кэрол. Я замечаю, какую они принимают форму, когда идут, как переходит тень с одной ноги на другую, пятна цвета, красный квадрат кофты, синий треугольник юбки. Они впереди – как марионетки, маленькие и четкие. Я могу видеть их или не видеть – как пожелаю.
Я дохожу до тропы, ведущей к мосту, и иду по ней, мимо плетей паслёна с красными ягодами, мимо колышущихся листьев, мимо крадущихся кошек. Те трое уже на мосту, но вот они остановились – ждут меня. Я смотрю на овалы их лиц, очертания волос вокруг. Лица у них как заплесневелые яйца. Ноги несут меня под горку.
Я думаю о том, как бы стать невидимой. Я представляю себе, как ем ядовитые ягоды паслёна, что растет у тропы. Я представляю себе, как пью хлорку из бутылки с черепом и костями, что стоит на полке в стиральной комнате. Я представляю себе, как прыгаю с моста и разбиваюсь, словно тыквенная голова – половина глаза, половина ухмылки. Я развалюсь на куски, как тыква, я буду мертвая, как мертвецы.
Я не хочу ничего такого делать, я боюсь этих вещей. Но я представляю себе, как Корделия велит мне сделать что-то из этого – не презрительно, а по-доброму. Я слышу ее сочувственный голос у себя в голове: «Ну-ка, давай. Ну же». И я все сделаю, чтобы угодить ей.
Я думаю, не рассказать ли брату, не попросить ли у него помощи. Но что я ему скажу? Я не могу предъявить ни фонарь под глазом, ни разбитый нос: Корделия не применяет силу. Если бы мальчишки меня гоняли или дразнили, он бы знал, что делать. Но мальчишки меня не трогают. Против девочек, их косвенных методов, их шепотков он бессилен.
И еще мне стыдно. Я боюсь, что брат надо мной посмеется, будет презирать меня за то, что я разнюнилась из-за каких-то девчонок, устроила шум из ничего.
Я на кухне, смазываю формочки для маффинов. Я вижу узоры, которые маргарин рисует на металле. Я вижу лунки своих ногтей, рваную плоть. Мои пальцы движутся все кругом и кругом.
Мать готовит тесто для маффинов – отмеряет соль, просеивает муку. Сито шуршит сухо, как наждачная бумага.
– Тебе не обязательно с ними играть, – говорит мать. – Наверняка есть еще девочки, с которыми ты можешь дружить.
Я смотрю на нее. Несчастье обволакивает меня, как медленный ветер. Что она заметила? О чем догадалась? Как намерена поступить? Она может сказать их матерям. Это самое худшее, что можно сделать. Но в то же время я думаю, что это маловероятно. Моя мать не похожа на других матерей, она не укладывается в саму идею матери. Она не живет в доме так, как живут в своих домах они; она воздушна, ее трудно пришпилить к месту. Другие матери не катаются на коньках на ближайшем катке, не гуляют сами по себе в овраге. Они кажутся мне взрослыми в каком-то смысле, в котором ее взрослой не назовешь. Я представляю себе мать Кэрол, одетую в гарнитур, мать Корделии с очками на цепочке и туманным взглядом на мир, мать Грейс с ее шпильками и обвисшим фартуком. Моя мать явится к ним в брюках, с букетиком сорняков, ни с чем не сообразная. Они ей просто не поверят.
– Когда я была маленькая и кто-нибудь обзывался, мы обычно говорили: «Кто обзывается, тот сам так называется», – говорит мать. Ее рука без остановки месит тесто – умелая, сильная.
– Они меня не обзывают. Они мои подруги.
Я сама в это верю.
– Ты должна уметь постоять за себя, – говорит моя мать. – Не позволяй им тобой помыкать. Не будь бесхребетной. Тебе нужно отрастить хребет.
Она плюхает тесто в формочки.
Я думаю о сардинках. У них есть хребет. Он съедобный. Косточки хрустят на зубах; одно прикосновение, и они распадаются. Наверно, и у меня такой хребет: его все равно что нету. Я сама виновата в том, что со мной происходит. В том, что не отрастила хребет.
Мать ставит миску с тестом и обнимает меня:
– Если бы я знала, что делать…
Это признание. Теперь я убедилась в том, что раньше только подозревала: в этой истории она бессильна.
Я знаю, что маффины надо ставить в духовку сразу, иначе они не поднимутся и будут испорчены. Я не могу позволить себе отвлечься, утешиться. Если я дам слабину, даже тот жалкий хребет, что у меня есть, рассыплется в прах.
Я отодвигаюсь от матери:
– Нужно поставить их в духовку.
Корделия приносит в школу зеркальце. Карманное, прямоугольное, без рамки. Она вынимает его, держит передо мной и говорит:
– Ты только посмотри на себя! Только посмотри!
В голосе звучит отвращение, как будто ее терпение лопнуло. Как будто мое лицо само по себе затеяло какую-то каверзу и преступило черту. Я смотрю в зеркало, но не вижу ничего необычного. Всего лишь мое лицо – с темными пятнами на губах там, где я оборвала кожицу.
Мои родители устраивают вечеринки с бриджем. Мебель в гостиной отодвигают к стенам и раскладывают два металлических карточных стола и восемь карточных стульев. Посреди каждого стола стоит вазочка с солеными орехами и другая со смесью конфет, которые называются «смесь для бриджа». Еще на каждом столе по две пепельницы.
Потом начинаются звонки в дверь, и приходят люди. Дом наполняется чуждым запахом сигарет – завтра утром он будет все еще здесь, вместе с немногими оставшимися конфетами и орехами, – и взрывами смеха, которые становятся все громче. Я лежу в постели и слушаю этот смех. Я чувствую себя одинокой, выброшенной. И еще я не понимаю, почему всё это оживление, шумы и запахи называются бриджем. Все это совсем не похоже на бриджи, которые я видела в сундуке у матери.
Иногда на бридж приходит мистер Банерджи. Я во фланелевой пижаме прячусь в углу прихожей, надеясь мельком его увидеть. Я вовсе не влюблена в него, ничего подобного. Я хочу его видеть, потому что беспокоюсь за него и чувствую душевное сродство с ним. Я хочу знать, как он держится, как справляется с жизнью, в которой его заставляют есть индеек и делать разные другие вещи. Не очень хорошо, судя по затравленному взгляду темных глаз и слегка истеричному смеху. Но если он может выстоять против тех, кто на него охотится (а на него точно идет охота), значит – и я могу. Во всяком случае, я так думаю.
Торонто скоро посетит принцесса Элизабет. Она приехала в Канаду вместе со своим мужем, он герцог. Это королевский визит. По радио передают приветственный гул толпы и торжественный голос описывает цвет одежды принцессы. Каждый день она в костюме другого цвета. Фоном звучит скрипичная музыка приморских канадских провинций, а я скрючилась на полу в гостиной, разложив газету «Звезда Торонто» и прижав ее локтями, и изучаю фотографию принцессы на первой странице. Она кажется старше, чем должна быть, и обыкновенней; уже не в форме герл-гайдов, как во времена Лондонского блица, но и не в вечернем платье и диадеме, как королева на портрете у нас в классе. Принцесса одета в обычный костюм и перчатки, в руке у нее сумочка, как у любой прохожей, а на голове дамская шляпка. Но все же это принцесса. Вся вторая страница газеты заполнена ее фотографиями: женщины приседают перед ней в реверансе, девочки подносят ей букеты. Она одаривает их улыбкой – всегда одной и той же, благосклонной. Эту улыбку называют «лучистой».
День за днем я, скрючившись на полу, листаю газеты. Я слежу за тем, как принцесса движется по карте – самолетом, поездом, автомобилем, из одного города в другой. Я запоминаю планы ее возможного проезда через Торонто. У меня будет хороший шанс ее увидеть – она проедет прямо рядом с нашим домом, по ободранной дороге, покрытой выбоинами, у которой с одной стороны кладбище с тонкими молодыми деревцами и свежими кучами земли, а с другой – пять новых гор грязи, стоящих в ряд.
Горы грязи – с нашей стороны дороги. Они появились недавно на месте полоски чахлого поля. Рядом с каждой горой – ее собственная яма, приблизительно в форме подвала дома, а на дне ямы слой грязной воды. Мой брат заявил, что одна из этих гор принадлежит ему; он собирается вырыть в ней штольню с вершины вниз, а потом другую сбоку, чтобы сделать боковой вход. Что именно он собирается делать внутри горы, никому не ведомо.
Я не знаю, зачем принцессу повезут мимо этих гор. Я не думаю, что ей почему-либо захочется их увидеть, но точно не могу утверждать, ведь она обозревает множество других вещей, которые ненамного интересней. На одной фотографии она стоит у здания муниципалитета какого-то города, на другой – у фабрики рыбных консервов. Но независимо от того, хочет ли она увидеть наши горы грязи, с них будет удобно смотреть на нее.
Я с нетерпением жду ее визита. Я чего-то ожидаю от него – хоть и не знаю, чего. Это та самая принцесса, что не побоялась бомбежки в Лондоне, та, что была смелой и мужественной. Мне кажется – в этот день что-то случится для меня. Что-то изменится.
Наконец королевский визит прибывает в Торонто. День пасмурный, местами накрапывает; поплёвывает с неба, как говорят. Я выхожу заранее и взбираюсь на вершину средней горы. Вдоль дороги, среди чахлых сорняков, уже выстроились в неровный ряд дети и взрослые. Кое у кого из детей в руках британские флажки. У меня тоже такой, их раздавали в школе. Народу немного – наш район заселен негусто, и к тому же многие соседи пошли в центр города, где есть тротуары. Я вижу Грейс, Кэрол и Корделию, они стоят дальше на дороге, у дома Грейс. Я надеюсь, что они меня не заметят.
Я стою на горе грязи, британский флажок уныло свисает с древка. Время идет, но ничего не происходит. Я думаю, не пойти ли домой послушать радио, чтобы узнать, где именно сейчас принцесса, но вдруг на дороге слева показывается полицейская машина, едет вдоль кладбища. Начинается дождик. В отдалении слышатся приветственные крики.
Появляются мотоциклы, потом автомобили. Я вижу, как люди, стоящие на дороге, поднимают руки, слышу там и сям крики «Ура». Машины едут слишком быстро, несмотря на выбоины. Я не знаю, какая из них – та самая.
Потом я вижу. Из одной машины торчит рука в бледной перчатке и машет. Вот она уже поравнялась со мной, вот движется мимо. Я не машу британским флажком и не кричу – я понимаю, что уже поздно, я не успею сделать то, к чему все это время готовилась и что стало мне ясно только сейчас. Нужно сбежать с горы, растопырив руки для равновесия, и броситься перед машиной принцессы. Перед машиной, на машину или в машину. Тогда принцесса велит затормозить. Обязательно велит, чтобы меня не переехать. Я не мечтаю о том, что меня куда-то увезут в королевском автомобиле, я реалистка. И вообще я не хочу бросать родителей. Но моя жизнь изменится, станет другой, для меня что-нибудь сделают.
Машина с перчаткой удаляется, уже завернула за угол, а я не тронулась с места.
Мисс Стюарт любит изобразительное искусство. Она велела нам принести из дома старые отцовские рубашки, и мы надеваем их, чтобы не испачкаться. Пока мы вырезаем, раскрашиваем и клеим, она расхаживает по классу в марлевой маске, заглядывая нам через плечо. Но если кто-нибудь, какой-нибудь мальчишка, нарочно рисует глупую картинку, она поднимает ее и всем показывает с наигранным возмущением:
– Этот мальчик думает, что он очень умный. Твои мозги рррассчитаны на большее, дорррогой!
И щелкает его по уху указательным и большим пальцами.
Мы вырезаем для мисс Стюарт все обычные бумажные фигуры – тыквы, рождественские колокольчики, – но и другими вещами тоже занимаемся. Мы творим сложные цветочные узоры с помощью циркуля, приклеиваем на картонные подложки странные предметы: перья, блестки, ярко окрашенные макаронины, куски соломинок для питья. Мы коллективно создаем фрески на доске или на коричневой бумаге из больших рулонов. Мы рисуем картинки из жизни других стран: Мексику с кактусами и сомбреро, Китай, где жители носят конические шляпы и плавают на лодках с нарисованным глазом, Индию, в которой мы пытаемся изобразить грациозных женщин, задрапированных в шелк, с медными кувшинами на головах и драгоценными камнями на лбу.
Мне нравятся эти картинки чужой жизни, потому что я могу в них поверить. Мне отчаянно нужно верить, что где-то живут эти иные, иностранные люди. Неважно, что в воскресной школе мне рассказывают: жители тех стран либо голодают, либо язычники, либо то и другое сразу. Неважно, что на мою еженедельную лепту их обращают в христианство, учат и кормят. Мисс Ламли считала, что они коварны, едят никому не известную или отвратительную пищу и замышляют вероломство против британцев. Но я предпочитаю версию мисс Стюарт, в которой солнце у них над головой – радостно-желтое, пальмы – ярко-зеленые, их одежда украшена цветами, а их народные песни полны радости и веселья. Женщины трещат меж собой на непонятном языке и смеются, показывая идеально ровные белоснежные зубы. Если эти люди есть на свете, я могу когда-нибудь уехать туда, где они живут. Мне необязательно оставаться здесь.
Сегодня, говорит мисс Стюарт, мы нарисуем то, чем будем заниматься после школы.
Мои одноклассники склоняются над партами. Я знаю, что они нарисуют: как они прыгают через скакалку, лепят веселых снеговиков, слушают радио, играют с собакой. Я смотрю на свой лист бумаги, все еще пустой. Наконец я рисую свою кровать и себя, лежащую в ней. У моей кровати темное деревянное изголовье с завитушками. Я рисую окно и комод. Потом я раскрашиваю ночь. Рука, держащая черный карандаш, нажимает все сильней, и вот картинка почти полностью черная, виднеются лишь слабые очертания кровати и моей головы на подушке.
Я смотрю на картинку в отчаянии. Я не это собиралась нарисовать. Это непохоже ни на чей другой рисунок, это неправильно. Мисс Стюарт разочаруется во мне, скажет, что мои мозги рассчитаны на большее. Я уже чувствую, что она стоит у меня за спиной, заглядывает мне через плечо; я слышу запах ее лосьона для рук, и другой запах – чая, который не чай. Она проходит чуть вперед, чтобы я ее увидела. Голубые глаза, окруженные морщинками, смотрят на меня поверх марлевой маски.
Несколько секунд она молчит. Потом спрашивает, но не сердито:
– Почему у тебя на каррртине так темно, дорррогая?
– Потому что ночь, – отвечаю я. Идиотский ответ, я это понимаю, как только слова вылетают у меня изо рта. Мой голос едва слышен даже мне самой.
– Понятно, – говорит она. Она не говорит, что я нарисовала не то или что должна же я после школы заниматься чем-то еще кроме сна. Она мимолетно касается моего плеча, прежде чем двинуться дальше по проходу. Ее прикосновение вспыхивает на миг – и гаснет, как задутая ветром спичка.
На окнах класса цветут бумажные сердца. Мы изготавливаем огромный почтовый ящик для посланий Валентинова дня, оклеив картонную коробку розовой гофрированной бумагой и красными сердцами в кружевах. В щель на крышке мы засовываем свои валентинки, вырезанные из специальных книжечек, которые продаются в универмаге «Вулворт». Особенные, лучшие валентинки предназначаются людям, которые нам особенно нравятся.
В сам Валентинов день всю вторую половину дня мы празднуем. Мисс Стюарт обожает празднества. Она принесла несколько десятков печений в форме сердечек, которые сама испекла. Они украшены розовой глазурью и серебряными шариками. Есть еще маленькие сердечки из корицы и пастельные с надписями. Это послания из какой-то далекой эры, не нашей. «Ото то!». «Она – моя крошка». «Ах ты мальчуган!»
Мисс Стюарт сидит за своим столом и наблюдает, а несколько девочек вскрывают ящик и разносят валентинки. Стопка валентинок растет у меня на парте. Большинство из них – от мальчиков. Я это определяю по корявому почерку и еще по тому, что большинство открыток не подписано. На других только инициалы или «Угадай кто» вместо подписи. На некоторых стоят буквы «Х» и «О». Все валентинки от девочек аккуратно подписаны полными именами, чтобы не было ошибки – кто кому что подарил.
По дороге домой из школы Кэрол хихикает и показывает свои открытки от мальчиков. У меня больше открыток от мальчиков, чем у нее, больше, чем собрали Корделия и Грейс в своем шестом классе. Но это знаю только я. Я спрятала валентинки у себя в парте, чтобы их не увидели по дороге домой. Когда меня спрашивают, я говорю, что получила совсем мало открыток. Я берегу, как сокровище, мысль, которая нова для меня, но не удивляет: мальчики – мои тайные союзники.
Кэрол только десять лет и девять месяцев, но у нее уже растет грудь. Пока не очень большая, но соски уже не плоские, а остроконечные, и под ними все набухло. Это легко заметить, потому что Кэрол выпячивает грудную клетку, ходит в свитерках в обтяжку, да еще и одергивает их так, чтобы обрисовать груди. На перемене она жалуется, что они болят. И что придется начать носить лифчик. «Да хватит уже про твои дурацкие сиськи», – говорит Корделия. Она старше, но у нее груди пока нет.
Кэрол щиплет себе губы и щеки, чтобы они покраснели. Она выуживает из мусорного ведра использованную губную помаду матери, прячет и приносит в школу. После школы она кончиком мизинца выковыривает помаду и мажет губы. Перед тем, как войти в дом, она стирает помаду салфеткой, но, видимо, не до конца.
Мы играем наверху, в комнате Кэрол. Когда мы спускаемся вниз, на кухню, чтобы попить молока, мать Кэрол восклицает:
– Что это у вас на лице, мадам?
Прямо в нашем присутствии она вытирает Кэрол лицо грязным посудным полотенцем.
– Чтобы я больше не видела такой дешевки! В твоем возрасте, подумать только!
Кэрол извивается, плачет и самозабвенно визжит. Мы смотрим – завороженно и в ужасе.
– Ну погоди, вот отец вернется! Будешь знать, как выставлять себя на всеобщее обозрение, – говорит мать Кэрол холодным, бешеным голосом. Как будто, если на тебя смотрят, это само по себе уже плохо. Тут она вспоминает о нашем присутствии. – А ну-ка, идите отсюда!
Через два дня Кэрол рассказывает, что отец всыпал ей по первое число – ремнем, пряжкой ремня, прямо по голой попе. Она говорит, что ей больно сидеть. Но это звучит так, словно она гордится. После школы, когда мы у нее в комнате, она показывает: задирает юбку, спускает трусы, и мы видим, что там и правда отметины, похожие на царапины, не очень красные, но все же.
Эти вещественные доказательства как-то не вяжутся с образом отца Кэрол, веселого мистера Кэмпбелла с мягкими усами, который зовет Грейс «прелестные карие глазки», а Корделию «мисс Лобелия». Очень странно думать, что он может хлестать кого-то ремнем. Но отцы и их повадки загадочны. Например, я знаю (хотя мне никто не говорил), что мистер Смиитт ведет у себя в воображении тайную жизнь, состоящую из поездов и побегов. Отец Корделии в тех редких случаях, когда мы его видим, очень мил, он шутит с нами и улыбается так, что хоть сейчас на рекламный плакат, но почему Корделия его боится? А она его боится. Все отцы, кроме моего, днем невидимы; днем правят матери. Но отцы выходят по ночам. С наступлением темноты они являются домой – носители настоящей власти, о которой нельзя говорить. В них кроется больше, чем видно глазу. И потому мы верим рассказу про ремень.
Кэрол говорит, что видела мокрое пятно на простыне своей матери – утром, когда та еще не застелила постель. Мы на цыпочках входим в спальню ее родителей. Кровать с лохматым шенилловым покрывалом до того аккуратно застелена, что мы боимся отвернуть одеяло и посмотреть. Кэрол открывает ящик тумбочки у кровати матери, и мы заглядываем внутрь. Там лежит резиновая штука вроде шляпки гриба и тюбик зубной пасты, в котором никакая не зубная паста. Кэрол говорит, эти штуки нужны для того, чтобы не получались дети. Никто из нас не хихикает и не смеется над ней. Мы читаем этикетку. Каким-то образом красные отметины на попе придали словам Кэрол больший вес.
Кэрол лежит на своей собственной кровати, покрытой белым покрывалом с рюшечками – занавески в комнате такие же. Кэрол изображает больную неизвестно чем. Мы намочили полотенце, положили ей на лоб, принесли ей стакан воды. Болезнь стала игрой, в которую мы играем.
– Ой, я такая больная, ой, мне так плохо, – стонет Кэрол, извиваясь на кровати. – Сестра, сделайте что-нибудь!
– Надо послушать ее сердце, – говорит Корделия. Она задирает на Кэрол свитер и майку. Мы все бывали у врачей, нам известны проделываемые походя унизительные процедуры. – Это не больно.
Вот груди, они будто распухли, соски синеватые, как вены на лбу.
– Пощупай ее сердце, – приказывает мне Кэрол.
Я не хочу его щупать. Не хочу касаться этой набухшей, неестественной плоти.
– Давай-давай, – говорит Корделия. – Делай что тебе велено.
– Она не слушается, – говорит Грейс.
Я протягиваю руку и кладу ее на левую грудь. На ощупь она как воздушный шар, наполовину заполненный водой, или полуостывшая овсянка. Кэрол хихикает:
– Ой, у тебя такие холодные руки!
Меня охватывает тошнота.
– Дура, я сказала «сердце», – говорит Корделия. – Я не сказала «сиську». Ты что, не знаешь, чем они отличаются?
Приезжает «скорая», и мою мать выносят на носилках. Я этого не вижу – мне рассказывает Стивен. Это произошло среди ночи, когда я спала. Стивен завел привычку тайно вставать и наблюдать звезды из окна своей спальни. Он говорит, что звезды гораздо лучше видно, когда большая часть городских огней погашена. Он говорит, что просыпаться среди ночи легко – нужно просто выпить на ночь два стакана воды. А потом сосредоточиться на времени, когда хочешь проснуться. Так делали индейцы.
И вот он не спал, и слушал, и прошмыгнул на другую сторону дома, где окно выходит на улицу. Он говорит, что «скорая» ехала с мигалкой, но без сирены, потому я ничего и не слышала.
Утром, когда я просыпаюсь, отец на кухне жарит бекон. Он умеет это делать, хотя никогда не готовит дома – только на костре. В спальне родителей на полу кучка мятых простыней, одеяла сложены стопкой на стуле; на матрасе огромная овальная клякса крови. Но когда я возвращаюсь из школы, простыней уже нет, кровать застелена, и смотреть больше не на что.
Отец говорит, что произошел несчастный случай. Но какой может быть несчастный случай в постели? Стивен говорит, что это был ребенок – ребенок, который вышел наружу слишком рано. Я не верю: у женщин, которые носят ребенка, большие животы, а у моей матери не было такого живота.
Мать возвращается домой из больницы слабая. Ей велели отдыхать. К этому никто не привык, даже она сама. Она не слушается приказа, встает как обычно, при ходьбе опирается рукой о стену или о мебель, стоит у раковины, сгорбясь. Плечи покрыты кофтой. Иногда матери приходится бросать какое-нибудь дело на полдороге, идти и ложиться. Кожа у нее бледная и сухая. Мать будто прислушивается к чему-то – может быть, к какому-то звуку, который слышится снаружи, – но звука нет. Иногда мне приходится повторять – с первого раза она не слышит. Как будто она уехала куда-то, а меня оставила; или забыла, что я здесь.
Все это пугает меня даже больше, чем пятно крови. Отец велит нам больше помогать маме – это значит, что он тоже испуган.
Потом мать поправляется, а я нахожу у нее в корзинке для рукоделия маленький вязаный носочек, пастельно-зеленый. Я гадаю, почему она связала только один. Она не любит вязать, так что, может быть, она связала один, а потом ей надоело.
Мне снится, что мои настоящие родители – миссис Файнштейн и мистер Банерджи.
Мне снится, что моя мать родила ребенка – одного из двух близнецов. Он серый. Где другой близнец, я не знаю.
Мне снится, что наш дом сгорел. От него ничего не осталось. На том месте, где он стоял, торчат почерневшие пни, будто от лесного пожара. Рядом вздымается огромная гора грязи.
Мои родители мертвы, но в то же время живы. Они лежат бок о бок, в летней одежде, и погружаются в землю – она твердая, но при этом прозрачная, как лед. Они скорбно глядят на меня, удаляясь.
Сегодня суббота. Мы едем в Корпус – на что-то, называемое «конверсат». Я не знаю, что такое конверсат, но я рада, что еду в Корпус – там мыши, змеи, опыты и никаких девочек. Отец спрашивает меня, не хочу ли я позвать подругу. Я говорю, что нет. Брат приводит Дэнни, у которого все время течет из носа. Он носит вязаные жилеты с узором из ромбиков и собирает марки. Они сидят на заднем сиденье – брата уже не укачивает – и говорят на «поросячьей латыни»:
– У-эй я-тебэй из-эй у-носэй ечет-тэй!
– У-нэй и-эй то-чэй? Очешь-хэй окушать-пэй?
– Ям-нэй ям-нэй!
Я знаю, что это – во всяком случае, со стороны Дэнни – по большей части спектакль, рассчитанный на меня. Он думает, я, как все девочки, начну дергаться и визжать. Когда-то я ответила бы чем-нибудь столь же тошнотворным, но такие вещи, как поедание соплей, меня больше не интересуют. Я смотрю в окно машины, притворяясь, что ничего не слышала.
Конверсат оказывается чем-то вроде музея. Зоологический отдел устроил день открытых дверей для широкой публики – чтобы познакомить ее с наукой и стимулировать ее интеллект. Так сказал мой отец, ухмыляясь, чтобы показать, что это отчасти шутка. Еще он сказал, что многим людям не помешала бы стимуляция интеллекта. Мать ответила, что, по ее мнению, лично ее интеллект уже достаточно стимулирован, так что она лучше поедет за продуктами.
На конверсат приходит много народу. По выходным в Торонто нечем особо заняться. У Корпуса праздничный вид; к обычным запахам – мышиного помета, средства для мытья паркетов и полироля – примешиваются запахи зимней одежды, табачный дым и женские духи. На стенах расклеены гирлянды из разноцветной бумаги, а между ними – бумажные стрелки, указывающие путь по коридорам, вверх и вниз по лестнице и в разные комнаты. В каждой комнате своя выставка, сгруппированная по темам – в зависимости от того, чему предположительно должны научиться посетители.
В первой комнате выставлены куриные эмбрионы в разных стадиях развития – от красной точки до большеголового, пучеглазого цыпленка с перьями вроде булавок. Он не миленький и пушистый, как цыплята на пасхальных открытках, но склизкий, с поджатыми когтями и чуть приоткрытыми веками, меж которыми виден полумесяц агатово-синего глаза. Эмбрионы заспиртованы: очень сильно пахнет формальдегидом. В другой комнате выставлена банка с близнецами – настоящими мертвыми идентичными человеческими близнецами, все еще прикрепленными к плаценте. У них серая кожа, и они плавают в чем-то похожем на грязную воду от мытья посуды. В их вены и артерии впрыснута разноцветная резина – в вены синяя, а в артерии красная, и мы видим, что их кровеносные системы соединены. Еще тут есть человеческие мозги в бутылке, похожие на огромный вялый серый грецкий орех. Мне не верится, что у меня в голове такая штука.
Еще в одной комнате стоит стол, где снимают отпечатки пальцев, и тогда можно проверить, правда ли они у тебя не такие, как у всех остальных людей. Здесь выставлен большой лист картона с увеличенными фотографиями отпечатков пальцев. Нам всем – брату, Дэнни и мне – снимают отпечатки. Дэнни и брат шутили по поводу куриных эмбрионов и близнецов: «Очешь-хэй урочку-кэй а-нэй ин-ужэй?» – но почему-то не задержались рядом с ними. Зато в этой комнате они проявляют бурный энтузиазм. Каждый ставит другому черное пятно на лбу чернильным пальцем и громко, зловеще произносит: «Метка черной руки!», пока наш отец, проходя мимо, не велит им прекратить. С ним – прекрасный мистер Банерджи из Индии. Он нервно улыбается мне и спрашивает:
– Как поживаете, мисс?
Он всегда зовет меня «мисс». Среди по-зимнему бледных лиц он выглядит еще темнее; его зубы сияют и сияют.
Рядом с отпечатками пальцев раздают листки бумаги: их можно попробовать на вкус и сказать, горькие они, как косточки персика, или кислые, как лимоны. Это доказывает, что некоторые вещи наследуются. Здесь же стоит зеркало; предлагается высунуть язык перед ним и проверить, можешь ли ты свернуть его в трубочку или подвернуть уголки, чтобы получилось похоже на лист клевера. Некоторые люди не умеют делать ни того, ни другого. Дэнни и мой брат оккупируют зеркало и строят мерзкие рожи, растягивая пальцами уголки рта и выворачивая веки, чтобы было видно красное.
Мы пробираемся сквозь толпу по коридорам, следуя бумажным стрелкам, голубым и желтым. У нас на ногах боты. Мы не сняли пальто. В здании жарко. Лязгающие батареи жарят на полную катушку, и воздух наполняется чужим дыханием.
Мы приходим в комнату, где лежит вскрытая черепаха. Она в белом эмалированном лотке, какие можно увидеть в мясных лавках. Она живая; или, может быть, мертвая, но ее сердце еще живое. Эта черепаха – эксперимент, который показывает, что сердце рептилии может биться еще долго после того, как она сама умрет.
В нижнем щитке панциря выпилена дырка. Черепаха лежит на спине, так что можно заглянуть в дырку, до самого сердца, которое бьется себе – медленно, блестя темно-красным в своей пещерке. Оно дергается, как хвост червя, когда его потрогаешь, опять удлиняется, снова дергается. Как будто кулак сжимается и разжимается. Как глаз.
К сердцу приделали провод, а другой конец подключили к громкоговорителю, и сердце бьется на всю комнату, мучительно медленно, будто старик поднимается по лестнице. После каждого удара я не знаю, будет ли еще один. Шаг, пауза, треск – как радиосигналы, которые, по словам брата, приходят из открытого космоса, – потом еще удар и слышен судорожный вдох. Жизнь утекает из черепахи, и я слышу это через громкоговоритель. Скоро она вытечет совсем, и черепаха останется пуста.
Я не хочу тут быть, но в комнате очередь – и позади меня, и впереди. Все эти люди – взрослые; я потеряла из виду Дэнни и брата. Меня теснят драповые пальто, мои глаза – на уровне их второй пуговицы. Я слышу другой звук, он перекрывает сердцебиение черепахи, как приближающийся ветер; шелест, вроде листьев тополя, но меньше, суше. Я вижу вокруг себя черную кайму, она сжимается. Это что-то вроде выхода из туннеля, и он стремительно удаляется; или это я удаляюсь от него, от пятна солнечного света. В следующий миг я вижу множество бот и доски пола, простирающиеся вдаль. Все это на уровне моих глаз. У меня болит голова.
– Она упала в обморок, – говорит кто-то, и так я узнаю, что именно сделала.
– Наверно, перегрелась.
Меня выносят на серый холодный воздух; это мистер Банерджи несет меня, что-то расстроенно бормоча. Выбегает отец и велит мне сесть так, чтобы голова была между колен. Я повинуюсь и гляжу на верхи своих ботиков. Отец спрашивает, не тошнит ли меня, и я говорю, что нет. Выходят брат и Дэнни и молча смотрят на меня. Наконец брат говорит:
– А-онэй ала-упэй вэй морок-обэй, – и они уходят обратно в здание.
Я остаюсь на улице, отец пригоняет машину, и мы едем домой. Я начинаю понимать, что совершила открытие, которое может оказаться полезным. Из места, где ты не хочешь быть, но должна, есть выход. Упасть в обморок – это как отойти вбок, выйти из собственного тела, из времени, или перейти в другое время. Когда приходишь в себя, уже наступило будущее. Время прошло без твоего участия.
– Представь себе десять стопок тарелок, – говорит Корделия. – Это твои десять шансов.
Каждый раз, когда я что-нибудь делаю не так, одна стопка падает и разбивается. Я отчетливо вижу эти тарелки. Корделия тоже их видит – именно она произносит «Трах-тарарах!» Грейс тоже видит, немножко, но ее «трахтарарахи» неуверенные, она смотрит на Корделию, чтобы та подтвердила. Кэрол пробует раз-другой, но над ней смеются: «Это был не трах-тарарах!»
– Всего четыре осталось, – говорит Корделия. – Следи за собой. Ну?
Я молчу.
– А ну прекрати ухмыляться, – говорит она.
Я молчу.
– Трах! – говорит Корделия. – Только три осталось!
Никто никогда не объясняет, что случится, если разобьются все стопки.
Я стою спиной к стене, у двери с надписью «ДЕВОЧКИ». Холод поднимается по ногам и заползает в рукава. Мне запрещено двигаться. Я уже забыла, почему. Я открыла, что могу наполнить голову музыкой («На честном слове и на одном крыле», «Мы – веселая компашка») и забыть почти обо всем на свете.
Сейчас перемена. Мисс Ламли с медным колокольчиком патрулирует двор. Лицо ее съежилось от холода. Она сосредоточилась на своем деле. Я ее все так же боюсь, хотя она больше не моя учительница. Мимо проходят шеренги девочек, сцепившись руками, и скандируют: «Мы идем без остановки». Другие мирно прогуливаются парочками. Они с любопытством смотрят на меня, потом отводят взгляд. Так люди в машинах на шоссе притормаживают и глядят из окон, если на обочине – авария. Они притормаживают, но не останавливаются. Они видят чужие неприятности и знают, когда следует держаться от них подальше.
Я стою чуть поодаль от стены. Запрокидываю голову, смотрю в серое небо и задерживаю дыхание. Вызываю у себя головокружение. Я вижу стопку тарелок – она качается и начинает валиться набок. Бесшумный взрыв, разлетаются осколки. Небо съеживается в булавочную головку, и меня накрывает волна осенних листьев. Потом я вижу собственное тело, лежащее на земле. Оно просто лежит, и все. Я вижу, как девочки толпятся и показывают пальцами, вижу мисс Ламли, которая проталкивается и с трудом наклоняется ко мне. Но все это видно мне сверху, будто я в воздухе, где-то рядом с надписью «ДЕВОЧКИ», смотрю вниз, как птица.
Я прихожу в себя. Надо мной, всего в нескольких дюймах от моего лица – лицо мисс Ламли. Она хмурится еще сильней обычного, словно я натворила дел. Девочки обступили нас кольцом и толкаются, чтобы лучше видеть.
У меня кровь – я разбила себе лоб. Меня ведут в кабинет медсестры. Она стирает кровь и прилепляет пластырем марлевый тампон. Вид собственной крови на мокром белом полотенце доставляет мне глубокое удовлетворение.
Корделия слегка сбавила напор: кровь – это внушительно, еще внушительней, чем рвота. По дороге домой Корделия и Грейс подчеркнуто заботливы, берут меня под руки, спрашивают, как я себя чувствую. От такого внимания с их стороны я трепещу. Я боюсь расплакаться, возрыдать огромными слезами примирения. Но не плачу – я уже научилась осторожности.
В следующий раз, когда Корделия велит мне стоять у стены, я снова падаю в обморок. Теперь у меня это почти всегда получается, когда я хочу. Я задерживаю дыхание, слышу набегающий шорох, вижу черноту, ускользаю вбок, прочь из своего тела, и оказываюсь где-то еще. Но у меня не всегда получается смотреть сверху, как в первый раз. Иногда меня окружает сплошная чернота.
Я стала известна как «та девочка, что все время падает в обморок».
– Она это нарочно делает, – говорит Корделия. – Ну-ка, давай, я хочу посмотреть, как ты падаешь. Давай-давай, упади.
Но теперь, когда она велит, у меня не получается.
Я начинаю проводить время вне тела, не теряя сознания. В этом состоянии я вижу все нечетко, будто меня две и одна наложена поверх второй, но не очень аккуратно. Есть прозрачный край, а рядом – кромка сплошной плоти, которая не чувствует – как шрам. Я вижу происходящее, слышу, что мне говорят, но могу не обращать внимания. Глаза открыты, но меня нет. Я в стороне.
VII. Богоматерь Неустанной Помощи
Я иду от «Симпсона» на запад, все еще в поисках какой-нибудь еды. Наконец покупаю ломоть пиццы навынос и ем на ходу, руками, сложив его вдвое и откусывая. Когда Бен рядом, я питаюсь по расписанию, нормальной едой, потому что так питается он, но когда я одна, то ем всякую дрянь и кусочничаю – мои старые повадки одиночки. Для меня это вредно, но я не должна забывать, каково мне приходится, когда я веду вредный для себя образ жизни. Иначе я начну принимать Бена как должное – со всеми его галстуками, стрижками и грейпфрутами на завтрак. А так я сильнее ценю его.
Вернувшись в студию, я звоню Бену, вычтя три часа, чтобы понять, сколько сейчас на западном побережье. Но слышу только свой собственный голос в автоответчике, а за ним гудок – словно официальные сигналы точного времени Обсерватории Доминиона, гласящие, что будущее наступило. «Я тебя люблю», – говорю я, чтобы Бен потом послушал. Тут я вспоминаю, что он сейчас в Мексике и вернется одновременно со мной.
На улице уже стемнело. Можно выйти и поесть чего-нибудь больше похожего на ужин, или попробовать сходить в кино. Вместо этого я заползаю на футон, под перину, с чашкой кофе и телефонным справочником Торонто и начинаю искать фамилии. Смииттов больше нет – уехали, умерли или повыходили замуж. Кэмпбеллов столько, что и палкой не разгонишь. Я нахожу Джона – под фамилией, которую когда-то носила сама. Иосифа Хрбика, однако, нет, хотя есть Хрбеки, Хрены, Храстники и Хрицусы.
Ризли тоже больше нет.
Нет и Корделии.
Мне странно опять лежать в постели Джона. Мне не приходило в голову, что этот футон – постель Джона, ведь я его никогда здесь не видела. Но, конечно, это так. Футон гораздо опрятней, чем знакомые мне постели Джона в прошлом, и гораздо чище. Его первым ложем был матрас на полу, с брошенным сверху спальным мешком. Я ничего не имела против, мне даже нравилось; как будто я опять живу в палатке. Обычно его постель окружал паводок пустых чашек, стаканов и тарелок с объедками. Это мне нравилось меньше. В те времена существовали правила этикета относительно подобного беспорядка: можно было его игнорировать, можно было убирать, но между одним и другим пролегала граница. Мужчина решал, что ты делаешь ему авансы, пытаешься его завоевать.
Однажды мы лежали на этом самом матрасе – в самом начале, когда я еще не начала убирать тарелки. Вдруг дверь спальни открылась и вошла совершенно незнакомая мне женщина. В грязных джинсах и бледно-розовой футболке; лицо худое и словно выцветшее, с огромными зрачками. Мне показалось, что она под каким-то наркотиком – тогда как раз начались времена, когда это стало возможно. Она стояла и молчала, с напряженным белым лицом, спрятав одну руку за спину, а я натянула на себя спальный мешок, чтобы прикрыться.
– Эй, – сказал Джон.
Она вынула руку из-за спины и что-то швырнула в нас. Это оказался бумажный пакет, полный теплых макарон, прямо с томатным соусом. От удара пакет разорвался, и нас облепило макаронами. Женщина вышла, так и не сказав ни слова, и хлопнула дверью.
Я испугалась, а Джон расхохотался.
– Что это было? Как, черт возьми, она сюда попала?
– Через дверь, – ответил он, не прекращая смеяться. Он вытащил у меня из волос макаронину и склонился ко мне, чтобы поцеловать. Я поняла, что эта женщина его подружка или бывшая подружка, и разозлилась на нее. Мне не пришло в голову, что у нее могли быть веские причины. Я еще не начала натыкаться на чужие шпильки в ванной – оставленные, чтобы пометить территорию, как собачьи «подписи» на столбике. Мазки губной помады, стратегически размещенные на подушках. Джон умел заметать следы, и если он их не заметал, значит, не хотел. Еще мне не пришло в голову, что у нее, значит, был ключ от квартиры.
– Она сумасшедшая, – сказала я. – По ней психушка плачет.
Мне совсем не было ее жалко. В каком-то смысле я ею восхищалась. Она не оглядывалась на приличия, на правила хорошего тона. Ее переполняла энергия простой недвусмысленной ярости. Швырнуть пакет макарон – в этом была простота, бесшабашность, небрежное величие. Этот жест подводил черту. Мне еще предстояло пройти долгий путь, чтобы стать способной на такой поступок.
Грейс читает молитву перед едой.
– Восхвали Господа и передай патроны, – говорит мистер Смиитт и тянется к фасоли в томате.
– Ллойд! – восклицает миссис Смиитт.
– Да что такого-то, – отвечает мистер Смиитт и одаряет меня однобокой улыбкой. Тетя Милдред поджимает усатый рот. Я жую резиновую еду Смииттов. Под скатертью я терзаю кутикулы. Воскресенье идет своим ходом.
После тушеного ананаса Грейс зовет меня в подвал, играть в школу. Я иду с ней, но вскоре вынуждена снова подняться наверх, так как мне нужно в туалет. Я попросила разрешения у Грейс, как мы просим разрешения у учителей в школе. Поднимаясь по лестнице из подвала, я слышу разговор тети Милдред и миссис Смиитт, моющих посуду на кухне:
– Она самая настоящая язычница, – говорит тетя Милдред. Как бывший миссионер она большая специалистка по язычникам. – Все, что ты для нее сделала, ни на йоту ничего не изменило.
– Она изучает Писание, Грейс мне рассказывает, – отвечает миссис Смиитт, и я понимаю, что они говорят обо мне. Я замираю на верхней ступеньке лестницы, откуда видна кухня: стол, на котором свалена грязная посуда, и частично спины двух женщин.
– Они все изучают Писание, – говорит тетя Милдред. – Их можно учить до посинения. Но это всего лишь зубрежка. Отвернешься на минуту, и они тут же возвращаются к прежней жизни.
Это так нечестно, что меня словно бьют под дых. Как они могут?! Мое сочинение на тему «Трезвенность» было особо отмечено! Я писала про то, как пьяные попадают в аварии на машине и замерзают до смерти в холода, потому что алкоголь расширяет кровеносные сосуды. Я даже знаю, что такое кровеносные сосуды! Я даже написала эти слова правильно! Я могу читать наизусть целые псалмы, целые главы из Писания, я могу подпевать всем разноцветным слайдам в воскресной школе, не глядя на экран, потому что выучила все песни.
– Чего и ждать от такой семейки? – говорит миссис Смиитт. Она не объясняет, что не так с моей семьей. – Другие дети это чувствуют. Они знают.
– Ты не думаешь, что они с ней слишком суровы? – спрашивает тетя Милдред. Она произносит это со смаком. Ей хочется знать, насколько именно они суровы.
– Это Божие наказание, – отвечает миссис Смиитт. – Она его заслужила.
Горячая волна проходит по моему телу. Это стыд, мне и раньше доводилось его ощущать – но он смешан с ненавистью, которой я раньше не знала или знала не в таком чистом виде. У этой ненависти есть форма – форма миссис Смиитт с единой огромной грудью и без талии. Эта ненависть сидит у меня в груди, подобно мясистому сорняку, сочному, с белым стеблем, как у репейника с вонючими листьями и мелкими зелеными репешками, растущего в зассанной кошками земле у тропы, ведущей на мост. Густая, тяжелая ненависть.
Я стою на верхней ступеньке, окаменев от ненависти. Но она направлена не на Грейс и не на Корделию. Я не захожу так далеко. Я ненавижу миссис Смиитт, ведь то, что я считала тайной, внутренним делом девочек, детей, оказалось вовсе не тайной. Ее обсуждали и сочли приемлемой. Миссис Смиитт все знала и одобряла. Она ничего не сделала, чтобы прекратить происходящее. Она считает, что я это заслужила.
Она переходит от раковины к кухонному столу, чтобы забрать очередную партию грязной посуды, и теперь я вижу ее целиком. Перед моим внутренним взором молнией проносится яркая картина: миссис Смиитт в бледных отжимных валиках стиральной машины, ногами вперед, кости трещат и уплощаются, кожа и мясо съезжают ближе к голове, которая вот-вот взорвется, как огромный воздушный шар, переполненный кровью. Умей я, как герои комиксов, пускать из глаз смертоносные лучи, я бы испепелила ее на месте. Она права, я язычница. Я не умею прощать.
Она, словно почувствовав мой взгляд, оборачивается и видит меня. Мы встречаемся глазами; она знает, что я все слышала. Но она не вздрагивает, не смущается, не чувствует потребности извиниться. Она самодовольно улыбается, не разжимая губ. И говорит – не мне, а тете Милдред:
– У маленьких кувшинчиков большие уши.
Ее больное сердце плавает в теле, как глаз. Злобное око. Оно меня видит.
Мы сидим на деревянной скамье в подвале церкви, в темноте, и смотрим на стену. Свет отражается в очках Грейс, которая, скосив глаза, наблюдает за мной.
- Без воли нашего Отца
- Смерть не настигнет и птенца.
- И, коли птах Господь призрел,
- Сколь ваш счастливее удел.
На слайде изображена мертвая птица, лежащая на огромной ладони, и падающий на нее луч света.
Я открываю рот, но не пою. Я теряю веру в Бога. Он у миссис Смиитт в кармане. Она точно знает, какие события – посланное от него наказание. Он с ней заодно, а меня они к себе не пускают.
Я думаю про Иисуса, который меня предположительно любит. Но он этого никак не проявляет, и я решаю, что от него помощи ждать не приходится. Против миссис Смиитт и Бога он ничего не поделает, потому что Бог сильнее. Бог вовсе не отец нам. Теперь я представляю его себе как нечто огромное, жесткое, неумолимое, безликое и несущееся вперед, словно по рельсам. Бог – что-то вроде паровоза.
Я решаю больше не молиться Богу. Когда настает время Господней молитвы, я стою молча и только шевелю губами.
«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим».
Я отказываюсь это произносить. Если эти слова значат, что я должна простить миссис Смиитт либо отправиться в ад после смерти, я выбираю ад. Иисус наверняка знал, как трудно прощать, потому и вставил это в молитву. Он всегда требовал чего-нибудь невозможного, например – чтобы человек отдал все свои деньги.
– Ты не молилась, – шепчет мне Грейс.
У меня холодеет в животе. Что хуже – отрицать или признаться? В любом случае накажут.
– Молилась, – говорю я.
– Нет. Я слышала.
Я молчу.