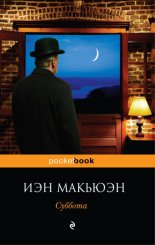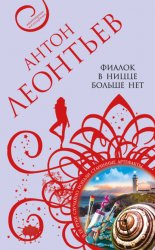Харассмент Ярмыш Кира

– Помнишь, как ты приезжала прошлой осенью и мы пили вино на крыльце?
Инга хотела сказать, что она много раз приезжала и они вместе пили вино не так уж редко, но сразу поняла, какой раз мать имеет в виду. Было холодно, накрапывал дождь, и мать фотографировала ее на этом самом бревне, а вечером, укутавшись в одеяла, они заговорили об отце. Той ночью Инга наткнулась на профиль Ильи в тиндере.
Ей показалось, что в ней снова что-то слегка ослабло, какая-то до певучей тонкости натянутая струна. Тогда все было совсем другим. Точнее, тогда ничего еще не было. Инга помнила, как лежала в кровати, скриншотила фотографии Ильи и посылала Максиму, а тот хвалил его бицепсы. Ее так волновали эти фотографии.
Гектор уронил перед матерью палку, подпрыгнул и припал на передние лапы, мотая хвостом, как пропеллером. Инга обрадовалась, что он отвлек ее от мыслей. Мать взяла палку и бросила в сторону, Гектор счастливо унесся за ней.
Вечером они снова вытащили кресла на крыльцо и сели там с вином.
– Мы с Максимом собрались в Италию поехать, – сообщила Инга матери. – Через месяц.
– Правильно, – кивнула мать. – У тебя вообще был отпуск в этом году?
– Нет.
– Тем более. После всех этих событий тебе полезно. Что про твоего начальника слышно?
Инга, не скрываясь, вздохнула. Сегодняшний день был таким неожиданно приятным и спокойным, что она сама была сейчас как озерная гладь. Разговоры об Илье нарушали ее безмятежность.
– Ничего не слышно. Вроде телефон его последний раз в сети появлялся где-то в Рязани.
– В Рязани? – удивилась мать. – Что он мог там делать?
– Мам, я понятия не имею. Мы с ним уже сто лет не общались. И сейчас я себя чувствую так же, как при разговоре с ментом в офисе.
– Извини. Я понимаю, что тебе должно быть очень нелегко это все. Ты переживаешь?
– Я переживаю, что кто-то может решить, будто я с этим связана.
Инга не понимала, почему она вдруг разоткровенничалась. Возможно, дело было в вине. Она исподтишка взглянула на мать и поймала ее изумленный взгляд.
– Ты-то каким образом можешь быть с этим связана?
– Ну не знаю, – нехотя промямлила Инга. – Мало ли что люди себе придумывают. Ты вон говорила, в фейсбуке пишут.
– Но они не о тебе пишут, а о нем. То есть я, конечно, встречала, как кто-то сокрушается, мол, какой это для него был тяжелый год, но твое имя там даже не упоминалось.
У Инги отлегло от сердца, и сразу же что-то внутри еще немного расслабилось и отпустило.
– Я вообще думаю уволиться, – неожиданно сказала она. Минуту назад она даже об этом не помышляла, а тут вдруг поняла – ну да, вообще-то думает.
– Ты же еще неделю назад не хотела?
– Ну, я не прямо завтра. До отпуска подожду. Может, Илья найдется. Может, еще что-то. Но я просто подумала – сколько можно там оставаться? Особенно теперь.
Инга снова подумала, как она устала. Вино разливалось по телу теплой утешительной волной.
Мать помолчала, повертев в руках бокал.
– Я думаю, это правильно, – наконец сказала она. – И вообще. Если для кого-то это и был тяжелый год, то для тебя.
Инга теперь совершенно отчетливо почувствовала, как у нее защипало в носу, а потом – как на глаза навернулись слезы. Она крепко зажмурилась, чтобы не заплакать. При матери плакать нельзя.
– Спасибо, – сдавленно сказала она, не разжимая век.
– Я пойду спать. – Мать поднялась одним легким движением. – Проснулась сегодня в пять и никак не могла заснуть. Наверное, это старость. Ты еще посидишь?
Инга кивнула, по-прежнему борясь с собой.
– Тогда не забудь погасить свет на крыльце. Спокойной ночи.
Едва она ушла, Инга шумно вздохнула. Как мало ей, оказывается, надо. Одно ласковое мамино слово – и все. Что бы по этому поводу сказала психолог Анна? Наверное, что у них с матерью токсичные отношения и та недостаточно уделяла ей внимания в детстве, вот Инга и выросла с постоянной оглядкой на ее одобрение. Но даже если так, что с того? Пусть редко, зато с какой немыслимой остротой она чувствовала себя любимой.
Дом стоял окутанный мглой, только лампочка над крыльцом светилась мягким желтым светом, как фонарь на носу корабля. Инга словно плыла куда-то в неведомую даль. Изнутри не доносилось ни звука, наверное, мать уснула. Инга тихонько встала и, зайдя в дом через другую дверь, поднялась на второй этаж. Ступеньки едва слышно поскрипывали.
Она взяла свою спортивную сумку и спустилась вниз. Из сарая достала жидкость для розжига, старые газеты и спички, кинула туда. Потом прихватила недопитую бутылку вина, погасила свет и крадучись вышла за калитку.
Когда Инга ехала на дачу, четкого плана у нее не было, но уж точно она не собиралась пьяной жечь костер ночью в лесу. Однако теперь она подумала: а почему нет? Округу она знала как свои пять пальцев, заблудиться здесь не могла. Наверняка она никого не встретит по пути, да и мать ее не увидит. К тому же ей казалось, что сегодня особая ночь, мирная и благостная, и если когда-то и нужно было с этим покончить, то именно сейчас.
Инга вышла из поселка и углубилась в лес. У кого-то во дворе залаяла собака, но Инга не обратила внимания. Фонарей здесь не было, поэтому она светила себе под ноги телефоном. Из-за этого лес вокруг казался темнее. Остановившись на секунду, она задрала голову и обомлела – все небо было усыпано звездами, они блестели и подрагивали. Некоторые висели низко, а другие, совсем крохотные и далекие, как будто прятались за их спинами. Инга не знала, сколько простояла так, запрокинув голову, но когда пошла дальше, то почувствовала, что в ней образовалась еще одна маленькая дырочка, только на этот раз она медленно ширится.
Инга забралась довольно далеко, где, она знала, люди ходят редко. Разве что особенно азартные грибники, но маловероятно, чтобы они вышли на охоту ночью. Она достала из рюкзака прожекторы и наручники – их выкинет в Волгу на обратном пути. Сам рюкзак набила газетами и как следует полила жидкостью, куртку тоже. Положив все это на землю, Инга чиркнула спичкой. Она была уверена, что придется повозиться, – никогда не умела мастерски разжигать костры, но рюкзак вспыхнул, как факел, так что Инге даже пришлось отскочить.
Она достала из сумки вино, вытащила пробку зубами и отхлебнула. Рюкзак полыхал, ярко освещая деревья вокруг. Инга чувствовала, что ее лицо, грудь и бедра уже жарко нагрелись, а в спину тычется ночной холод. Она опять задрала голову, чтобы посмотреть на звезды, но отсюда их было не видно – только кроны деревьев в вышине и туманивший их дым. От него у Инги заслезились глаза. Она подумала, какими красивыми будут звезды над Волгой, и ей захотелось, чтобы огонь поскорее догорел, так ей не терпелось взглянуть. В следующую секунду она вспомнила Илью, глядящего в потолок. Там, где он лежал, был еще один этаж и еще один потолок, а дальше – точно такое же небо, только он никогда не сможет на него посмотреть.
И тут наконец Инга заплакала.
Она заплакала сначала тихо, с жалобными всхлипами, как будто примериваясь, а потом все громче, громче – села на корточки, продолжая сжимать бутылку вина, уткнулась лбом в колени и зарыдала в полный голос, скуля и подвывая, как собака. Все, что держало ее, какой-то прочный каркас внутри, который весь день сегодня понемногу ослабевал, вдруг разом сломался. Она плакала сразу обо всем. Об Илье, который не посмотрит на небо, о его неприкаянных рубашках в шкафу, о сливовом пироге, который испекла мама, и о самой маме, которая ее, оказывается, любила и перед которой ей было так стыдно. Она плакала об Алевтине, которая переживает, и о Максиме, который жалел ее саму, Ингу, даже не подозревая, какой чудовищный поступок она совершила и что она не заслуживает жалости. Она плакала, вспоминая, как волокла Илью по полу. Какое некрасивое перекошенное лицо у него было, когда он ее душил. Как она собирала изумрудную россыпь от шампанского. Как он хрипел. Она плакала от сострадания к себе и наконец-то – от сострадания к нему, к тому, какими жуткими были для него последние минуты. А еще от страха, от бессилия, от усталости и от сокрушительного знания, что это навсегда.
Инга не заметила, как огонь догорел. Она поняла это, только когда ногам стало холодно, оторвала от коленей заплаканное лицо и увидела, что рюкзак лежит на земле тлеющей обуглившейся массой и по-прежнему дымит, хоть и не горит больше. Инга затоптала его ногами. Сначала хотела так и бросить, но потом испугалась. Кое-как подхватив обгоревшие вещи, а также прожекторы с наручниками, она доплелась до реки – к счастью, та была недалеко – и с обрыва скинула все это в воду.
Их департамент опять перешел под временное управление Меркуловой, но Мирошина наябедничала, что замену Илье уже ищут, проводят собеседования. Алевтина встретила это известие стоически. Из всего отдела она была единственной, кто все еще по-настоящему переживал, остальные постепенно привыкли. Весь офис как будто привык. Кабинет Ильи стоял темный, с закрытой дверью, к нему никто не подходил. Судя по тому, с какой легкостью наладилась работа, складывалось впечатление, что его и не было здесь никогда.
Ингу же после той ночи на даче словно прорвало: ей опять хотелось плакать все время. Слезы, казалось, стояли у самой поверхности и чуть что наворачивались на глаза. Если кто-то при ней упоминал Илью, то Инга тут же принималась усиленно глядеть в сторону, заклиная себя держаться хотя бы при людях. Инге всех было жалко, даже тех, кто в ее жалости точно не нуждался, – например, когда Мирошина рассказывала, как на выходных носила своего заболевшего кота к ветеринару, Инга чуть не разрыдалась от сочувствия и к коту, и к Мирошиной. Грустный дедушка, продающий грибы у метро, толстая женщина, раздававшая в переходе крохотных щенков, – все они разбивали ей сердце. Почему-то особенное впечатление на нее произвела одна посетительница кафе. Инга зашла туда по пути из офиса, чтобы купить еду навынос, и увидела хорошо одетую женщину средних лет, тоже явно возвращавшуюся с работы, которая стояла возле крутящейся витрины с пирожными и разглядывала их с выражением наивного восторга, как ребенок. Инга, расплачиваясь, не могла отвести от нее глаз. Она сразу придумала, что у этой женщины был ужасный день на работе, а теперь она возвращается домой к равнодушному мужу и неприветливому сыну-подростку, и этот момент, когда она смотрит на витрину с разноцветными сладостями, – ее единственная настоящая радость. Когда Инга выходила из кафе, ее трясло от беззвучных рыданий, и эта женщина даже приснилась ей ночью.
Сны Инге теперь снились каждую ночь – бессмысленные, но насыщенные, а главное, тревожные. Их нельзя было назвать кошмарами в прямом смысле. За ней никто не гнался, она не падала в пропасть, но при этом в них было разлито ощущение такой тоски, такой безысходности, что Инга испытывала физическое облегчение, просыпаясь.
Однако на работе больше ничего не происходило. Полицейский, похожий на хорька, не показывался, да и другие полицейские тоже, Ингу никуда не вызывали, а слухи постепенно сошли на нет. Хотя внутри она по-прежнему чувствовала себя неспокойно, ее дни проходили без потрясений.
На следующих выходных Инга поехала в Тамбов.
Вообще-то она не хотела туда ехать – с тех пор как она стала думать, что телефон все равно отследят, это потеряло смысл. Однако пока существовал хотя бы крохотный шанс, что этого не случится, телефон нельзя было оставлять на почте. Невостребованную посылку точно вскроют, и тогда даже эта призрачная возможность спасения для Инги растает.
Она долго колебалась, выбирая, как туда добраться: думала поехать, меняя электрички, или подговорить Максима сгонять на машине, якобы на прогулку. Путешествие с Максимом было заманчивым вариантом, но Инга все же отказалась от него. Она не хотела впутывать друга. Отправиться обычным способом, на поезде, купив билет, она тоже боялась. Эти сложности еще больше отравляли Инге и без того ненавистную поездку. Тамбов уже казался ей худшим местом на земле, богом забытой дырой неизвестно где. До него было пятьсот километров – несуразное расстояние, не слишком близкое, чтобы относиться к этому путешествию легко, и не слишком далекое, чтобы почувствовать его полноценность.
В конце концов она решилась поехать на «бла-бла-каре». С точки зрения скрытности плюсы были налицо, впрочем, эта же скрытность вызывала у Инги опасения. Вдруг ей попадется какой-нибудь маньяк, который изнасилует и убьет ее по дороге? Никогда ведь не найдут. Однако страх попасться полиции оказался сильнее страха маньяков, и рано утром в субботу Инга села в старенькую тойоту, ждавшую ее неподалеку от Павелецкого вокзала.
Водителем оказался седой толстый мужчина, от которого разило потом. Его запах смешивался с запахом ароматической елочки, покачивающейся на зеркале, и вскоре от этого сочетания Ингу начало подташнивать. Ко всему прочему водитель курил, и салон провонял табаком. Инга приоткрыла окно и всю поездку пыталась ловить свежий воздух.
К прочим неудобствам добавилось еще и то, что мужчина оказался на редкость разговорчивым. Быстро поняв, что Инга не в восторге от вопросов, он как ни в чем не бывало переключился на рассказы о своей жизни. Когда они наконец подъехали к Тамбову, Инга в деталях знала все о его детстве и юности, о службе в армии, о первой жене и второй жене, о детях и внуках, о Путине, американцах, Советском Союзе и Чеченской войне и мечтала только, чтобы эти исчерпывающие знания стерлись из ее памяти поскорее.
Тамбов оказался вовсе не таким захудалым городишком, как рисовалось в Ингином воображении, и она не без удовольствия прогулялась по центру. Сначала она, впрочем, отправилась на почту. Почему-то здесь камеры ее не волновали, словно они теряли всякую силу за пределами Москвы. На почте была очередь, двигавшаяся неожиданно медленно. Когда посылка наконец-то оказалась у Инги в руках, она уже так утомилась от ожидания, что острота момента почти полностью сгладилась. Инга вышла к набережной, вскрыла коробку, вытащила из телефона сим-карту и, сломав, выбросила. Дождалась, когда мимо пройдут люди, а потом несколько раз ударила телефоном о бордюр. Только в этот момент она ощутила волнение. Оттого что эта вещь принадлежала Илье, Инге на мгновение показалось, будто она снова причиняет ему вред, физически делает больно. Однако пока она раз за разом била телефон о каменный выступ, в Инге начало расти ожесточение. Под конец она молотила несчастным аппаратом с такой силой, словно желала стереть его в порошок, а потом выпрямилась и стала топтать ногами. Что-то похожее, только усиленное в десятки раз, она чувствовала, когда всаживала в грудь Ильи разбитую бутылку. Инга остановилась, шумно дыша, лишь когда вдалеке показались очередные прохожие.
Она заглянула на вокзал и выяснила, что в Москву ходят автобусы. Инга вычислила тот, который должен был вскоре поехать, и, когда до отправления оставались считаные минуты, запыхавшись, вбежала в салон. Не успевает купить билет, а ехать нужно срочно, мама в больнице, затараторила она, с мольбой глядя на водителя. Может быть, он согласится взять ее, если она заплатит ему, а не в кассу? Водитель сдержанно кивнул, и Инга, не переставая благодарить, боком пробралась на заднее сидение.
Домой она вернулась поздно ночью, неимоверно уставшая от дороги. Никакого торжества она не чувствовала. Инга как будто миновала последний горный хребет на своем пути, но теперь перед ней простиралась равнина, мрачная и унылая. Она думала, что тяготится этими последними событиями – избавиться от одежды, избавиться от телефона, но, как выяснилось, они придавали происходящему смысл. Отныне Ингу не ждало впереди ничего, кроме нескончаемого гнетущего чувства, что за ней вот-вот придут и помешать этому она не сможет.
Инга включила в комнате свет и опустилась на кровать. Это томление, однако, вовсе не вызывало в ней желания покончить с ним поскорее. Пойти и сдаться, например. Или специально вести себя легкомысленно, чтобы ее поймали. Инге снова вспомнились рассказы о людях, которых тянет на место преступления. Ее – точно не тянуло. Наоборот, она мечтала держаться как можно дальше от того военного городка, никогда даже в том направлении не ездить, вырвать из жизни любую мелочь, которая содержала в себе намек на убийство, пусть даже он существовал только в Ингином воображении. Она была убеждена: прожить долгую жизнь в мучительном ожидании куда лучше, чем короткую, но с чистой совестью.
Было два часа ночи, когда Инга, пыхтя от натуги, выволокла из дома кресло. Кое-как дотащившись до мусорного контейнера, она бухнула его там и, отступив на два шага, оглядела. Кресло, такое чистое, яркое, изящное, сиротливо стояло возле грязной помойки. Инге стало жаль с ним расставаться. Сейчас оно не напоминало ни о чем плохом – обычная мебель, но Инга знала, что стоит вернуть его в квартиру, как вместе с ним вернется и давящее чувство. Если она собирается жить долго, ей придется быть беспощадной.
На следующий день она поднялась к Меркуловой и положила на стол заявление об увольнении.
– Что это? – нахмурилась Меркулова, двумя пальцами взяв листок.
– Я хочу уволиться.
Начальница некоторое время рассматривала бумажку, словно за стандартной формулировкой пыталась разглядеть скрытый мотив. Потом вздохнула.
– Это из-за Бурматова? Насколько я знаю, его пока ищут.
– Поэтому никому пока нельзя увольняться?
– Нет, конечно, можно. Уголовного дела нет, все свободные люди. Просто вы не торопитесь?
Инга обратила внимание на то, что она говорит ей «вы», хотя до этого обращалась на «ты». Сцепила руки за спиной, подумала.
– Это не из-за Бурматова, – наконец сказала она. – То есть не из-за его исчезновения. Мне давно пора было это сделать.
Меркулова опять вздохнула.
– Вам, наверное, не очень работалось после всего, что произошло в начале лета?
– Точно.
– Ожидаемо. Если честно, я удивлялась, как вы держитесь. В смысле, почему не уволились раньше. В общем, останавливать не буду. Но две недели вам отработать придется все равно.
Инга проследила, как она расписывается внизу листа.
Они с Максимом сидели на берегу моря. Между ними стояла бутылка вина и виноград в пластиковом контейнере.
– Нет, ты представляешь, – говорил Максим, жуя виноград и щурясь от удовольствия, – мы с тобой на море! Мне в какой-то момент казалось, что это никогда не случится. Еще из-за этой всей истории с твоим Бурматовым.
– А это как могло помешать? – лениво ответила Инга, опершись на локти и глядя перед собой.
Пляж был галечный, и устроиться удобно никак не получалось. Камешки больно впивались то в спину, то в предплечья. Ойкнув в очередной раз, Инга оставила попытки и села прямо.
– Ну мало ли. Завели бы дело. Затаскали бы всех по допросам. Запретили бы выезжать из Москвы. Ты же знаешь, какой я мнительный. – Максим рассмеялся.
Инга только изображала безразличие. На самом деле она не меньше, а гораздо больше Максима переживала, что случится что-то подобное. Последние недели она почти ежечасно ждала беды. Сидеть на работе было невыносимо, потому что там она чувствовала себя особенно уязвимой. Инге казалось, что, когда она меньше всего будет этого ожидать, полиция ворвется в офис и схватит ее на глазах у всех. То, что на глазах у всех, конечно, добавляло унижения. Чем ближе подступал последний рабочий день, тем больше Инга боялась: предчувствовала, что коварные следователи специально затаились, чтобы произвести ее арест особенно эффектно.
В свою последнюю рабочую пятницу Инга перед уходом сдержанно со всеми попрощалась. Все знали, что она увольняется, но со стороны могло показаться, что они просто расходятся на выходные. Коллеги тоже попрощались сдержанно, и только Аркаша пожелал удачи. Инга вышла из бизнес-центра и зашагала к метро, буквально кожей чувствуя, как сзади к ней уже подкрадывается полицейский. Никто, конечно, не подкрался.
Когда в субботу утром Инга как ни в чем не бывало проснулась у себя дома, ей впервые показалось, что она может вздохнуть свободно. Впрочем, затишье длилось недолго и сменилось очередным витком паранойи. Теперь Инге казалось, что ее ни за что не выпустят из страны: задержат у стойки с регистрацией или на паспортном контроле, закуют в наручники и увезут в тюрьму, а ее коллеги в понедельник прочитают обо всем в новостях. Их потрясение было неотъемлемой частью Ингиных мрачных фантазий. Что подумает Мирошина и какие сплетни она станет распускать, волновало Ингу даже больше, чем реакция матери или Максима.
Поэтому в аэропорту Инга трепетала каждую секунду, хоть и старалась не подавать вида. Максим, впрочем, был так поглощен предвкушением поездки, что ничего не замечал. Даже когда Инга шарахнулась от человека в форме, прошедшего мимо, он не придал этому значения.
Инга волновалась, сдавая багаж, проходя пограничный контроль, сидя возле гейта. Страх немного отпускал ее, только когда она скрывалась в туалете: ей казалось, что туда менты не сунутся. Из-за этого она проводила в уборной гораздо больше времени, чем требовалось, и Максим очень ей сочувствовал.
Однако стоило самолету оторваться от земли, как напряжение начало спадать. Когда они набрали высоту, Инга уже болтала без умолку, и с каждой минутой все больше, словно хотела выговориться за все прошедшие дни. Максим поначалу еще пытался поддерживать беседу, но вскоре, видимо, понял, что Инга просто хочет слушать звук своего голоса, и умолк. А Инга говорила. Она рассказывала Максиму, куда они должны непременно съездить в Италии, какую музыку она слышала в такси по дороге в аэропорт, что ей сказали в отделе кадров при увольнении, в какой ужасной юбке Мирошина приходила в последний раз, что у матери скоро день рождения, а она не может придумать подарок. Инга не могла остановиться, чувствуя, как с каждым словом из нее вытекает яд, отравлявший последние дни. Она знала, что это временная передышка. Потом все вернется, и она снова будет бояться, ждать и томиться, но сейчас ее охватил настоящий экстаз от этой позабытой легкости. А может быть, она и не будет больше бояться? Может быть, отпуск ее излечит? К тому же, чем больше времени пройдет, тем меньше станет опасность, и может быть, в один прекрасный день Инга сможет расслабиться совсем?
Самолет прилетал в Римини. Инга изначально настояла на том, чтобы в городе прибытия было море, потому что непременно хотела оказаться на нем в первый же день. Максим капризничал – холодно уже будет, все равно не покупаешься, зачем нам эта глухомань. Инга была непреклонна. Они приехали в отель, бросили вещи, сходили в магазин и прямиком отправились на пляж. Когда море наконец показалось перед ними, Максим признал, что это была правильная идея.
Вечерело, дул ветер, и людей было мало. Неподалеку парень с девушкой играли во фрисби. Инга смотрела, как между ними туда-сюда порхает ярко-оранжевый диск. Ветер то и дело сносил его в сторону, и кому-то приходилось за ним бежать. До Инги долетали обрывки незнакомых слов, крики и смех.
– Вообще-то я думаю искупаться, – заявила она.
Максим вытаращил глаза.
– Сейчас?! Да даже солнце уже садится. В воде, наверное, холодина.
Инга встала и принялась стягивать с себя шорты. В купальник она предусмотрительно переоделась еще в номере.
– Ты безумна, – сообщил Максим, отправляя в рот виноградину. – Если ты заболеешь, я буду все оставшиеся дни повторять: «А я говорил». И ни слова жалости!
– Подлечусь вином, – пообещала Инга.
Она бросила на камни майку и на цыпочках пошла к морю.
У самой воды берег был песчаный, и Инга зашагала свободнее. От налетевшего ветра она тут же покрылась мурашками и даже на секунду подумала, не повернуть ли назад. Однако море оказалось вовсе не таким холодным, как она ожидала. Инга постояла некоторое время, глядя, как волны набегают и пенятся вокруг ее ног, а потом вошла в воду.