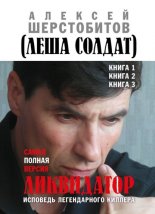Первая печать Осояну Наталия

Те несчастные, кого она касалась, сперва теряли способность ходить и даже просто стоять неподвижно, потому что при всяком движении кружилась голова и свистело в ушах. Потом отнимались конечности, уходили силы вместе с даром речи, тускнел разум – и все это не более чем за неделю.
Так Ванда осиротела в первый раз.
Новоизбранные старейшины, которым пришлось спасать выживших, не нашли ничего более подходящего, как поручить девочку первой попавшейся бездетной семье, но этот сделанный впопыхах выбор оказался удачным. Элой и Эдда – так звали ее приемных родителей. Они походили друг на друга, словно брат и сестра, а не муж и жена, – высокие, хмурые и не слишком-то красивые, но способные на невиданную доброту и нежность, которую она запомнила гораздо лучше, чем ласковые голоса и улыбки настоящих родителей. Они были охотниками на небесных зверей, любили свое ремесло и даже начали обучать ему Ванду. Но, когда ей исполнилось девять, во время охоты случилась беда: Элоя схватила огневица, одна из самых опасных тварей, какие встречаются в Срединном, облачном, океане, и Эдда бросилась его спасать.
Они, как сказали Ванде, не страдали. Слишком уж быстро все произошло.
Со второй приемной семьей, шумной и многодетной, она прожила дольше, целых пять лет, и самым страшным событием за это время оказался четырехмесячный плен в коварном урданете, куда остров затянуло как-то ночью из-за небрежности дозорного. Остров не мог упасть, но для того, чтобы выбраться из западни, требовалось много времени, на протяжении которого запасы еды таяли на глазах: в мощном потоке воздуха лишь изредка попадались живые – и хоть отчасти годные в пищу – существа, которым хватило глупости туда сунуться.
О том, что происходило в эти четыре месяца, предпочитали не вспоминать.
А потом…
Ванда сжимает рукоять ножа так, что болезненная судорога пробегает по руке от запястья до плеча. Она режет лук; петрушка, морковь и капуста ждут своей очереди, а кособокий сладкий перец уже очищен от сердцевины. Все это вырастил в оранжерее Толстяк. Соль и перец они купили в Амилкаре – ах, как долго она вздыхала у прилавка с пряностями, на которые не хватало денег! Зато удалось пополнить запасы лекарств, угля и дров. На какое-то время хватит. В кухне прохладно от сквозняка, который колышет белую – точнее серую, давно пора постирать, но как же сложно заставить себя подойти к стеклу, в котором все отражается, – занавеску и гоняет по выложенному узорчатой плиткой полу несколько сухих листочков с растущего снаружи огромного вяза. Того самого вяза, который загадочным образом не пострадал от удара молнии. Видя это шевеление краем глаза, Ванда никак не может отделаться от мысли, что у ее ног играет серый котенок.
Может, попросить у Типперена разрешения – на следующей стоянке, когда это дурацкое приключение закончится и они вспомнят о нем со смехом, – обзавестись кошкой?..
«Разрешения?! – Внутренний голос Ванды звучит в точности как голос Эдды. Она отдает себе отчет в том, что мысленно разговаривает сама с собой, а не с призраком, но звучание от этого не меняется. – Ты уже достаточно взрослая, чтобы не спрашивать о таких вещах».
«Но это его дом».
«И твой тоже. Здесь нет другой хозяйки, кроме тебя».
Хозяйка.
От этого слова ее пальцы снова сжимаются на рукояти ножа, в правом виске просыпается боль, и голова тяжелеет, словно в череп заливают свинец. Оранжерея. Соль, перец; дрова. Мясо – что-то не видно в этой части Срединного океана ни птиц, ни других хоть отчасти годных в пищу существ. А если случится беда? Если им понадобится помощь – к примеру, помощь врача, не говоря уже о печатнике?
Свинцовая тяжесть ложится на плечи, и когда на нож падают капли, Ванда лишь через несколько секунд осознает, что это такое. Отрешенно подносит его к губам, слизывает влагу с клинка: соленая.
«Мама, я не справлюсь».
Внутренний голос молчит – возможно, озадаченный, ведь при жизни она называла Эдду «тетей», а не «мамой», – но ответ и так ясен. У Типперена не получается: он проводит дни в движительной, а ночи – у себя в башне, при свете лампы читая сложные книги со схемами. Но все равно ничего не получается, и их остров несется вперед, совершенно неуправляемый. Даже мальчики уже поняли, что это добром не кончится.
Надо что-то делать, и если хозяин не может…
Ванда откладывает нож, подходит к окну и, отдернув грязную занавеску, смотрит на свое отражение в стекле. Как обычно, внутри у нее все сжимается от увиденного, к горлу подступает тошнота, но она усилием воли заставляет себя не отворачиваться. Такова ее особенность, которую надо принять, если она хочет жить дальше и… И…
И всех спасти, да.
Как положено хозяйке.
Когда все обитатели острова собираются в гостиной, которая одновременно служит и столовой, часы бьют шесть. Северо вновь на секунду задается вопросом, можно ли им верить и какая разновидность сумерек на самом деле простирается за окнами, а потом гонит эту мысль прочь.
Ванда выносит блюдо с фаршированными перцами и водружает его на середину длинного стола, где Молчун и Котенок как раз заканчивают раскладывать щербатые тарелки и разномастные столовые приборы – как обычно, на девятерых, хотя одно место неизменно остается пустым. Принц рассказывает какой-то анекдот, вальяжно облокотившись о книжную полку без книг, Свистун с видом преданной собаки кивает и улыбается, а Толстяк хмурит брови: не может думать ни о чем другом, кроме прожорливой мошкары, которая снова завелась в оранжерее, словно явившись из пустоты. Северо помог ему приготовить снадобье против вредителей из какого-то зеленоватого порошка – банка нашлась в чулане с инвентарем, – но юный садовник явно сомневается в полезности ядовитого душа, устроенного капусте и помидорам. Принца он все-таки терпит – а как не терпеть лучшего охотника и мастера сетей, который всего-то полчаса назад с гордостью вручил Ванде свою добычу: трех костлявых, но довольно крупных пальцекрылов?
«На суп сгодятся», – коротко сказала она и все же посветлела лицом, как будто надменный выскочка помог ей сбросить с плеч тяжкое бремя. За это Северо готов ему простить все дурацкие анекдоты, какие сочинили за последние сто лет. Или даже двести.
Котенок приносит из кладовой плетеную корзину с черствыми булочками.
– Готово! – провозглашает Ванда с улыбкой. – Прошу к столу.
Все словно по команде поворачиваются к креслу у окна.
Типперен Тай сутулится, и потому его силуэт частенько напоминает Северо одну из тех горных птиц, что прилетали в обитель кормиться объедками или, если повезет, воровать куриц. Внушительный нос с горбинкой лишь усиливает впечатление. Лицо у Типперена узкое, изборожденное каньонами морщин, глубоко посаженные глаза блестят под кустистыми бровями. Губы он сжимает так плотно, что рот выглядит щелью; кто-то однажды сказал Северо, что такая особенность выдает злого человека.
Северо хотел бы вспомнить, от кого он это услышал, и обвинить его во вранье.
Ведь не мог злой человек поступить так, как Типперен: собрать на своем острове подростков, которым больше некуда идти. Дать им крышу над головой и показать дальние страны. Внушить, что мир хоть и суров, но вместе с тем очень красив и на свой лад справедлив. Да, он подверг их риску… И, возможно, все это плохо закончится… И все-таки…
Типперен Тай тихонько вздыхает и встает – с трудом, кое-как опираясь обеими руками о подлокотники. Левое плечо у него выше правого, кисть левой руки усохла и почти не шевелится; старые раны, говорит он с горьким смешком в ответ на все расспросы, всего лишь старые раны, дети, займитесь лучше чем-нибудь полезным – «…и не лезьте не в свое дело», пробормотал как-то раз Толстяк язвительно и все-таки с нежностью.
– Спасибо, дорогая, – говорит Типперен Ванде, а потом прибавляет, окидывая взглядом остальных: – Руки мыли?
Это дежурная – и весьма дурацкая – шутка, которая не перестает их веселить. Никто не проверяет, чисты ли их руки, но Северо свои на всякий случай моет, причем очень тщательно.
Они занимают привычные места: Типперен Тай, скособочившись, садится во главе стола, Ванда – с противоположного конца; Северо – справа от нее. Еще с его стороны сидят Толстяк и Свистун, а напротив – Принц, Котенок и Молчун. Место рядом с Молчуном, по правую руку от Типперена, предназначено для Иголки, которая наверняка притулилась сейчас в своем излюбленном закутке по другую сторону посадочной площадки и таращится в облака. Как и чем она питается, не знает никто, и Северо мог бы счесть ее фаэ, а не человеком, если бы не увидел однажды, как…
Перед мысленным взором мелькает что-то алое; он вздрагивает и заставляет себя сосредоточиться на еде.
По столу мимо его тарелки ползет строчка, написанная золотистыми чернилами.
Четверть часа, если верить коварным стрелкам, уходит на старательное пережевывание отмеренных порций, которое лишь изредка прерывают ради восхищения кулинарным искусством Ванды и замечаний, что забываются, едва отзвучав. Северо, не в силах выкинуть из головы алое, постепенно начинает ощущать царящую в комнате напряженность: как будто над каждым из девятерых повис на тоненькой ниточке тяжелый меч, готовый вот-вот упасть. И, кажется, он не один это чувствует.
На шестнадцатой минуте Принц не выдерживает:
– Нам крышка, да?
Все замолкают. Типперен медленно опускает вилку с отломанным зубцом.
– С чего ты взял?
В этот самый миг открывается дверь, и в столовую входит Иголка – растрепанная и лохматая, с диким взглядом блестящих зеленых глаз. Озирается, словно не понимая, куда попала; мычит. Бредет к окну.
Всё как обычно.
– С чего ты взял, что нам крышка? – опять спрашивает Типперен, глядя на Принца.
Тот выпрямляет спину, дергает головой, словно разминая шею перед дракой. Он совсем не боится, понимает Северо, и от зависти у него делается горько во рту.
– Молния попала в нас неделю назад – это раз, – начинает перечислять Принц. – С той поры мы летим все время прямо – над самым большим в мире океаном, который еще ни один картограф точно не измерил. Может, до Мойяны и Беренгеля лететь еще неделю – а может, три месяца. Это два. И… где ключ-кольцо, Типперен?
Иголка мычит стоя у окна, показывает пальцем на что-то снаружи. Никто не обращает на нее внимание.
Типперен кладет руку на грудь – под рубашкой виден шнурок, на котором, по-видимому, и болтается ключ-кольцо, управляющее островом. Северо не слышал, чтобы эти штуковины так носили; они же, в конце концов, не зря имеют форму колец.
Ответить опекун не успевает.
– В оранжерее завелась маширская бабочка, – тихо говорит Толстяк, не поднимая глаз от тарелки. – Сегодня утром вылупилась, пока крошечная, но это врей… врем’уно. Наверное, в последнем порту подцепили… Я попытаюсь ее вывести мшистой з’ленью, но штоб вы все знали: это очень трудно, особенно если… нету… ну, это самое… рестусов.
Волнуясь, он всегда коверкал слова.
– Мы тебе поможем! – спешит заверить Ванда. – Будем все вместе этих тварей отлавливать вручную, если понадобится.
Иголка смеется и хлопает в ладоши, словно ловит моль. Потом опять тыкает пальцем в окно и мычит громче.
Толстяк сокрушенно вздыхает.
– А вот кстати, что у нас с запасами еды? – интересуется Принц с королевской красноречивой небрежностью. – Ванда?.. Кроме той дичи, которую я принес, в кладовой хоть что-то осталось?
Она вновь не медлит с ответом:
– Я не обязана перед вами отчитываться, ваше нахальство!
Он с коротким – и совершенно невыносимым – смешком поворачивается к Типперену и поднимает бровь. Северо захлестывает волной смятения; ему хочется помочь опекуну и другу, но как? И часа не прошло, как в его голове роились мысли о том же, пусть и в иных выражениях.
Иголка мычит.
– Прекрати нагонять панику, – говорит Типперен с пугающим ледяным спокойствием в голосе. – Еды нам хватит. С движителем острова есть кое-какие проблемы, да, но я разберусь. Мне, конечно, не помешал бы еще… еще один движитель как эталон для ремонта. – Северо краем глаза замечает, как вздрагивает Ванда. Типперен продолжает: – Но раз его нет, нестрашно. Просто нужно немного потерпеть.
– Да? Трех недель, значит, не хватило?
Три недели?..
Северо растерянно озирается, но, похоже, его товарищей не изумляет озвученный Принцем срок. Как же так… Ведь он всего лишь пару минут назад говорил про неделю, да Северо и сам помнит, что… что…
Иголка переходит от мычания к пронзительному визгу, и Ванда бросает раздраженный взгляд на Свистуна, которому лучше всех удается успокаивать девочку. Он с тяжелым вздохом встает, идет к ней – протянув руки, ступая медленно и плавно, словно опасаясь испугать зверя с дурным нравом, – а потом, оказавшись напротив окна, внезапно застывает с открытым ртом.
– Ой, ребята… – говорит он через пару секунд. – Вам надо это увидеть.
Ванда выбегает наружу последней, потому что Иголка неведомо как оказывается рядом и хватает ее за руку. Пальцы у этой хилой девочки – никто не знает точно, сколько ей лет, но явно не больше двенадцати, – жесткие и неумолимые как сталь; кажется, они способны проткнуть плоть до самой кости. Она ничего не делает, просто смотрит, а потом что-то шепчет совсем беззвучно. Странно… Иголка не может говорить членораздельно, за все время, проведенное на острове, Ванда не слышала от нее ни единого внятного слова. Но птахи умеют читать по губам – а как иначе, если живешь там, где шумят ветра?
«Не делай этого».
– Что… чего не делать? – тихо переспрашивает Ванда.
Увы, запас чудес исчерпан: Иголка, тряхнув головой, отпускает ее руку и отстраняется; отходит в глубь столовой, где есть дверца, ведущая в небольшой закуток под балконом второго этажа, где когда-то заботливые руки обустроили сад камней, ныне заросший неубиваемым облачным плющом. Она не хочет посмотреть, чем закончится история, начатая благодаря ее внимательности. Или все-таки благодаря слепому случаю? Ждать объяснений бесполезно.
«Не делай этого…»
Сжимая кулаки и стиснув зубы, Ванда решительным шагом, но без лишней спешки выходит во двор, где расположена посадочная площадка, выложенная черно-белыми плитами. К этому моменту Свистун и Котенок уже запустили маяк: верхушка башни трепещет красным, взывая о помощи. Остальные держатся у входа, напряженно вглядываясь в небо.
Ванда наконец-то следует их примеру и видит рану.
У нее перехватывает дух.
В грязно-сиреневых тучах – дыра с рваными краями, будто след огромной стрелы. Отверстие сочится паром или дымом, и, хотя этой небесной крови довольно много, Ванде все-таки удается рассмотреть в глубине раны нечто странное: тьму. Непроглядную тьму беззвездной полуночи, от которой у нее пробегает холодок по спине.
Осмыслить увиденное она не успевает, потому что все ее внимание приковывает к себе «стрела», что нанесла небу столь необычный урон. Нечто темное, удлиненное, окруженное размытым ореолом несется к острову, закладывая виражи, от которых Ванда хватается за створку парадных дверей, чтобы не упасть. Закружилась голова – у нее, потомственной птахи! Этим невесть откуда взявшимся махолетом, похоже, управляет настоящий безумец.
Впрочем, стоит признать: голова у нее закружилась еще и от внезапного понимания того, на каком крошечном клочке летающей суши они вдевятером нашли пристанище. До сих пор в однообразной круговерти туч почти не встречалось ориентиров, по которым можно было бы оценить расстояние. Ванда знает, конечно, что Срединный океан безграничен, но не думает об этом каждую секунду: она ощущает тягу, что рождается в каменном сердце острова, и свое родство с ним; это дает ей силы без страха смотреть в небо. Давало. До сих пор. В желудке рождается противная пустота, и каблучки ее старых туфель отрываются от крыльца – девочка не может сказать, привстала ли на цыпочки по собственной воле или вдруг загадочным образом сделалась невесомой.
– Смотрите, смотрите! – кричит кто-то в ужасе.
Причина, по которой незнакомый махолет продолжает метаться из стороны в сторону, становится болезненно очевидной: за сумеречной пеленой проступает силуэт, превосходящий его по величине раз этак в двадцать; тоже удлиненный, но похожий скорее на змею, чем на мотылька. Распознать хищника по очертаниям невозможно – в этих краях все по-настоящему опасные твари одинаково гибкие, крупные и злые. Благодаря своим размерам существо не спеша преодолевает огромное расстояние за секунды, и потому махолету приходится нестись к острову изо всех сил.
Ванда прижимает руку ко рту. Ее замысел умирает, едва родившись.
Она озирается, видит искаженные страхом лица мальчиков; видит, как во взгляде Типперена постепенно угасает надежда. Кто-то плачет, и ей тоже хочется плакать от обиды на судьбу, что решила так жестоко подшутить над ними напоследок.
А потом в небе снова происходит нечто странное.
Темный махолет исчезает – не скрывается за тучей, не падает камнем; именно исчезает в один миг, как крупинка соли в крутом кипятке, – чтобы появиться вновь, неведомым образом преодолев большое расстояние. Ванда не может определить, на сколько лиг он переместился в пространстве. Теперь он ближе к острову! Сквозь шум ветра, к которому все они давно привыкли и перестали замечать, доносится трубный возглас хищника, чья добыча ускользнула из-под самого носа. Махолет тотчас же исчезает вновь, и мальчики восхищенно охают. А затем, когда он появляется опять, разражаются восторженными воплями.
Раз, два, три!
После пятого прыжка летающая машина сбрасывает скорость, а тварь за тучами перетекает куда-то в глубины, на поиски более покладистого ужина. Ванда смотрит и не верит своим глазам. С такого расстояния уже видно, что махолет не черный, а темно-зеленый или темно-синий; у него два крыла, громадные фасеточные глаза и прозрачная выпуклость кабины в верхней части туловища. Он одноместный.
Он садится на черно-белую посадочную площадку мягко и грациозно.
Только в этот момент Ванда снова начинает дышать.
Махолет приземляется на площадку перед домом, покачивается на лапах вперед-назад и замирает. Он темно-синий, почти черный; на концах антенн и кое-где по краям оперения сияют бирюзовые огоньки, и пока корпус быстро остывает, над ним кружатся светлячки того же бирюзового цвета. Северо уже много раз видел удивительные машины вблизи, но до сих пор перед ними благоговеет; в этот самый миг, впрочем, его товарищи испытывают схожие чувства. Так далеко от берега и всевозможных торговых путей, включая контрабандистские и пиратские, проще увидеть остров, летающий вверх ногами, чем чей-то незнакомый махолет.
Северо щиплет себя за внутреннюю сторону запястья: не сон ли?..
Прозрачная выпуклость рубки разделяется на пять частей разной формы, которые раскрываются наружу, словно лепестки орхидеи. Изнутри выскакивает человек в удобной и теплой одежде, которую предпочитают пилоты, обитатели высот: ботинки до середины голени, плотные брюки и куртка с меховым воротником, белый шарф, шапка с массивными темными очками, закрывающими половину лица. На мгновение Северо овладевает странное чувство: ему кажется, что в кабине махолета есть еще один… одно… еще кто-то. Издалека видно, что кабина пуста, да и места для второго человека здесь слишком мало, если это не совсем маленький ребенок.
Чужое присутствие возникает вновь: как будто птица на лету задела крылом.
Может быть, остальные тоже ощущают что-то странное, потому что никто не двигается. Типперен, которому положено встретить гостя – ведь с первого взгляда понятно, кто командует оравой подростков, – застыл как статуя, с прижатой ко рту здоровой рукой. На его лице нечто вроде гримасы недоумения, и она столь неуместна, что Северо задается вопросом: так ли хорошо он изучил своего опекуна за минувшие… месяцы?
В конце концов незнакомец подходит к ним сам, подняв руки и демонстрируя открытые пустые ладони. Или не пустые? В правой как будто что-то блестит.
– Крысу мне в глотку… – бормочет где-то рядом Котенок. – Он же огрызок. Грешник.
«Отступник! – произносит в голове у Северо совершенно другой голос – его обладатель, кажется, мертв. – Еретик!»
Он вздрагивает, приглядывается – и да, не померещилось: правая рука гостя сделана из металла, по меньшей мере до запястья, а что дальше… можно лишь догадываться. Высшие силы, по какой доктрине их ни определяй, жестоко подшутили над обитателями острова, терпящего бедствие, подсунув им средство спасения, которое может оказаться куда хуже изначальной беды.
«Еретик! Да как ты посмел нарушить заповеди? Ты хоть понимаешь, что погубил свою душу?!»
Грешник останавливается в пяти шагах – а не маловато ли, думает Северо, и с непонятной уверенностью осознает, что это расстояние отнюдь не помешает незнакомцу причинить им всем какой-нибудь вред. Но пока что он совсем не выглядит грозным; наоборот, чем пристальней Северо его разглядывает, тем яснее видит признаки самой обычной усталости после долгой дороги, и грязь на бледных щеках, и полосы очень старых шрамов под очками… А почему бы их не снять?
«К чему спешка?»
«Еретик. ОТЩЕПЕНЕЦ!»
«Вот уж кого не ожидал тут встретить…»
– Я вас приветствую, – тихо говорит грешник, не опуская руки, и теперь понятно, почему он это делает. – Мое имя Теймар Парцелл, но вряд ли оно вам знакомо. Я пролетал мимо, увидел ваш маяк… – Он обращает лицо к башне, чья верхушка все еще пульсирует красным. – И понял, что вам нужна помощь. Так ли это?
Ни слова о хищнике за тучами, думает Северо с невольным восхищением. Как будто не его жизнь только что висела на волоске. Впрочем, кто знает, может ли небесная тварь убить… такого, как он?
«Хочешь проверить?»
– Ты грешник, – говорит Ванда, бросив косой взгляд на Типперена Тая, который все еще молчит и смотрит на Теймара Парцелла, мучительно морща лоб, словно спрашивая себя, где же он видел это лицо.
– Да что ты, – с кривой улыбкой отвечает Теймар. – Неужели я ваша самая серьезная проблема?
– Ты грешник, – вторит Ванде Принц, не выказывая страха; ему явно хочется подраться, как всегда. Свистун и Толстяк что-то бормочут и кивают, Котенок прячется за Молчуна, который хмуро переводит взгляд с их опекуна на гостя и обратно, словно чего-то ждет. – Ты нарушитель…
– Всевозможных заповедей, да, – перебивает Теймар без намека на любезность. – Давайте пропустим часть с представлениями, а? Не люблю, когда много раз повторяют одно и то же. Если вам не нужна помощь, я могу просто повернуться и…
– Вот и вали отсюда! – рычит Принц, теряя самообладание. – Сами во всем разберемся! Не нужны нам…
«…еретики и отщепенцы вроде тебя! Из-за таких, как ты, разрушился старый мир! Будешь служить до последнего вздоха и все равно не отработаешь даже сотой доли того, что…»
– Хватит!
«Кто это крикнул?»
Все поворачиваются к Северо словно по команде. Грешник смотрит прямо на него – хотя за темными стеклами очков и не видно глаз, Северо чувствует этот взгляд и кожей, и нутром.
«Ох…»
– Хватит, – повторяет Северо, вынуждая себя сделать шаг навстречу этому Теймару Парцеллу. В памяти, словно мутный осадок на дне травяного отвара, вертятся обрывки проповедей: злодеяния таких, как этот не-совсем-человек, их преступления против всего человечества и мироздания. – М-мы терпим бедствие. Неделю назад в нас попала молния и повредила движитель. С тех пор остров неуправляем. Ты… вы… не могли бы…
Тут решимость его покидает, но зато наконец-то приходит в себя Типперен Тай.
– Прости за злые слова и мысли, – говорит он негромко и, шагнув следом за Северо, ободряющим жестом кладет руку ему на плечо. – Мой подопечный сказал правду. Ты не мог бы оказать нам посильную помощь?
Грешник медленно кивает. Он по-прежнему смотрит на Северо.
– Посмотрим, что я смогу сделать.
«Что мы сможем сделать, мы. Не волнуйся, малыш».
Лишь теперь Северо осознает, что все это время в его голове звучали сразу два чужих голоса и только один был воспоминанием.
Они проводят его в гостиную и усаживают на место Иголки, которая так и не появилась. Гость наконец-то снимает кожаный шлем с очками, и Ванда почему-то не удивляется при виде искусственных глаз, в полумраке комнаты мерцающих будто кошачьи. Кто-то из мальчиков ахает, кто-то тихо ругается, но все это не тревожит ни самого грешника, ни воцарившееся внутри нее спокойствие. Переложив в пустую тарелку оставшиеся фаршированные перцы – они всегда сберегали немного еды для Иголки на случай, если она передумает и все-таки сядет за стол, – Ванда предлагает пилоту угоститься, и он вежливо соглашается.
Потом она отодвигает свой стул в угол между часами и старым диваном, узорчатая обивка которого каждую третью ночь уползает из комнаты. Незадачливой тряпке ни разу не удалось достичь парадного крыльца, но она предпринимала все новые попытки, что доказывало безграничную тупость обивочного дьюса: через дверцу, ведущую в садик камней под балконом, он мог бы вырваться на свободу вчетверо быстрее и почти гарантированно.
Ванда садится, сложив руки на коленях, и вся превращается в слух.
«…и виновата во всем ты. Не увидела, не предупредила, не сдюжила. Ничтожество».
Если не считать Принца, который с видом оскорбленного величия усаживается на подоконник и демонстративно смотрит наружу, лед тает быстро. Словно пытаясь возместить свою невежливость при встрече и как следует представиться, Типперен любезно повествует о своем прошлом в антикварной лавке; о бездетном браке и смертельной болезни жены; о том, как судьба свела его с первыми сиротами, которые уже давно выросли и живут своей жизнью. Мальчики – опять-таки, кроме Принца, – наперебой представляются, хотя о себе почти ничего не говорят, и гость не настаивает. Может, понимает, что это для них больно? Сын садовника; илинит; помощник писца; бывший юнга; сын солдата. Кто-из них называет Ванду по имени и «птахой»; она слегка кивает, сохраняя каменное лицо.
«Ничтожество ты, а не птаха».
– Все случилось во время грозы, – начинает объяснять Типперен, хотя Северо уже сказал главное. – Мы летели вдоль Нието, на юго-восток, как вдруг…
Сото, машинально исправляет Ванда. Вдоль побережья Сото.
Строго на запад.
«Когда это ты успела заделаться картографом? Хотя… да! У Лиалли на пеленке опять карта нарисована – иди изучи. Потом постирай и займись ужином, а то жрать охота».
– Какие сегменты пострадали? – спрашивает грешник. Он так изящно гоняет по тарелке еду, что почти нельзя заметить: в объеме она ничуть не уменьшилась. – Пробоины близко к сердечнику?
Типперен, чуть помедлив, выдает череду цифр, которые Ванде ни о чем не говорят.
«Одни беды от тебя. Теперь ты за все расплатишься».
Она закрывает глаза, чувствуя, как что-то наваливается сверху. Кажется, остров перевернулся вверх тормашками и теперь всей тяжестью каменной подошвы давит на нее; трещат ребра, сплющиваются легкие, но сердце каким-то чудом продолжает трепыхаться, и сквозь отголоски его грохота в ушах доносится шепот: «Молчи, молчи… не смей кричать… Ты никому об этом не расскажешь, хотя… да! Тебе все равно никто не поверит».
Когда это было? И сколько раз?
Тьма.
– Ванда? Ванда! Что с тобой?
Она вздрагивает, словно проснувшись от внезапного звука, громкого и резкого. В комнате что-то изменилось: мальчики сидят и стоят по-другому, а грешник уже не за столом – он у двери, и Типперен с ним рядом. Оба глядят на нее; впрочем, в глазах гостя нет зрачков, и о том, куда он смотрит, можно лишь догадываться.
– Простите, я…
«Да кому нужны твои оправдания?»
– …устала.
Опекун хмурится, подозревая ложь, но не настаивает на правде при постороннем.
– Я хочу показать Теймару движитель, – говорит он, явно понимая, что последние минуты разговора у нее в памяти не отпечатались. – А вы, ребята, не теряйте времени зря – приберите тут как следует. Ванда, может быть, ты приготовишь нам чай? Пусть тебе Молчун поможет.
Она встает, собрав остатки сил, и улыбается.
«Не делай этого».
– Ну что ты, Типперен. Уж с чаем-то я справлюсь.
…Следом за гостем по коридорам, которых нет и не будет на картах, и шаги ее тише, чем шелест крыльев фаэ, что за окнами кружат в ожидании неизбежной гибели этого острова, раненного молнией, раненного кинжалом в самое сердце, что давным-давно не бьется, и все же тело не умирает, пусть ему и хочется умереть, застыть, забыться, но что-то не позволяет, держит, одновременно разбивает на части и собирает эти части воедино в бесконечном мучительном цикле, сродни чередованию дня и ночи, которые, по сути, всего лишь две разновидности мучений, берущих начало в уколах слов или в ударах острым лезвием, причиняющих схожую боль, никак не утихающую боль, неуемным потоком хлещущую из потаенных глубин души…
Кажется, говорит гость, мы знакомы. Я где-то видел твое лицо.
Думаю, это ошибка. Ты уж прости, но твое лицо я бы не забыл ни за что на свете.
Гость смеется на два голоса.
Я не всегда выглядел так, как сейчас. Впрочем, это неважно. Показывай.
…сердце острова – то сердце, что все еще бьется, – лабиринт со стенами из хрусталя, и, хотя стены эти прозрачны каждая по отдельности, совокупность прозрачностей порождает нечто непроницаемое и к тому же блистающее, способное ранить, словно клинком в грудь, словно осколками в глаза, способное лишить зрения и даже разума, который и так пасует перед расширенным пространством, ибо оно по всем законам сколь угодно искаженного бытия не может уместиться в комнатке, отмеченной на картах, не уместилось бы и на острове целиком, но как-то умещается, и, если распутать все эти коридоры, превратить в один, прямой и ровный, он уведет так далеко, что не доберешься даже за месяц, летя с обычной неторопливостью – «небесными тихоходами» острова называют неспроста, – да и не нужно туда лететь, ты уж поверь, потому что там нет места для…
Ты так долго и красноречиво молчишь, что я начинаю дрожать от страха.
Прости, я не хотел тебя пугать.
Не хотел, но придется?
Увы… Я надеялся, что уцелела хотя бы половина сегментов, отвечающих за боковое движение, – это бы позволило мне переопределить функции плоскостей и запустить движитель заново, несколько ослабив его и по необходимости сбавив высоту, но зато полностью восстановив контроль. Однако повреждения куда обширнее, чем я предполагал.
Эти трещины…
…отнюдь не вся проблема. Подойди к этой сломанной пластине, встань на мое место и загляни внутрь. Сам все увидишь и поймешь.
…узор, подобный ветви раскидистого дерева или рисунку вен на внутренней стороне руки, да, и руку можно засунуть в пролом посреди хрустальной пластины по локоть, только делать этого не надо, потому что в проломе плещется золотисто-алое пламя, похожее на расплавленный металл, и чем дольше смотришь в эти глубины, тем отчетливее понимаешь, что оттуда на тебя глядят в ответ, глядят многоглазо и когтисто, с откровенной злобой и презрением, обещая скорую расправу, обещая муки души и тела, потому что за века службы это существо скопило бесчисленное множество обид и за все до единой намерено поквитаться, раз уж представился такой…
Теперь ты понимаешь?
«Теперь ты понимаешь?»
Типперен уводит гостя, и все в растерянности смотрят друг на друга несколько секунд, а потом Северо и Толстяк, не сговариваясь, собирают посуду, несут в кухню и нагревают воду для мытья. Минуты ползут унылой вереницей. На самом деле всем хочется побежать следом за Типпереном и послушать, о чем опекун и грешник будут говорить, но без разрешения хозяина острова никто не может войти в движительную.
Они не сразу замечают, что Ванды рядом нет.
– Она что, тоже туда пошла?! – сердито спрашивает Северо и тут же смущается: не стоило озвучивать глупую мысль.
– Типперен попросил ее приготовить чай, – спокойно напоминает Толстяк, не вынимая рук из корыта с теплой мыльной водой. – Она держит банку в своей комнате, чтобы мы за неделю все не выпили.
Северо виновато кивает – дескать, вспомнил, – и тут появляется Ванда с… той самой банкой? У нее в руках простая серая жестянка без этикетки, которую он уже где-то видел – точно не в кухонном шкафу. К тому же Ванда входит в кухню из коридора, возникнув не справа, а слева, как будто побывала не в своей комнатушке без окон на втором этаже, а в оранжерее. Что она там забыла?
Нет, думает Северо, она просто выходила ненадолго во двор, подышать свежим воздухом.
– Уходите, – говорит Ванда рассеянно, прижимая жестянку к груди, словно пряча от них. – Потом домоете, когда… Ну, после…
Что-то в ее голосе мешает мальчикам возразить; они вытирают руки и бредут обратно в гостиную, где Свистун, Молчун и Котенок уже отодвинули обеденный стол и расставили возле холодного камина два кресла, стулья, скамеечки, пуфики и прочее, как в те вечера, когда они проводили здесь время все вместе, в тепле и уюте, за чтением или какой-нибудь игрой.
Принц так и сидит на подоконнике с невозмутимым видом, хотя уши у него покраснели от волнения и стыда; его величество не любит уступать и вместе с тем не может долго оставаться в стороне от важных событий.
Через несколько минут в коридоре слышатся шаги, и вот наконец входят Типперен и Теймар. Лицо опекуна мрачнее обычного, и от такого зрелища кто-то, не сдержав чувств, всхлипывает. Северо и сам отчетливо ощущает, как сердце в груди сбивается с ритма и начинает трепыхаться словно пойманная птица.
Значит, им все-таки…
– Надо лететь за запчастями в ближайший город, – просто сообщает Типперен. – Или искать какой-нибудь остров побольше, чьи хозяева окажутся достаточно добры, чтобы поделиться.
– Только не переживайте! – Теймар Парцелл вскидывает руки, как будто хочет усмирить взволнованных зрителей, хотя на самом деле в комнате воцаряется мертвая тишина. – Мне бы хотелось порадовать вас всех прямо сейчас, но придется немного подождать. Мы с вашим опекуном уже все обговорили, осталось лишь взглянуть на карты, чтобы рассчитать как следует маршрут и понять, сколько дней или недель все займет. Поскольку ваш остров летит прямо и не меняет скорость, расчет будет нетрудный…
Он продолжает что-то объяснять, и те мальчики, у которых получше с самообладанием, начинают кивать, поддакивать и даже включаться в разговор, а вот Северо, внезапно утратив остатки решимости, оттаскивает скамеечку для ног в угол к тикающим как попало часам и садится там, обхватив руками колени. Ему хочется стать очень маленьким и спрятаться в какой-нибудь щели, слишком узкой даже для мышонка. Он краем глаза замечает Ванду: она входит с подносом, заставленным чашками и стаканами, такими же разномастными, как тарелки и приборы за ужином. Над ними вьется пар с травяным ароматом. Ванда ставит поднос на поцарапанный столик, у которого вместо одной ножки – полено, и начинает разносить чай, хотя обычно это делает Котенок.
Как и положено гостеприимной хозяйке, она начинает с Теймара Парцелла, а потом подходит к Северо с двумя небольшими чашками. В ее глазах плещется грусть.
– Я тебе когда-нибудь рассказывала, как мы – мой прежний остров, из каравана – попали в урданет? – Северо уныло качает головой. – Ну, ты же знаешь, что такое урданет?
Теймару Парцеллу тем временем удается вселить в Типперена Тая и остальных некоторую бодрость, и даже Принц, спустив одну ногу с подоконника, прислушивается к какой-то байке, которую теперь рассказывает грешник, спокойно держа стакан с кипятком золотой рукой. Жестикулируя, он то и дело прихлебывает из стакана, и Северо вдруг замечает, что Ванда, сосредоточенно прищурившись, следит за каждым движением гостя.
– Это такое течение, – говорит он, поскольку она ждет ответа на вопрос. – Постоянное, очень мощное, движется… ну… приблизительно по кругу, громадному такому кругу, размером с остров или даже континент. В урданетах иногда погибают махолеты и острова, но поскольку эти течения почти не смещаются, если помнить ориентиры и маячки, то…
– …а если забыть или проспать, – мягко перебивает Ванда, не переставая следить за грешником, – тебя затянет в самую середину потока, откуда мало кто способен выбраться без посторонней помощи. И ты, скорее всего, умрешь от голода и жажды.
Грешник на секунду замирает и второй – живой – рукой касается горла. Начинает кашлять, как будто подавился чаем. Растерянный Северо переводит взгляд с него на Ванду, которая так и стоит с чашкой в руках, не притронувшись к напитку. Лицо у нее белое от напряжения, скулы под кожей кажутся острее обычного.
– Зачем ты мне это рассказываешь? – спрашивает Северо, не сводя с нее глаз.
– Затем, – говорит она, – что если ты заблудился во тьме и вдруг впереди замаячил огонек, то надо лететь к нему, чего бы это ни стоило.
Миг спустя раздается грохот падающего тела.
28-й день месяца вихрей
***19 год
[часть листа сгорела]
…попытка успехом не увенчалась, и лишь чудом меня не разорвало напополам вместе с платформой. Когда я рассказал Старцу о случившемся, он, кажется, искренне рассердился и долго сыпал ругательствами, общий смысл которых сводится к тому, что я полный идиот, – с чем, видимо, следует согласиться.
Но как можно было устоять? Это первый проблеск надежды за несколько лет, первый ключ к разгадке Облачной грани, который кажется достаточно прочным, чтобы не сломаться в замке. Пусть все и завершилось неудачей, я не сдамся и попробую еще раз. Если ты заблудился во тьме и вдруг впереди замаячил огонек, то надо лететь к нему, чего бы это ни стоило.
Впрочем, есть и хорошие новости: твой рисунок – тот самый, что исчез во время вторжения шустриков, – нашелся! Л. принесла его мне, сама не своя от радости. Мы оба были уверены, что мелкие поганцы разорвали в клочья все бумаги, которые им удалось разыскать в комнате, но…
Иной раз приятно ошибаться.
Это ли не знамение, любовь моя?
– Что ты сделала? – тихо говорит Типперен Тай.
Ванда выкарабкивается из тишины внутри себя, как муха из янтарного безвременья, и видит растерянные лица мальчиков, которые пока что совсем ничего не понимают, кроме той истины, с которой никто не поспорит: их гость мертв.
Грешник лежит на полу в позе зародыша, его золотые глаза остыли и побелели, а искусственная рука размякла – плоть стекла с нее на пол блестящей лужей, будто парафин, обнажив кости, тоже золотые, а также ключ-кольцо на среднем пальце.
– Что ты сделала? – повторяет Типперен Тай, глядя воспитаннице прямо в глаза.
Лицо у него каменное и белое как известь.
– Я взяла мшистую зелень из кладовки в оранжерее и насыпала ему в чай, – ровным голосом отвечает она. Увиливать от ответа бесполезно, да таких планов у нее и не было. – На моем прежнем острове однажды вышло так, что…
– Она ядовита не только для насекомых, я знаю, – перебивает опекун. В его глазах мелькает тень, которую Ванда не может истолковать: она слишком мало прожила на свете, чтобы знать толк в таких тенях, и каждая новая встреча с ними сбивает ее с толку. – Все знают. Что ты… зачем ты это сделала?
Почему он спрашивает?