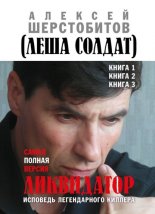Первая печать Осояну Наталия

– Знаменитым пиратом, – уточняет Парцелл. Типперен глядит на него молча, с чем-то вроде удивления. – Пожалуй, одним из самых грозных воздушных разбойников текущего века. Твоим именем до сих пор пугают детей. А когда дети вырастают, они пользуются им вместо ругательства, если говорят о каком-нибудь беспринципном мерзавце…
– Допустим, ты прав, – сквозь зубы отвечает Типперен и проверяет веревки на прочность. Они выдерживают. – Что дальше?
– Дальше я хочу услышать остальных. Но сперва кое-что…
– …Объясню. Тот, кого вы называли Принцем, вам врал, – продолжает грешник, и язык Северо вновь тянется к пустоте на месте выпавшего зуба. Он чувствует, как движение становится привычным – как сама пустота становится привычной, – и это пробуждает странную злость. – Он родился не в королевской семье. Он был… скорее всего, он был портовым воришкой, которому нравилось изображать особу голубых кровей в изгнании после вероломного переворота. Это куда интереснее, чем признаваться, что твой отец – сутенер или какая-нибудь другая темная личность.
– Откуда вы эту з-з-найти? – спрашивает Толстяк, от волнения вновь коверкая слова, как будто одновременно заикаясь и сражаясь с неродным языком.
Ну да, думает Северо, как же ему раньше такое не пришло в голову: алетейское наречие, на котором они общались друг с другом, Толстяк выучил. И в самые сложные моменты пытался перейти на какой-то другой язык.
– Я встречал много людей и читал много книг, – отвечает Парцелл. – Я привык не открывать то и другое без разрешения, но… временами… наступает момент, когда иначе нельзя. Любопытно, что в вашей маленькой компании действительно был – и есть – принц, наследник престола. Никому из вас такое и в голову не пришло.
Кто-то ахает от изумления.
– Что?.. – растерянно спрашивает Северо, понимает, что заговорил вслух, и невольно зажимает себе рот рукой.
А потом окидывает комнату взглядом и видит, как краснеет Толстяк: горячая волна поднимается у него по шее, переползает на щеки, уши, лоб. На фоне комнаты, окрашенной в оттенки серого, его лицо выглядит по-настоящему алым, словно закат.
– Я видел портрет вашего покойного отца, – прибавляет грешник, повернувшись к Толстяку, который сидит на софе, болезненно выпрямив спину, словно ему в затылок вколотили железный прут. – Вы очень похожи на него, ваше высочество. Или я должен сказать… Впрочем, это сейчас неважно.
– Огрызок! – вскрикивает кто-то. – Что за ерунду ты несешь! Огрызок!
Это Котенок. Младший островитянин вскочил с софы, где сидел рядом с Толстяком, и теперь грозно таращится на Парцелла, сжав кулаки. Его гнев выглядит нелепым и совсем неопасным, ведь малыш даже не вооружен. Но растерянный Северо вдруг задается вопросом: а если бы у Котенка в руке был, к примеру, нож?..
Он же не пустил бы его в ход, верно?
Парцелл встает со стула, поворачивается лицом к Котенку. Кладет на сиденье какую-то плоскую и острую штуковину, которую до сих пор прятал в металлическом кулаке. Его голос по-прежнему звучит очень тихо и как будто бы нежно, однако это нежность рук целителя: под ней скрывается твердая решимость сделать больно, если этого потребуют обстоятельства.
– А вот пиратов в вашей компании всегда было два. Большой и… маленький.
– Нет! – кричит Котенок, и по его щекам катятся слезы. – Ты ничего про меня не знаешь! И про моего отца ты ничего не знаешь! Ты понятия не имеешь, как все было!..
– Так расскажи, – просит Парцелл и горько улыбается. – Если ты на самом деле хоть что-то помнишь, конечно.
Взвизгнув и выпалив какое-то невразумительное ругательство, Котенок бросается к Ванде, обнимает ее за ноги.
Северо лишь теперь замечает, какое у нее бледное лицо.
– Полотенце, – тихо говорит она, не сводя глаз со стула, на котором до недавнего времени сидел грешник. – Посмотрите на полотенце.
Северо и остальные смотрят и видят цветы, которые кажутся ярче обычного – словно кто-то брызнул голубой краской на серый холст. От растерянности Северо с силой проводит рукой по лицу, глазам от этого движения делается больно – и он видит искры, которые превращаются в знакомые узоры, ползающие по стенам. На этот раз преобладают обрывки предложений на незнакомом языке, рисунков почти нет.
– Ты, – внезапно говорит Парцелл и поворачивается к нему. – Ты.
От единственного слова Северо вздрагивает как от пощечины.
– Кто ты такой?
– Я… – В горле пересохло, язык не слушается. – Я… жил в илинитской обители… Я сказал правду…
– Но не всю. Кто ты такой? Почему тебя отправили в горы? Что ты сделал?
Воспоминания снова набрасываются из тьмы минувших лет. Слова на столе в трапезной, слова на стене сарая, слова, слова, слова… Он так и не понял их смысла – точнее, почувствовал этот смысл, но не смог впустить его в свое сознание. И все же наблюдать за ними было так интересно, что однажды Северо не сумел скрыть от окружающих, чем он занят.
«…еретики и отщепенцы вроде тебя! Из-за таких, как ты, разрушился старый мир! Будешь служить до последнего вздоха и все равно не отработаешь даже сотой доли того, что…»
– Я… я видел знаки повсюду… Я не знал, что это те самые знаки, которые запретил пророк Илин…
– Тебе объяснили. Тебе сказали, кто ты на самом деле: печатник. Один из тех, из-за кого, как считают в илинитских обителях, погиб прежний мир.
– Да. – Северо переводит дух и вынуждает себя расправить плечи, поднять глаза и посмотреть грешнику в лицо. – Меня отправили в горную обитель… в ссылку. Но там все продолжилось. И поскольку горные братья и сестры всё знали, от их внимания ничего не ускользнуло…
«Н-на, получай. Будешь знать, как нарушать заповеди».
«Нужник уже вымыл? Ну иди, иди, там тебе на кухне налили миску помоев».
«А за это ты останешься снаружи до полуночи. Что? Там мороз? Попроси своих демонов, чтобы согрели».
Синяки и ссадины, почерневшие пальцы на ногах.
Ноют от сырости и холода кости, вспоминая о переломах.
И когда в свинцовом небе чье-то справедливое перо рисует галочки-махолеты, которых никто не ждет, которых не должно быть, Северо некоторое время смотрит на них, потирая ушибленный затылок, отвлекшись от подметания посадочной площадки – это совершенно бестолковое занятие, стаи беспокойных птиц, обитающих среди крыш громадной обители, все снова загадят в считаные часы, – а потом решает, что с незваными гостями старейшины разберутся сами.
Письмена на плитах подсказывают, что это за гости. Сегодня он может их понять.
Но предпочитает этого не делать.
– Так что же ты…
– Я промолчал, – говорит Северо, не узнавая собственный голос. – Когда они прилетели, я промолчал – никого не предупредил. И… кажется, там не осталось выживших.
Типперен Тай – пират, которого они называли этим именем, – хрипло хохочет.
Обрывки фраз, ползающие по потолку и стенам – по желтым обоям с бледно-зелеными веточками, усыпанными мелкими красными ягодами, чье название никому не ведомо, – скручиваются в улиточьи раковины, делаются все меньше и меньше; исчезают.
Грешник стоит рядом со стулом; на сиденье лежит вещь, которую он до сих пор прятал, и с того места, где Ванда оцепенела рядом с креслом Иголки, отлично видно, что это узкий и длинный как кинжал осколок стекла. Наверное, Парцелл прихватил его в движительной, когда никто на него не смотрел.
Нет, не совсем верно: это осколок зеркала.
– Я допустил ошибку, – говорит грешник, глядя на Ванду. На его усталом бледном лице вновь появляется грустная улыбка. – Но еще не поздно ее исправить. Эту череду разоблачений стоило начать… с меня.
Он подходит к табурету, на котором сидит ухмыляющийся пират, останавливается в двух шагах, смотрит сверху вниз. Рукой из металла проводит по лицу – для Ванды ничего не меняется, но связанный Типперен шумно втягивает воздух сквозь стиснутые зубы и глухо рычит.
Парцелл усмехается:
– Узнал. Мы действительно встречались. Очень, очень давно…
– Я вспомнил, – тихим зловещим голосом отвечает пират. – Я наконец-то тебя вспомнил, паршивец. Сколько тебе было лет? Семнадцать? Пятнадцать?
– Четырнадцать.
– И ты… ты был… ты смог…
– Давай помогу произнести это вслух: слепой и однорукий калека, которого ты пощадил, желая произвести впечатление на пленницу – капитанскую дочь, однажды ночью взял да и украл ценную добычу… красивый темно-синий махолет, который ты хотел оставить себе. Неприятно о таком вспоминать, да. Рискну предположить, что ты загнал эту историю в самый отдаленный чулан своих чертогов памяти.
– Я тебя искал! – рычит Типперен. – Я хотел тебя убить!
Парцелл кивает с неподдельным сочувствием:
– Прошло слишком много лет – даже ненависть так долго не живет.
Пират бормочет ругательства; грешник возвращается к своему стулу. Бросает быстрый взгляд на Ванду, потом берет осколок с сиденья и поднимает его над головой, будто стремясь проткнуть острым концом потолок.
Ванда несколько секунд смотрит на обивку кресла, которая из темно-серой вновь сделалась коричневой с рыжеватым отливом, а потом усилием воли вынуждает себя поднять голову и взглянуть в огромное зеркало, которым теперь увенчана гостиная.
Когда это началось?
Она не помнит.
Кажется, так было всегда, и ей хватило времени, чтобы научиться многим вещам: заплетать косы вслепую, умываться без зеркала, отворачиваться от любой отражающей поверхности, будь то новенький чайник или оконное стекло. С окнами было проще – они рисовали не слишком четкую картинку, но от нее все равно внутренности скручивались в болезненный, липкий и холодный комок, а в висок вгрызалось жадное сверло.
Она видела, она все видела и знала; такое не забывается.
И прямо сейчас, когда она вновь видит это, некая отстраненная часть внутри нее удовлетворенно кивает: воспоминания соответствуют действительности, ах, как это славно, в мире еще осталось нечто незыблемое.
Типперен Тай, или тот, кого они так называли: сгусток тьмы, в котором нет ничего человеческого.
Северо: рубаха кажется черной от крови, что вытекла из перерезанного горла.
Толстяк: лицо и руки – угольная корка; в трещинах местами проглядывает алая плоть.
Котенок: раздутое вдвое от привычных размеров тело, выеденные рыбами глаза.
Свистун: голова все падает, падает то на грудь, то на плечо; не может удержаться на сломанной шее.
Молчун: единственный, на ком нет признаков насильственной смерти, но эти белые глаза, эти лиловые пятна на щеках…
И сама Ванда: искаженное в судорожной гримасе, почти неузнаваемое лицо с позеленевшей кожей, пена на губах.
– В этой комнате… – тихо говорит она. – В этой комнате прямо сейчас всего лишь…
…Как все случилось?
Когда остров затянуло в урданет, была ее вахта. Потом она сотню раз повторяла своей второй приемной семье, что предупреждающие маяки не горели – наверное, нерадивый смотритель пропустил очередной облет; а может, печати по какой-то другой причине пришли в негодность. Так или иначе, дьюс острова не изменил курс, и на долгие месяцы они оказались отрезаны от остального мира.
Это были самые длинные месяцы в ее жизни.
Она даже не догадывалась, на что способны люди, охваченные жаждой мести, когда думают, что им нечего терять и что виновного никто не защитит, и сам он тоже не сумеет защититься.
После того как в конце концов более бдительные и везучие соплеменники смогли забросить терпящим бедствие достаточно крепких канатов с крюками, которые не сорвались от первого же рывка, и общими усилиями выволокли остров из опасного течения, с виду жизнь пошла по-старому… Но на самом деле мало что изменилось.
И в тот день, когда птенец…
Нет.
В тот день, когда молодой пират, внедрившийся в караван, чтобы добраться до его предполагаемых – но несуществующих – сокровищ, впервые стал оказывать Ванде знаки внимания, она ответила ему.
Разве могло быть иначе?
– В этой комнате прямо сейчас только два живых человека.
Рука Иголки ложится поверх ее руки, твердо и уверенно.
«О боги, до чего же яркие все эти цвета…»
Два живых человека стоят посреди вихря обломков, в котором время от времени можно различить фрагменты, имеющие смысл: лица, лица, множество лиц; окно с яркими голубыми шторами, скамейка под сенью старого вяза, путевой журнал, заполненный аккуратным почерком (пусть строчки и сочатся алым, поскольку написаны они не чернилами, а кровью сердца), удобное кресло с чуть потертыми подлокотниками – на одном забытая, перевернутая книга…
Два живых человека смотрят друг на друга.
Где-то рядом рассыпается третий – не совсем живой, – и когда от него остается горстка праха, этот прах тоже подхватывает вихрь, уносит прочь. На полу остается ключ-кольцо: безупречное, золотое, поблескивающее в лиловых сумерках.
Как тебя зовут по-настоящему?
Лия. Лия Монтелла. Моего отца звали Бруно, мою мать – я ее не помню, она умерла, когда я еще не умела разговаривать, – звали Вив.
Лия, ты понимаешь, где мы находимся? Ты знаешь, что это за место?
Это… потусторонний мир?
В некотором роде. Твой остров летает у самого рубежа, который называется Облачная грань, и время от времени пересекает его в обе стороны. Сейчас мы за пределами мира живых. Лия, я могу сделать так, что мы туда вернемся насовсем. Ты этого хочешь?
Я… А зачем?
Твой остров пугает махолеты и караваны птах. Он никому не причиняет зла, но его видят так часто, что боятся все сильнее. Меня наняли, чтобы разгадать эту загадку и, если получится, устранить источник опасности. Люди страшатся того, чего не понимают. Ты и сама знаешь.
Да… Все начинали бояться моего отца, когда он рассказывал о своей цели.
Так или иначе у него почти получилось.
Нет. Это у меня получилось.
Объясни?
Я всегда стояла у него за спиной, заглядывала ему через плечо. Я видела фрагменты, отрывки, обрывки… ничего не понимала, но все запомнила. У меня всегда была хорошая память.
И… в какой-то момент… ты все соединила?
Или оно просто – само – соединилось в моей голове. Щелк-щелк-щелк! Все кусочки встали на свои места, и печать родилась. Я увидела дверь в его разуме, в его памяти, открыла ее, и оттуда вышли они. Все дети, которых он…
Да.
Они стоят посреди вихря, и в нем вновь проступают лица, образы, имена. Красивая грустная девушка с черными волосами, заплетенными во множество кос; высокий робкий парень с умным взглядом, чуть скособоченный – наверное, когда-то сломал ключицу, и она нехорошо срослась; мальчишка лет восьми, с милым личиком и озорным блеском в глазах, чем-то похожий на игривого зверька; высокий и полный мальчик постарше, полный и с пухлыми щеками, старательно собирающий жучков с куста картошки; еще один, темноволосый, с длинным и сосредоточенным лицом, с пальцами, навеки испачканными в чернилах; и последний – очень тихий, зеленоглазый и с волосами мышиного цвета, склонный прятаться от того, кто называл себя их опекуном, потому что единственный из всех смутно помнил о его преступлениях.
Были и другие.
Давным-давно.
А что будет с ними, если я решу вернуться?
Не знаю.
Нет… ты врешь. Скажи правду.
Я действительно не знаю наверняка. Подобное случилось в первый раз – твой отец неспроста всю жизнь искал печать, размыкающую врата потустороннего мира. Никто не в силах предсказать, что произойдет. Но… по тем историям, которые мне поведали… по всем свидетельствам очевидцев… когда остров замечали, он всегда выглядел необитаемым.
Она молчит. Смотрит на кружение вихря, склонив голову набок; о чем-то думает. Протягивает руку к одному из образов, что проносится мимо, как будто хочет его коснуться, но не смеет.
Я спрашивала себя – в те моменты, когда мне было не все равно, – настоящие они или просто его воспоминания. Либо выдумка – моя собственная выдумка. Он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть.
А что ты думаешь теперь?
Иголка – Лия Монтелла – ничего не говорит Теймару Парцеллу и его дьюсу, а просто смотрит им в глаза, спокойно, уверенно, с легкой улыбкой человека в самом начале долгого и, скорее всего, трудного пути. Они некоторое время выдерживают этот взгляд молча, а потом кивают и улыбаются в ответ.
Она наклоняется, подбирает с пола ключ-кольцо.
И надевает его на палец.
[запись посреди чистого листа, дата отсутствует]
Я верну тебя.
Что бы ни случилось, что бы ни ждало меня впереди.
Я пойду за Облачную грань и обязательно тебя верну.
Ведь покуда мы живы, всегда есть
[дописано другим почерком; чернила еще не высохли]
НАДЕЖДА.