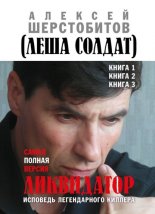Первая печать Осояну Наталия

Разве не понимает зачем?
Ведь тот, кто взял на себя ответственность за чужие жизни, должен сразу понять.
Ванда делает шаг навстречу Типперену, потом еще и еще один. Вот они стоят напротив друг друга: он высокий, хоть и сутулится, с изможденным лицом и темным, мрачным взглядом. Она расправляет плечи, как будто это поможет не смотреть на него снизу вверх, прикусывает губу и усилием воли запрещает себе теребить кончик косы.
Типперен опять что-то спрашивает, но она не слышит: его голос теряется за шумом крови в ушах. Ей действительно трудно подобрать слова, чтобы объяснить очевидную истину. Для ремонта требовались запчасти, и сам Типперен упоминал, что был бы весьма кстати неповрежденный движитель, с помощью которого можно сделать… что-то. И вот он, движитель. Вместе с запчастями; хотя тут ей приходит в голову запоздалая мысль, что ярое сердце махолета может иметь совсем другое устройство, чем движитель острова, – оно же, во-первых, намного меньше…
Какая разница.
Теперь у них есть то, чего не было раньше: надежда, пусть и окрашенная в серовато-зеленый цвет.
Постепенно все стряхивают оцепенение и начинают говорить, а потом и кричать. Проходят считаные минуты, и вот они уже орут друг на друга, никто не пытается выслушать аргументы противоположной стороны. Кажется, все чувства, которые пленники сломанного движителя скрывали на протяжении… она почему-то не может точно сказать, скольких дней… выливаются наружу мощным потоком, перед которым не устояла бы ни одна плотина.
Нет, вдруг понимает Ванда, потоков в комнате два, и направлены они в разные стороны. Котенок бросается к ней, обнимает за талию, прижимается лицом к животу и что-то быстро шепчет сквозь слезы; она не может разобрать ни единого слова, но интонации кажутся очень знакомыми – однажды маленькая девочка вот так же плакала, когда ей сообщили страшное известие, и повторяла два коротких слова, которые надо было сказать намного раньше.
Принц наконец-то спрыгивает с подоконника и подходит ближе, кладет руку ей на плечо и – что для него большая редкость – не говорит ни слова. Свистун остается на своем излюбленном месте – восседает на высокой спинке старого, продавленного и потертого кресла, словно огромный попугай, – но одобрительно кивает ей оттуда и вновь вовлекается в спор с Толстяком.
Сам Толстяк в другом лагере. Как Типперен, Молчун… и Северо. Почему-то ужас в глазах Северо и его скупые фразы, полные упреков, ранят больнее всего.
Еще некоторое время мальчики пререкаются; Типперен умолкает первым, понимая очевидное. Все очень просто; сама Ванда это осознала еще до того, как махолет Теймара Парцелла коснулся их посадочной площадки. Жажда жизни в них слишком сильна, чтобы отказаться от шанса на спасение.
Все взгляды снова устремляются на нее. Типперен набирает воздуха в грудь, собираясь что-то сказать – быть может, отчитать ее, унизить, проклясть? – но Ванда лишает его такой возможности.
– Ну что вы стоите? – Поразительно, до чего сухо и жестко звучит собственный голос. – Берите его ключ-кольцо – и скорее к махолету, пока нас не унесло еще дальше в океан.
«Надо же, какая жестокая девочка…»
«Кто это сказал?»
Неважно. Иногда в ее голове звучат голоса из прошлого – такие четкие и звонкие, что их не мудрено перепутать с реальными голосами. Сейчас путаница непозволительна. Типперен замирает на месте с видом сломанной куклы, мальчики не спешат повиноваться – и хотели бы, но мешает страх перед грешником, даже мертвым, – и потому Ванда опять берет на себя самое трудное. Она подходит к трупу их гостя, приседает рядом…
А вдруг жидкое золото обожжет пальцы?
Вдруг она отравится от прикосновения к его телу?
Не важно.
«Нет, я неправ. Ты просто очень самоотверженная».
– Да что это за голос?! – в отчаянии вскрикивает Ванда и хватает мертвую руку за лучевую кость из золота, тянет на себя. Кольцо от собственной тяжести соскальзывает с обнаженных фаланг, со звоном падает на пол. Потянувшись за ним, она замечает паутинный проблеск – как будто эта штуковина и кости соединены друг с другом тончайшей нитью, тоже из золота, – но рука действует быстрее, чем разум успевает осмыслить увиденное.
Дальше все происходит почти мгновенно.
Кольцо и впрямь горячее – не раскаленное, но все-таки пальцы обжигает, как ручка сковороды; и оно опутано нитями, которые мгновенно прилипают к коже, словно намазанные клеем. Неведомая сила рывком тянет Ванду вперед, она падает на колени и оказывается почти лицом к лицу с трупом грешника, а ее рука ложится в его костяную ладонь, словно в самом начале танца.
Мир погружается во тьму, в центре которой вспыхивают золотые глаза.
– Знаете, что бы с вами произошло, умри я на самом деле?
О Пророк, думает Северо и внутренне содрогается оттого, с какой легкостью к нему вернулся идол из прошлого; о Пророк, неужели этот безумный день мне не снится? Может, я до сих пор сижу на подоконнике в своей комнате и ничего вообще не случилось, не было никакой молнии, никакого бесцельного полета над одним океаном и сквозь другой?..
– Знаете? – повторяет грешник, поправляя воротник куртки, а потом с демонстративной медлительностью обводит взглядом островитян. До того как Ванда принесла чай, они тянулись к странному гостю, словно цветы к солнцу, а теперь каждый стремится от него убежать, насколько это позволяет комната. Сам Северо, гонимый стыдом за то, чего не делал, но допустил, вернулся на свою скамеечку у часов и забрался бы внутрь их корпуса, если бы смог.
Потерявшую сознание Ванду они усадили в кресло, рядом с которым теперь стоит Типперен.
Северо почему-то не в состоянии понять, перед кем их опекун опустился на колени.
– Вирна разорвала бы на части любого, – с мстительной радостью сообщает золотоглазый… Или эта мстительная радость лишь мерещится Северо и остальным? Он понимает, что никогда раньше не задумывался, сколь важную роль играют глаза в отражении истинных чувств на лице. – Наша связь куда сложнее ключ-кольца, вам не по силам ее воспроизвести – это никому не по силам. Хотел бы я поглядеть на ваши лица в тот миг, когда на плиты посадочной площадки пролилась бы кровь того, кого вам по-настоящему жаль.
– Мы совершили большую ошибку… – хрипло говорит Типперен Тай, глядя на Теймара исподлобья. – Я умоляю о прощении.
Все замирает; мир – остров – как будто тонет в янтарной смоле.
Грешник смотрит на них, чуть склонив голову набок, и…
И его губы изгибаются в кривой невеселой улыбке.
– Так! – Он хлопает в ладоши и решительным шагом направляется к незанятому стулу, разворачивает его спинкой вперед и садится, скрестив поверху руки, уткнувшись в них подбородком. – Я весь внимание. На этот раз, пожалуйста, без вранья.
Семеро переглядываются – семеро, потому что Ванда без сознания, а Иголки нет. Без вранья? Но ведь они и не лгали, растерянно думает Северо, они рассказали обо всем, что случилось во время грозы, а… то, что Ванда сделала… было лишь ее тайной.
Теймар Парцелл ждет, и древние часы выбирают именно этот момент, чтобы издать гулкий звон, от которого у Северо начинает гудеть в голове, потому что он сидит совсем рядом. От гула он на несколько секунд выпадает из реальности, а когда возвращается, слышит тихий рассказ Свистуна про Архив Ки-Алиры, где тот работал помощником писца с тех самых пор, как научился держать перо в пухлых детских пальцах. Северо об этом уже слышал, и не один раз: архивная пыль и запах чернил так приелись Свистуну, что, когда его взял с собой прислужником один курьер, посланный с неким важным документом в Пристанище Лебедей, и в пути им попался этот самый остров, он спрятался на чердаке, поэтому курьеру пришлось улетать одному.
Котенок рассказывает, как сбежал от злых людей, которые убили его отца, и повстречал Типперена в закоулках какого-то безымянного городишки далеко на севере.
Толстяк с большой неохотой бормочет что-то про государственный переворот в королевстве Юнлелла, про погромы и реки крови, в которые перешло противостояние между бунтовщиками и теми военными отрядами, что сохранили верность властителю-тирану. Он очень не любит вспоминать, как спасся из города вместе с компанией весьма темных личностей, но именно у них его в конце концов и забрал Типперен Тай.
Принц, высокомерно изогнув бровь, коротко сообщает: его отец – король одного из государств Прибрежного края, и нет, он не скажет, какого именно; это секрет. Его выкрали из дворца враги государя, и пока что он не может вернуться домой, потому что из-за сложных интриг это способно повлечь за собой великое кровопролитие. Но однажды… о да, однажды… Тут Принц хмурится, умолкает и взмахом руки велит выступать следующему.
Молчун качает головой и сжимает губы так плотно, что рот как будто исчезает. На узком худом лице под шевелюрой мышиного цвета отражается смесь эмоций, в которой преобладает страх, но невозможно понять, чего именно он боится. Грешника? Типперена? Воспоминаний? Того, что сейчас ему наконец-то придется заговорить?
– Он молчит, – сообщает Северо неожиданно для самого себя. Наверное, это должен был объяснить сам Типперен, однако опекун по-прежнему стоит на коленях возле кресла, прижимая к груди изувеченную руку, и не собирается начинать. – Мы потому и зовем его Молчуном. Даже имени настоящего не знаем, и… в общем, ничего другого тоже не знаем.
– А ты? – спрашивает грешник, переведя на него взгляд золотых глаз. Северо это чувствует – кожу начинает покалывать, как будто зимний ветер бросает в лицо ворох острейших льдинок.
– Я…
Ну да, разумеется – Ванда без сознания, Иголка безумна и неведомо где, а единственный взрослый не станет говорить о себе, пока не исповедались все дети. Значит, и впрямь остался только сам Северо, беглый илинит, предавший древние обеты и навлекший несчастье на себя и своих новых друзей.
– Я родом из земли под названием Хинн. Городок, где я появился на свет, находится у самых Версийских гор, но я там прожил мало и почти ничего не помню, даже название забыл. Родители… они… переселились в обитель посреди леса и забрали меня с собой.
– Что это была за обитель? – спокойно спрашивает грешник.
– Илинитская, – признается Северо. И, хотя для всех остальных это никакой не секрет, ему почему-то становится очень стыдно. Он опускает глаза и начинает с мучительной сосредоточенностью разглядывать потертые мыски ботинок, которые достались ему, босому и облаченному в наряд без швов, от… какого-то воспитанника Типперена, давно уже не живущего на острове.
Как же его звали?
– Илинитская? Удивительно. Но ты же умеешь читать и писать, – говорит Теймар Парцелл, и теперь, когда Северо на него не смотрит, голос грешника звучит совсем не так холодно и жестоко; в нем отчетливо слышится любопытство и даже некий намек на… сочувствие?
– Я сам научился, – мямлит Северо, опускает голову и беззвучно молит Пророка Илина – потому что не знает, к кому еще обращаться, – чтобы грешник не спросил, как это случилось и чем все закончилось.
Наступает тишина – гнетущая, тяжелая. Северо почти чувствует ее вес на плечах, на затылке; он не сможет выпрямить шею, даже если захочет, и его такой расклад даже радует. Но все-таки молчать тяжело, потому что он ждет рассказа Типперена, а тот все не начинается, и… как быть с Вандой? С Иголкой? Неужели ему надо рассказать и про них тоже, раз он последний из воспитанников, кому выпало говорить с золотоглазым гостем?
«О Пророк…»
– Ладно, – внезапно говорит грешник. Раздается скрежет ножек стула по каменному полу – гость встает. – Все с вами ясно. Мне бы весьма хотелось просто улететь и предоставить вам пройти свой путь до конца, как уготовано судьбой или какими-то неведомыми богами. Но тогда меня замучает… Хм… можете считать это голосом совести.
«Спасибо, я теперь и сам буду себя им считать».
– У меня есть план, – продолжает грешник. – Чтобы воплотить его в жизнь, понадобится ваша помощь. На самом деле всем участвовать не обязательно, однако чем быстрее мы справимся с подготовительным этапом, тем быстрее перейдем к главному.
Северо осторожно поднимает голову и видит, как мальчики переглядываются. В их глазах опять робко вспыхивает надежда. Лица Типперена он не видит – тот повернулся спиной к старым часам, – но немыслимо, чтобы их опекун испытывал какое-то другое чувство.
– Слушайте меня внимательно…
И Северо слушает, одновременно пытаясь запихнуть в дальний чулан разума вопрос, который внезапно заметался в голове, как ненароком залетевшая в окно птица.
Нет, он не спрашивает себя, почему грешник не стал выяснять прошлое Ванды или самого Типперена. Причина действительно непонятна, и все-таки нечто вроде интуиции подсказывает, что с этим можно разобраться чуть позже.
Северо тревожит другое.
Каким образом Теймар Парцелл понял, что он умеет читать?..
– Эй, очнись!
Отвратительный резкий запах – от слабой примеси лаванды и тимьяна его невыносимая суть лишь ощущается острее – бьет в нос, и тотчас же на глаза наворачиваются слезы. Ванда моргает, пытается отпрянуть, но что-то мешает. Пальцы рефлекторно сжимаются на мягком; потертый бархат обивки, прожженная дыра на правом подлокотнике. Кресло Типперена. Гостиная и гость.
Чай.
Ванда вздрагивает всем телом, и Принц, едва успевший закрыть флакончик с нюхательными солями и сунуть его в карман, торопливо хватает ее за плечи. В этом движении причудливым образом сочетаются неуклюжесть и искреннее беспокойство. Внутри нее, вопреки всем обещаниям, лопается жесткое семя и выпускает нежный, бледно-сиреневый, пока еще бесформенный росток.
– Что…
Голос подводит: начинается приступ жестокого кашля, на который почему-то никто, кроме Принца, не реагирует. Ванда смаргивает слезы с глаз, озирается: они одни, если не считать Иголку, которая копошится в углу возле окна, наполовину замотавшись в пыльную штору. Кажется, она играет с одной из своих старых кукол.
– Он жив, ты не причинила ему вреда, – тихо говорит Принц без тени обычной заносчивости и бросает на Ванду быстрый взгляд из-под опущенных ресниц, очень густых и таких черных, словно глаза подведены сурьмой. Она… никогда этого не замечала. – Просил передать, что не держит на тебя зла. У него есть идея, как помочь нам, которая… которая, если честно, меня очень тревожит. Как и он сам, чего уж скрывать.
Она снова начинает кашлять, и он приносит воды в черпаке с обгорелой ручкой; у нее когда-то такой был, не здесь. Потом помогает встать – тело непослушное, руки и ноги словно набитые тряпками мешки – и немного походить туда-сюда среди брошенных стульев, табуретов и банкеток, которые чем-то напоминают руины древнего города, давным-давно покинутого людьми. Когда к Ванде возвращаются силы, Принц с растущим беспокойством тащит ее в угол, подальше от Иголки – как будто той есть дело до чужих разговоров, как будто она могла бы понять услышанное, – и на ухо пересказывает тот самый план Теймара Парцелла. По пунктам, с собственными комментариями. Один из этих пунктов вызывает у Ванды тревогу, потому что она не понимает связи между постигшей их бедой и… порядком в доме?
А другой и вовсе кажется нелепым.
– Зеркала? – переспрашивает она. – Мы должны найти в доме как можно больше зеркал?
Принц кивает. В общей картине, которую он для себя почти нарисовал, эта просьба грешника выглядит мелким штрихом, но Принц просто кое-чего не знает, как и все остальные жители летающего острова.
– Что ж… – медленно говорит Ванда, и на миг перед ее внутренним взором возникает красивая, хоть и немного зловещая картина: блестящие осколки летят, в лучах заходящего солнца переливаясь всеми оттенками алого, прямиком в пучину Срединного океана. Пожалуй, в тот момент она была по-настоящему рада, что на острове нет других девочек, девушек, женщин – если, разумеется, забыть про Иголку, которая из-за своей болезни и немоты ощущалась в некотором роде бесполой. Остальные даже не заметили исчезновения зеркал. – Что ж, раз все так складывается… не будем выделяться, да? Возьмем на себя часть приготовлений, а там…
– Посмотрим, – подхватывает Принц и понимающе улыбается. – Там посмотрим.
Домашний дьюс, сказал грешник, некоторым образом напоминает ребенка. Он способен учиться – и учится, подражая тому, что видит, а потом в меру сил перекраивает реальность под себя. Если в доме живут люди, которые во всем способны узреть только темную сторону, дьюс со временем научится делать ее еще темнее; если же они будут любить друг друга больше жизни, ценить каждый миг, проведенный вместе, он сотворит для них маленький рай на земле – ну, или в воздухе.
Но такое, тут же прибавил грешник, случается очень редко.
Итак, первый этап плана заключался в том, чтобы напомнить дьюсу острова… о порядке.
«О порядке мироздания?» – спросил Типперен Тай.
Теймар Парцелл улыбнулся краем рта.
«Сперва наведем некое подобие порядка в вашем доме, – сказал он тоном ласкового, но строгого родителя. – А потом посмотрим, стоит ли замахиваться на мироздание. В конце концов, то, что вверху, подобно тому, что внизу».
Эти слова показались Северо знакомыми, и теперь, переступая порог библиотеки на втором этаже, где ему поручено было по мере сил создать видимость порядка, он вспомнил почему.
Что вверху, то внизу.
Когда он прочитал эту фразу на стене сарая, была зима. Его бесшовная роба промокла от снега, ноги заледенели, и пальцы внутри грубой плетеной обуви, защищенные от холода лишь древними обмотками, стали бесчувственными и чужими. Пальцы ему мешали, и от мысли, что, быть может, скоро они почернеют и отвалятся, стало легче.
Его послали забрать из сарая печать послушания – плоский и очень тяжелый камень с грубой резьбой, не имеющий с настоящими печатями ничего общего, хотя Северо и не понимал, почему он так в этом уверен. Этот камень служил инструментом наказания нерадивых учеников: его следовало носить повсюду на протяжении срока, назначенного наставником. День, неделю, месяц. Что же он в тот раз натворил?..
Неважно.
Он подошел к двери сарая и увидел слова. Они казались вырезанными ножом, причем достаточно давно, чтобы борозды потемнели, покрылись грязью и даже местами заросли уже мертвым мхом. Никто не заметил – впрочем, ничего удивительного, ведь наставники здесь бывали редко, а остальные ученики в обители не умели ни писать, ни читать.
Что вверху, то…
Поначалу от слов – не этих, любых – Северо всегда становилось больно, словно он-то и был доской, на которой незримая рука вырезала знаки, преследуя неведомую цель. Каждый новый смысл был клеймом, родимым пятном, опухолью, и все-таки он тянулся к этим смыслам, как пьяница к бутылке.
Буквы перекроили его мир, слова – расширили.
Что вверху…
А ведь и в самом деле, какая фраза была первой? Северо замирает посреди библиотеки летающего острова, темной комнаты с полупустыми книжными полками, чье содержимое свалено грудами у дальней стены, где сквозь разбитое двустворчатое окно беспрепятственно проникают внутрь ветер, дождь и снег; там на гниющей бумаге подрастает далеко не первое поколение переливчатой высокой плесени. Что за ерунда! Он помнит, как это случилось: в трапезной, прямо во время ужина, когда братья и сестры смиренно поглощали пищу, а старец Арт тихим голосом пересказывал очередную притчу о подвигах мудрого Илина, который боролся с дьюсами, отказываясь от всякой сложности. Надпись возникла на столе перед Северо, справа от его деревянной миски; она горела золотом, и сидящий рядом брат Лиру не мог ее не увидеть, однако продолжал есть как ни в чем не бывало.
Три слова. Что это были за три слова?
Что…
Северо растерянно потирает лоб, озирается по сторонам – библиотека пуста, но все равно кажется, что на него смотрят из каждого темного закутка, из глубин каждой древней полки, где сырость, грязь и время испортили защитные печати, которые должны были беречь читателей от мощных дьюсов. Он медленно подходит к ближайшей куче мусора, садится на корточки и трогает кончиком пальца растерзанный труп какой-то книги. Соглашаясь на это задание, он не подумал, как будет его выполнять: если в оранжерее или какой-нибудь другой комнате достаточно подмести пол и выкинуть что-нибудь ненужное – вынести во внутренний двор, где они собирались устроить большой костер, – то поступать схожим образом с книгами, пусть даже испорченными, кажется святотатством, которое не искупить и за сотню лет непрерывных молитв. Северо собирает листы в неровную стопку. Даже в сумерках видно, что рукописный текст на верхней странице погублен: часть строчек расплылась, часть сплелась в тугой узел, слегка выступающий над плоскостью бумаги.
Дьюсы отдельных строк слишком слабы, думает он. Им не сбежать.
Пускаться в дальний путь одному – глупая затея.
Из-под наполовину скукожившейся обложки на самом верху кучи мусора торчит уголок листа, который на общем фоне выглядит ослепительно белым. Поддавшись внезапному любопытству и на миг позабыв про грешника, сломанный движитель и прочее, Северо откладывает стопку испорченных страниц так бережно, словно замыслил их восстановить, и тянется к странному листку. Тот мгновенно ныряет под обложку, как испуганный птенчик в гнездо, и бывший илинит, потеряв равновесие, падает лицом на заплесневелые руины.
Которые под ним раскалываются надвое.
Он уже испытал нечто смутно похожее, когда стоял перед отцом и слушал, как тот ровным, безжизненным голосом что-то объясняет про грехи, про присущее человеку стремление отнимать свободу у других, людей и нелюдей, и про наказание. Неотвратимое, неумолимое последствие любого преступления, особенно такого мерзкого, как совершенное Северо.
Не место среди достойных… Душу греховную надлежит отправить туда, где она никому не навредит… Как можно выше и дальше от хрупкого покоя, коий создали в лесной обители, – в мир голого камня и холодных ветров…
В тот раз, конечно, на самом деле пол под ним не треснул, хотя ощущения были именно такие: Северо утратил опору, застыл в невесомости на краткий миг, растянувшийся в бесконечность. Он упал – не в пропасть, а на колени, – и его утащили прочь два дюжих брата, швырнули в узкую комнату без окон, с одной лишь дырой для нечистот в полу, чтобы через неопределенный промежуток времени выволочь наружу и столь же бесцеремонно бросить на телегу, отправляющуюся в горы. Он мало что помнил о том путешествии.
А вот теперь бездна под ногами вполне настоящая, причем она не пуста и никак не связана с небом, которое на самом деле простирается под летающим островом. Словно он только что был на поверхности яйца, и вот скорлупа треснула, открыв взгляду золотой с алыми прожилками желток, пылающую лаву.
Северо в последний момент успевает схватиться за какой-то выступ и повисает на одной руке. В плечо как будто вкручивают раскаленное сверло, но столь близкая смерть творит чудеса с мышцами бывшего илинита. А может, это месяцы тяжелой работы и нескончаемых драк в горной обители дали о себе знать…
Он что-то кричит – зовет на помощь? молится? сквернословит? – но сам не в силах разобрать ни единого слова. Происходящее не может быть правдой, потому что… ну… потому, что на самом деле он на острове, а острова…
С небес не падают.
Мгновения, растянувшиеся в бесконечность, следуют одно за другим – Северо, кажется, ощущает несколько временных потоков сразу и в каждом из них страдает, – раскаленное сверло с хрустом терзает плечо, и пальцы постепенно сдаются. Он чувствует, как сползает навстречу гибели: на волосок, еще на волосок – процесс продвигается медленно, однако жадная лава и то, что в ней притаилось, готовы потерпеть.
Оно, неведомое, видится ему алой тенью под слоем мерцающего расплавленного золота – тенью длинной, гибкой, многолапой и сегментированной, как сколопендра. Существо бегает кругами, рисует спирали и восьмерки, не то в предвкушении, не то просто радуясь возможности двигаться, свободе. Его перемещения притягивают взгляд, но все же Северо в какой-то момент смотрит наверх и видит нечто еще более… странное.
На краю провала, на тонкой скорлупе реального мира, стоит Иголка и задумчиво смотрит вниз. Не на существо под лавой, а на Северо. Если бы не одежда и всклокоченные волосы, он бы ее не узнал, потому что у известной ему Иголки никогда не было такого лица – спокойного и сосредоточенного, мудрого; не отмеченного морщинами, но при этом болезненно взрослого.
«Помоги мне», – хочет сказать Северо, но понимает, что боль из плеча распространилась на гортань и грудную клетку; горло свело судорогой, и легкие при каждом вдохе пронзают миллионы и… и… иголок. Тем временем одна-единственная Иголка продолжает смотреть на него снизу вверх, и в глазах ее Северо мерещатся те же самые слова, что некогда проступили на столе в трапезной.
Он начинает сползать быстрее и понимает, что…
– …Он хочет забрать у нас остров, – говорит Принц.
Ванда сперва кивает, потом хмурится и кусает губу. Они входят в оранжерею, где предстоит «навести порядок». Что вверху, то внизу.
– Зачем ему остров?
Принц явно успел это обдумать: он прячет улыбку и с готовностью начинает объяснять. По его словам, грешники повсюду чужие – особенно такие, чей изъян не спрячешь. Если грешник попытается где-нибудь осесть, местные жители обязательно этому воспротивятся и выгонят его; еще ладно, если просто выгонят, могут и… Тут Принц ненадолго умолкает, и у Ванды возникает подозрение, что он не фантазирует, а вспоминает о каких-то неприятных событиях.
– Каждому нужен дом, – наконец говорит ее спутник, и в его глазах мелькает странная тоска. – Грешникам сложнее его отыскать. Вот потому он и нацелился на наш остров, наш милый и уютный остров…
Ванда качает головой. Вроде правильно – и все-таки ей с трудом верится. Может быть, все дело в том, что она прожила в небесах гораздо дольше, чем любой из мальчиков, – и, наверное, дольше, чем сам Типперен. Она родилась в небесах и, строго говоря, за всю свою жизнь ступала на нижнюю землю – Дно, как называли ее Птахи между собой, – только когда отправлялась на рынок; столько раз, что для подсчета хватило бы пальцев одной руки. Она повидала множество островов, и нынешний, запущенный и мрачный, выглядел на их фоне не слишком привлекательно.
Потревоженная память – все равно что крупинки заварки на дне чашки с травяным чаем. Кружатся и кружатся, никак не хотят оседать. Принц все еще что-то говорит про Теймара Парцелла и его коварный план, но Ванда его не слышит: она машинально открывает чулан, достает метлу и идет между рядами растений в ящиках и кадках туда, где – вроде бы? – на полу виднеется скрюченный сухой лист. Толстяк следит за чистотой своего маленького царства; наверное, было не слишком справедливо опередить его с выбором места уборки. Но Принц, увидев цель, забывает обо всем, а уединенная оранжерея как нельзя лучше подходит для того, чтобы поговорить вдали от чужих ушей…
Нет, это все не важно.
…сырой подвал, провонявший нечистотами, тусклый свет сочится неведомо откуда, озаряя часть стены, на которой процарапаны линии: четыре прямые черточки и еще одна косая. В пташьей неделе – пять дней.
Сколько недель отображено на стене?..
Окружающая действительность растворяется, уступая место образам из далекого прошлого. Комната со сводчатым потолком, расписанным цветами: пионы, розы, лилии и еще с десяток разновидностей, без малейшего намека на правильный сезон цветения. Печать на потолке была слабовата, но дьюс получился робким и не причинял никакого вреда – просто в те моменты, когда в комнате ссорились, плакали или кого-то отчитывали, две трети бутонов закрывались и как будто съеживались. Оставались только розы: сверкали шипами, как бы заявляя с причудливой дерзостью, что плевать они хотели на людей с их чувствами.
…в подвале разбитая скула ноет, зудит, никак не успокаивается.
Рана гноится, ее бы промыть – но на стук в дверь никто не отвечает.
Впрочем, его уже почти не слышно, этот стук…
А вот другая комната, чья-то спальня или детская: немыслимо синий комод, большой ковер с орнаментом из листьев плюща на полу и еще несколько полосатых кустарных ковриков на стенах; три кровати, окошки под самым потолком, короткие шторы с вышивкой. Птахи любят многоцветье, они со всех рынков тащат домой самые вычурные предметы обстановки, а когда мастерят что-нибудь собственными руками, всегда выбирают краску такого насыщенного цвета, что смотреть больно. Впрочем, жизнь в облаках непростая, ветра и тучи не щадят никого и ничего, поэтому все эти украшения быстро тускнеют – и их латают, обновляют или заменяют на что-нибудь поярче.
И оранжерея – другая оранжерея! Просторная, необъятная; с потолком на высоте пяти человеческих ростов – на второй уровень можно подняться по металлической лестнице, и пол там из плотной металлической сетки. Из отверстий в полу вздымаются стволы пшеничных деревьев с жесткими темно-зелеными листьями, плодоносящие раз в четыре месяца. Ванда собирает бархатистые колоски, источающие терпкий запах, в большую корзину за спиной. От этого запаха у многих кружится голова и после снятся странные сны, поэтому сбором урожая мало кто занимается по доброй воле. Обычно его поручают птенцам – наемным работникам, которые странствуют с каким-нибудь караваном в лучшем случае месяц, прежде чем их пути навсегда расходятся.
Птенец обнимает ее за плечи. Почему корзина не мешает?
А ее нет. И они не в оранжерее.
«Расскажи, – просит птенец. У него копна непокорных черных волос, челка прикрывает правый глаз, а от лукавой белозубой улыбки подкашиваются ноги. – Мне интересно, как у вас тут все устроено. Расскажи».
«Про что рассказать?»
«Про сердце».
И Ванда в ту же секунду его видит: алое сердце, застрявшее в куске льда или хрусталя, но все еще пульсирующее, все еще живое. От полупрозрачной глыбы во все стороны простирается что-то вроде паутины, только не из нитей, а из тонких пластин того же странного материала. Паутина… лабиринт… Ванда застывает в нерешительности, и птенец целует ее, чтобы подбодрить, припадая губами к впадине над ключицами.
Ему очень, очень надо, чтобы она рассказала.
– Ванда? – растерянно спрашивает п-п-п-п…
Принц.
Моргнув, она приходит в себя и понимает, что оранжерея с хлебными деревьями – и подвал – и многое другое – где-то в далеком прошлом, вместе с птенцом и его поцелуями. А здесь лишь растерянный мальчишка чуть старше – старше ли? – ее самой. На полу рядом со скрюченным листком валяется забытая метла, картофельная ботва укоризненно колышется от заплутавшего сквозняка, сквозь давно немытые оконные стекла сочится унылый сумеречный свет.
Руки Ванды, пока она предавалась воспоминаниям, нашли себе занятие поинтереснее: правая забралась Принцу под рубашку, а левая… о, левая…
Она сглатывает, чувствуя, как вся кровь в теле стремительно поднимается к голове и та становится вопреки всякой логике очень легкой и большой, словно пестрый воздушный шар, который Птахи запускали в термический поток, определяя его силу.
Шар взмывает выше, выше, оставляя далеко внизу и Дно, и острова, и мысли.
Навстречу тьме.
Северо медленным шагом входит в гостиную, осторожно массируя плечо. Он каким-то чудом не вывихнул сустав, но боль даже не думает ослабевать. Как будто его тело вскрыли и заменили кости, хрящи и связки на раскаленный металл, с которым теперь никак не примирится окружающая плоть.
Он не помнит, как выбрался из библиотеки – точнее, из пропасти в полу библиотеки. Кто ему помог? В памяти маячит неузнаваемая фигура на краю. Стоп. Что за ерунда? Какой край, какая пропасть? Он… просто ушибся… передвигая книжный шкаф?
Мысли, воспоминания, чувства завязываются в узел, тугой и плотный.
Не распутать.
Переступив через порог, Северо замирает. Он шел сюда, рассчитывая немного побыть в одиночестве – или поговорить о чем-нибудь неважном с Толстяком, если тот еще не закончил уборку, – но обстоятельства этому не благоприятствуют. Он видит Ванду: она мечется по комнате из угла в угол, судорожно обнимая себя за плечи; лицо у нее красное, косы растрепались. Принц сидит на подлокотнике большого кресла, совершенно сбитый с толку. Скамейку Северо возле часов занял Толстяк – он смотрит на двух товарищей исподлобья, как будто не одобряя тот факт, что они здесь, а не в оранжерее. И все же нельзя не заметить, что он и сам очень растерян.
– Что случилось? – спрашивает Северо.
Кажется, что воздух в комнате трещит от разрядов невидимых молний.
– Кое-кто так усердно наводил порядок в кухне, что перебил все тарелки, – беззлобно отвечает Принц, не глядя в его сторону. – Да и не только там…
Только теперь Северо замечает, что все до единой неубранные тарелки на обеденном столе аккуратно расколоты – или разрезаны? – на десять одинаковых частей. Но… кто принес их обратно из кухни? Северо совершенно точно помнит, как они с Толстяком убрали со стола и вымыли посуду. Это какой-то дурацкий розыгрыш! И кому только пришло в голову устроить такое?!
Он смотрит на Толстяка – тот пожимает плечами и ничего не говорит.
Но неужели Ванда из-за этого расстроилась? Нет, явно произошла какая-то другая неприятность – роковой листок ветром принесло на ветхий мост ее выдержки, и он рухнул. Пока Северо подыскивает нужные слова, чтобы успокоить подругу – и успокоиться самому, – в коридоре позади него раздаются шаги. Обернувшись, он видит Котенка, который должен помогать Типперену Таю в башне.
– Что-нибудь случилось? – спрашивает Северо вопреки собственной воле и хмурится: вновь подступают противоречивые воспоминания о библиотеке и пробуждается тревога. Ему кажется, что вот-вот произойдет нечто по-настоящему ужасное. Но отступать некуда. – Ты видел что-нибудь необычное?
Ванда останавливается и устремляет на Котенка пристальный взгляд, полный странной надежды. Ей хочется, понимает Северо, получить весточку от их опекуна и тем самым убедить себя, что все идет по плану.
– Вот еще… – ворчит Котенок, явно расстроенный, и входит в гостиную. – Что я мог увидеть на лестнице? Торчал там как заноза в заднице. Он меня не пустил внутрь – сказал, что сам справится. Ну, я ждал… вдруг передумает… замерз на сквозняке и вот, пришел. А вы почему здесь? Уже все сделали?
– Да, и в самом деле, – слышится новый голос. Северо крутится на месте словно волчок: Теймар Парцелл идет по коридору с противоположной стороны, за ним, как тень, виднеется Молчун. – Вы уже справились с моим поручением? Похвально, если так.
Они растерянно переглядываются; никто не хочет говорить первым. Покосившись на Теймара, Северо понимает, что это и не нужно – грешник криво улыбается, явно понимая не хуже собравшихся, что уборка, достаточно простая вещь, с какой стороны ни взглянешь, пошла наперекосяк.
Что же с ними случилось?
Вдруг этот золотоглазый все подстроил?
Почему так трудно избавиться от ощущения, что он заранее знал, как бесславно завершится их миссия по приведению того, что внизу, в соответствие с тем, что вверху? Знал, что дьюс острова окажется невосприимчив к порядку… и отомстит за попытки его перевоспитать?
Все потому, что Типперен Тай, владелец ключ-кольца, им не помог.
«А где же он?..»
Но вместо этого Северо задает совсем другой вопрос.
– А где Свистун? – спрашивает он, и миг спустя с чердака раздается вопль.
Они стоят вокруг него, растерянные и сбитые с толку, и внутри у них черным-черно от страха, потому что случилось нечто непредвиденное, не вписанное ни в какие книги и летописи, необъяснимое, поэтому вдвойне пугающее, и даже гость, который немало повидал, глядит опасливо на темно-зеленые гибкие побеги, проникшие сквозь дыру в крыше, на то, что они оплетают, как будто ждет, что из какой-нибудь дыры, из потаенного уголка выползет гибкое чешуйчатое тело, текучее и неудержимое, словно горная река, и зашипит ядовито на тех, кто явился сюда, потревожив могильный покой.
На чердаке пахнет вечностью.
Откуда он взялся, говорит кто-то. Когда мы в последний раз сюда поднимались?
Месяц назад… или два… нет, четыре…
Мы принесли сломанные кресла из библиотеки.
…стул, на котором любил качаться Котенок. Помните, как он его сломал? Только это было год… или два… или полгода…
Не помню.
И я тоже не помню…
Жалобный голос: я хотел убрать плющ. Я думал, это будет правильно. Потянул за одну плеть, приподнял, а внутри – это.
Не «это», тихо исправляет гость. Он когда-то был человеком. Он был как… мы.
Давайте уйдем.
Мне страшно.
А что с ним делать?
…уйдем… я боюсь… пожалуйста, давайте…
Где Типперен, почему его нет?
Выходит, все это время нас было десять.
В промежутке между двумя мгновениями они исчезают – все исчезает, кроме плюща и костей, которые покоятся внутри пышных зарослей, словно в колыбели, уютной колыбели, от одного взгляда на которую глаза начинают слипаться. Внутри оголенной грудной клетки что-то смутно белеет на месте сердца – это сложенный вчетверо лист с неровным краем, вырванный из книги или тетради; на нем что-то нарисовано, что-то написано, и он трепещет, шуршит, словно на неощутимом ветру. Шур-р-р… шур-р-р…
Она забирается в колыбель из плюща, обнимает того, кто там уже лежит, – обнимает осторожно, чтобы не потревожить его сон, – прижимается к нему и закрывает глаза, но не раньше, чем из них выбегают две змейки, чтобы спрятаться в руинах под костяным сводом.
Ванде все чаще кажется, что мир вот-вот перевернется. А может, уже перевернулся, и все они на самом деле ходят по потолку, но не осознают этого, поскольку проще не замечать странные вещи. Если достаточно долго притворяться, что ничего странного не происходит, то все поверят в твою выдумку – и ты сам, и странность как таковая. Она врастет в реальную жизнь, станет ее частью, и со временем границы между разнородной материей сгладятся, словно их никогда не было.
Подумаешь, потолок вместо пола.
Невелика проблема.
Скелет на чердаке, спящий вечным сном в уютном коконе из плюща, стремительно сливается с фоном, и у Ванды нет ни малейшего желания остановить или хотя бы замедлить это превращение. Они его не видели. Они о нем не знали. Это совершенно неважно по сравнению с тем фактом, что остров, как и прежде, несется вперед, неуправляемый, и никто, включая грозного Теймара Парцелла, пока что не в силах его остановить.
Впрочем, нельзя отрицать, что по меньшей мере один обитатель этого места должен хоть что-то знать о происхождении загадочного десятого островитянина, однако его на чердаке не было. Теймар Парцелл не стал его искать или дожидаться, просто объявил, что ремонтом они займутся завтра, потому что ему надо подготовиться и как следует отдохнуть. Открыв для гостя одну из незанятых комнат, Ванда побродила некоторое время по первому этажу, потом достала из кладовки несколько жестянок с галетами, сыр, цветом и запахом напоминающий подошву старого ботинка, две корзинки с вялыми яблоками и сушеными сливами. На приготовление нормального ужина у нее не осталось сил, и перебитая Толстяком посуда никоим образом не улучшила ситуацию.
«Разбирайтесь сами».
Они и разобрались.
А вот ее голод обошел стороной. Ванда лишь выпила кружку ледяной воды, от которой заныли зубы, разыскала свою любимую теплую кофту с кожаными заплатками на локтях и пошла посидеть снаружи, на своей любимой скамейке неподалеку от цистерны с водой. Никто ее не тревожил по меньшей мере два часа, пока лиловые сумерки не сгустились, кое-как обозначая приход ночи, и не стало назойливым мерцание маяка справа вверху, которое Ванда все это время видела краем глаза, но пыталась замести под тот же ковер, который непристойно бугрился от множества спрятанных под ним вещей.
Она бы так и сидела до конца времен, но желанная, блаженная пустота куда-то подевалась. Ей не укрыться в прошлом от острых клыков настоящего, от черных провалов его глазниц на лице-черепе.
И поэтому Ванда встает, разминает затекшие ноги, потирает руки – холод пробрался сквозь шерстяную кофту, искусал их до самых плеч, а она и не почувствовала. Маяк, проклятый маяк – разве его не погасили? Она уверена, что кто-то это сделал, то ли сам Типперен, то ли мальчики, но ритмичный, пульсирующий свет во тьме насмехается над ее уверенностью.
Надо проверить, что там.
Ванда медленно идет к дому под куполом из бурлящей облачной тьмы, перебирая воспоминания как рассыпавшиеся бусины. Минувший день кажется поразительно длинным и ошеломительным. Грешник… чай… оранжерея… скелет на чердаке. Просто немыслимо, что эти столь несообразные фрагменты сложились в одну картину, цельную, хоть и похожую на сон.
Внутри ее встречает настороженная, угрюмая тишина. Быть может, мальчики спят – каждый в своем уголке, кто крепко, кто беспокойно, ворочаясь с боку на бок, вздрагивая от ночных кошмаров, – но сам дом бодрствует.
Сделав всего лишь шаг, она снова чувствует, что мир перевернулся, но уже не понимает, какое из двух его положений следует считать нормальным. Может, он перевернулся не с ног на голову, а совсем наоборот?..
Винтовая лестница в дальнем конце коридора ведет вверх, на маяк. Ванда там редко бывает, потому что не умеет им управлять; и еще этажом ниже – комнатушка самого Типперена, башня в целом – его обиталище, в ее чуланах он хранит свое прошлое, о котором островитяне на самом деле почти ничего не знают. Здесь ей не по себе.
Лестница впервые кажется похожей на сверло, которое вкручивают в череп. То ли в ее собственный череп, то ли в череп на чердаке – ах, пространство и время вновь совершили головокружительный кульбит, – и это больно. Ванда зажмуривается, прижимает руку к горлу в попытке справиться с приступом тошноты, а когда вновь открывает глаза, перед ней дверь в жилище Типперена.
Вопреки собственной воле она толкает эту дверь и делает шаг вперед.
Внутри темно и тесно – места хватает лишь для койки, сундука и книжных полок, которые словно пытаются вытеснить друг друга из этой норы. Сквозь узкое длинное окно проникает бледно-лиловый рассеянный свет; ночь снаружи по контрасту с полнейшей тьмой внутри дома кажется довольно-таки яркой.