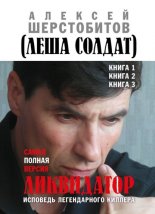Первая печать Осояну Наталия

В этом бледно-лиловом свете, пульсирующем в ритме фонаря в камере маяка, что расположена этажом выше, Типперен Тай сидит на койке полностью одетый, но в расстегнутой рубашке и методично втыкает себе в грудь длинный нож, широкое лезвие которого блестит как ртуть.
Втыкает, вытаскивает, снова втыкает.
Тоже в ритме маяка.
Взгляд у него отрешенный, устремленный в пустоту, лицо каменное, если не считать того, что уголок рта слабо подрагивает, – это единственный признак боли, мгновенно понимает Ванда, сильнейшей боли, которая закупорена внутри него, как уксусная эссенция в бутылке. Крови нет, только черный разрез, успевающий полностью зарасти к тому моменту, когда клинок оказывается на максимальном расстоянии от бледной кожи.
А чуть выше разреза – ключ-кольцо на шнурке. Точнее – Ванда успевает это понять, прежде чем с криком и в холодном поту просыпается в собственной постели, – оплавленный комочек золотистого металла, в котором несведущий зритель никогда в жизни не признал бы ключ-кольцо.
Северо просыпается ранним утром, и вчерашние события наваливаются на него, словно гранитная плита, упавшая на грудь. Сегодня, понимает он, случится что-то очень важное. Или остров будет спасен, или они погибнут.
Островитяне собираются в гостиной. Вид у всех помятый, встревоженный; у Ванды такие темные круги под глазами, словно она вовсе не ложилась спать. Бодрым и даже в какой-то степени веселым выглядит только грешник, и его золотые глаза, как внезапно кажется Северо, поблескивают слегка безумным энтузиазмом. Он предлагает немедленно взяться за дело, не тратя времени на завтрак. По его словам, со всей подготовкой понадобится самое большее полтора часа. Поскольку от волнения у всех кусок в горло не идет, они соглашаются.
Накануне, после происшествия на чердаке и незадолго до того, как все разбрелись по углам, они рассказали грешнику о неудаче с зеркалами. Он не расстроился и не удивился – словно ждал именно такого поворота. Сказал, что есть один способ, позволяющий справиться без зеркал, просто с ними было бы намного легче.
И вот теперь он объясняет, что надо делать. Под руководством гостя островитяне обходят первый этаж и вынимают стекла из окон – там, где они еще остались. Сперва грешник золотым пальцем рисует невидимый знак, стекло покрывается рябью, словно пруд в ветреный день, издает тихий мелодичный звон; после чего оно падает прямиком на подставленные ладони кого-то из островитян, ложится плавно и нежно, явно не с той скоростью, каковая полагалась бы ему, если бы все происходило естественным путем. Действуя парами, они уносят добычу в движительную, где дежурит Типперен Тай – следит, чтобы стекла установили в заранее определенных и подготовленных грешником местах. Непонятно, как именно он их подготовил – тоже что-то нарисовал без кисти и чернил, – но, если все сделать правильно, стекло остается парить над каменным полом, и с каждым новым возвращением в подземную комнату Северо замечает, как импровизированные зеркала все больше наливаются ртутным блеском.
От волнения сердце норовит выскочить из груди.
Наконец последнее стекло переселяется в движительную, и островитяне маленькой толпой собираются у входа – кто внутри, кто снаружи, в коридоре, – с нетерпением ожидая дальнейших указаний или действий грешника. Он некоторое время изучает результат: ходит туда-сюда по лабиринту со стенками из тонких плоскостей, где тут и там висят «зеркала», что-то трогает золотой рукой, бормочет себе под нос, чешет затылок. По бледной, похожей на маску физиономии невозможно понять, о чем он думает. Испытывает ли страх? Беспокойство? Сомнения? Типперен Тай стоит поодаль и наблюдает с таким же каменным лицом.
Внезапно грешник поворачивается, быстрым шагом идет к выходу – островитяне боязливо расступаются перед ним – и уже в коридоре нетерпеливо взмахивает рукой из плоти и крови:
– Северо, идем со мной! Ты поможешь. Остальные – ждите здесь.
«В чем?» – хочет спросить бывший илинит, но вместо этого послушно семенит за грешником, словно за патриархом в лесной обители. Мысли от растерянности так и мечутся туда-сюда, совершенно неуправляемые, и лишь наверху, на самой посадочной площадке, Северо понимает, куда и зачем они идут.
Махолет стоит там же, где грешник его посадил; правое крыло прижато, левое устало опущено, стекла кабины затянуты молочным туманом. Иссиня-черный с проблесками бирюзы корпус живой машины на фоне блеклых туч выглядит таким резким и отчетливым, что у Северо выступают слезы на глазах. Он останавливается на безопасном расстоянии, не понимая, что должен делать, а Теймар Парцелл и не спешит с инструкциями. Подходит со стороны сложенного крыла, утыкается лбом в пернатый бок и что-то невнятно говорит, как кажется Северо, виноватым тоном. Проходит минута, другая – и вот махолет шевелится, смещает центр тяжести назад, раздвинув лапы, оканчивающиеся колесиками, и приподнимает переднюю часть брюха. По ней пробегает бирюзовая молния, от которой Северо с тихим воплем отскакивает, а потом…
Две изогнутые пластины корпуса приподнимаются и распахиваются, обнажая содержимое.
Внутри махолета Северо видит… соты. Совершенно обычные, сочащиеся золотистым медом соты. Почему-то это зрелище оказывается страшнее, чем все, что он успел себе нафантазировать; кровь, живое мясо, лязгающие челюсти машин не вызвали бы ощущение тошнотворной пустоты в желудке. Грешник подходит к открытой части корпуса – она как раз на уровне его лица, – скидывает куртку и закатывает рукав, запускает искусственную руку внутрь по локоть и несколько секунд сосредоточенно шарит там. Потом его мышцы плеча под тонкой тканью рубашки еле заметно напрягаются: похоже, золотые пальцы сжались вокруг чего-то.
Грешник замирает. Северо не видит его лица, но почему-то с уверенностью осознает, что гость острова в последний раз взвешивает все «за» и «против» – по большому счету, если он сейчас решит улететь, никто его не остановит, ведь Типперен Тай и прочие его воспитанники послушно остались в движительной, внизу. А от Северо в одиночку толку не больше, чем от шустрика.
– Почему ты попал сюда?
Вопрос настолько неуместный, что Северо не сразу понимает: от него ждут ответа.
– Я… – тихо говорит он. – Я… жил в обители…
– Это я уже понял, – перебивает грешник. Он начинает осторожно двигать рукой, как будто в поисках чего-то. Крупные капли меда с громким плеском тяжело шлепаются на плиты посадочной площадки. По корпусу махолета пробегает волна, как по шкуре встревоженного зверя. – И мне неважно, каким образом все случилось. Я спросил о другом: почему?
Северо растерянно моргает:
– Разве… для такого… должна быть какая-то причина?
Мышцы на плече напрягаются сильнее.
Странно, думает Северо. Неужели противоестественный металл его протеза нуждается в помощи заурядной человеческой плоти?
– У всего есть причина. – Голос, в отличие от тела, не выказывает признаков напряжения. – Порыв ветра, коснувшись чего-то необычного, познает его – и возвышается. Стоит возвыситься в достаточной степени, в потоке воздуха, который на самом деле представляет собой лишь смещение невидимых глазу частиц, зарождается нечто большее. Часовой механизм, над которым мастер просидел лишний час, познает мастера – и да, тоже возвышается. Ты высоко взлетел, Северо, и поэтому я тебя спрашиваю: что именно ты познал?
– Я…
Воспоминания налетают словно зимний ветер в лицо: колючих снежинок слишком много, чтобы отделить их друг от друга и рассмотреть, что же прячется под покровом бурана, на расстоянии всего-то пары шагов. Чьи-то едкие слова, боль в избитом теле, слезы, зловоние темницы, ругань, плывущие во тьме письмена, снова боль и удушливая волна ярости, поднимающаяся из того самого места, где Северо прямо сейчас по-прежнему ощущает сосущую пустоту.
Слова тают на губах.
– Жаль, что ты не понял, – говорит грешник не дожидаясь ответа. – Подойди ближе. Возьми меня за руку и ничего не бойся.
Его тон подсказывает, о какой руке идет речь, и не допускает возражений. Северо, к которому дар речи так и не вернулся, покоряется. Он осторожно берет Парцелла за правое предплечье, чуть ниже локтя. От границы плоти и металла отделяются пять или шесть тонких усиков, похожих на молодые виноградные лозы, подползают к кисти бывшего илинита, оплетают ее сетью, увлекают вперед, мягко и неумолимо. Он хочет закрыть глаза, но не может.
Соты на ощупь именно такие, какими должны быть. Где-то внутри тягучей и ломкой материи пальцы Северо ложатся поверх тыльной стороны ладони грешника и словно прилипают к ней – дальше две руки движутся как одна. Теймар-и-Северо берется за что-то округлое, по размеру и форме похожее на большое яблоко, и осторожными, почти нежными движениями срывает его, чтобы тотчас же вытащить.
Челюсть Северо пронзает боль, у слюны во рту появляется металлический, соленый привкус. Прижимая к груди руку, измазанную в меду по плечо, он отпрыгивает в сторону и…
Сплевывает на плиты посадочной площадки что-то белое и твердое, поразительно длинное.
Парцелл даже не думает извиняться или хотя бы объяснить, что произошло. Он смотрит на… яблоко?.. на золотистый комок полупрозрачного воска с алой размытой сердцевиной, которая едва заметно пульсирует. Тяжело вздыхает, наклоняется и свободной рукой подбирает брошенную куртку, дергает подбородком в сторону Северо: дескать, ну чего ты топчешься на месте? Идем.
И Северо подчиняется.
Когда они входят в дом, одинокий белый зуб на каменной плите рассыпается в пыль.
В движительной Парцелл приказывает всем отойти как можно дальше от лабиринта из плоскостей, а сам шагает туда, где больше всего зеркал, и помещает восковое сердце в пространство между ними, подвесив в пустоте. Угрюмый, сбитый с толку Северо прислонился к стене у самого входа и, не переставая языком ощупывать зияющую пустоту на верхней челюсти, наблюдает за грешником. Он замечает краем глаза, что по каменным стенам и потолку комнаты бегают давным-давно знакомые обрывки золотистого текста на непонятном языке, волоча за собой разломанные куски такого же золотистого рисунка. Но сейчас они его не тревожат, потому что куда важнее то, что делает Парцелл.
Грешник водит указательным пальцем правой руки в воздухе, опять рисуя невидимые узоры, и чем дольше Северо за ним следит, тем явственнее проступают светящиеся тонкие линии. Непонятные символы – то угловатые и грозные, то округлые и спокойные – разлетаются во все стороны, и каждый отыскивает свое место на каком-нибудь предмете в движительной. И не только на предмете… Северо с изумлением видит, как один такой символ, похожий на трезубец, который нарисовали не отрывая пера от бумаги, опускается прямиком на лоб Толстяку и остается там, мягко светясь. Сам Толстяк ничего не замечает и продолжает зачарованно глядеть на их гостя – спаситель он или губитель, Северо еще не решил. Островитяне один за другим получают каждый по особенному знаку, и изменившееся зрение бывшего илинита демонстрирует, что сами их тела теперь светятся. Иголка – он не заметил, как она пристроилась по другую сторону от двери, – так и вовсе сияет, и кажется странным, что никто не обращает на это внимания.
У нее такое же серьезное лицо, такой же разумный взгляд, как и в тот раз, в библиотеке…
Что-то вынуждает Северо отвлечься от Иголки, да и от Парцелла заодно. У противоположной стены стоит Принц; плохо видно из-за множества движительных плоскостей между ними, но все-таки можно разглядеть, как сразу два символа разной формы кружатся над его головой, словно встревоженные птицы, которые обнаружили, что за время их отсутствия кто-то чужой побывал в гнезде. Чужой… Северо напряженно прищуривается, сам толком не понимая, что именно он пытается обнаружить, и через несколько секунд на рубахе Принца вырисовывается алый узор, совершенно непохожий на все сотворенное грешником.
И Принц это осознает.
Он с деревянной улыбкой поднимает руку, дергает рубашку за ворот – отлетевшие пуговицы с громким стуком падают на пол, демонстрируя, что все это время в движительной царила абсолютная тишина, – и обнажает грудь. Узор, от которого на глаза наворачиваются слезы и начинает сильнее ныть дыра на месте зуба, начертан – нет, выцарапан – у него на коже, испускает тонкие красные лучи, которые, едва коснувшись движительных плоскостей, с головокружительной скоростью распространяются по ним, порождая то ли сетку кровеносных сосудов, то ли густое переплетение ветвей в роще, что невозбранно росла тысячу лет.
Грешник замирает с поднятой рукой, потом медленно поворачивается к Принцу.
Тот улыбается шире – кажется, углы его рта кто-то тянет в разные стороны, подцепив рыболовными крючками. Внимание Парцелла приковано к этой улыбке, как и внимание Северо, но тот занимает лучшую позицию, чтобы увидеть еще кое-что важное.
Ползающие по потолку и стенам обрывки и обломки – по крайней мере, некоторые из них – внезапно соединяются в один рисунок, слишком замысловатый, чтобы осознать его форму. Он с поразительной скоростью падает с потолка, проходит сквозь тело стоящего внизу человека и, оказавшись на полу, мчится к сердечнику движителя.
А у того, кто на мгновение сделался вместилищем загадочного символа, поразительным образом меняется лицо: привычное спокойное выражение исчезает без следа, из тех же черт складывается совсем другая мозаика. Кажется, что художник, недовольный вылепленной из глины и еще не застывшей маской, несколькими резкими движениями ее преображает – придает бровям патетический театральный излом, закладывает морщины у крыльев длинного носа, отчего тот превращается в хищный клюв, и выдвигает нижнюю челюсть вперед.
Человек, которого Северо как будто знал несколько лет, окидывает комнату взглядом пылающих от ярости глаз, видит рядом Ванду – она успевает понять, что происходит нечто странное, но не успевает ничего сделать – и хватает ее за плечо, тащит к себе.
– Теперь, гребаные птенчики, – неузнаваемым голосом, хриплым и низким, произносит Типперен Тай, – вы запоете наперебой и расскажете мне, что это за место и как я тут оказался – иначе кое-кто замолчит навсегда.
В руке у него длинный нож, чье лезвие…
Посреди бледно-лиловых туч, в гнезде нерожденных молний, в сгущении изначальной пустоты, не ведающей о существовании мира, – в самом сердце пространства безграничных возможностей раскрывает он крылья свои, что переливаются многоцветьем, посрамляющим витражи, и разевает пасть, в которой на голой кости рядами выступают клыки и моляры древнее могильных плит забытых королей, полустертые, но все еще способные рвать и крушить.
А над пастью – провалы и дыры; щели носа и ямы глаз.
Он голоден и сердит: не может забыть вчерашний обед, оказавшийся слишком проворным.
Когда прямо перед ним вспыхивает золотисто-алая искра, он ничего не замечает, ибо слишком огромен для столь малых явлений, они для него все равно что пыль. Он не разговаривает на языке пылинок. Искра какое-то время колышется прямо перед его мордой-черепом с глазницами, заполненными клубящейся тьмой, и кажется, что она размышляет: просить? умолять? Очевидно, что просьбы на такое существо подействуют не лучше угроз или попыток применить силу. Да и какая сила у искры…
Значит, остается всего один вариант.
Искра начинает пульсировать, с каждым всплеском сияния увеличиваясь в размерах, а потом, сделавшись величиной с кулачок новорожденного, внезапно взрывается во все стороны сразу, но только в одной плоскости, и перед носом у небесного чудища возникает подобие паутины.
Золотистая паутина, по которой бегают алые искры, – ее мог бы сплести паук, высосавший жизнь из бабочки, чьи обсидиановые когти остры, – не лишена симметрии, и у нее определенно есть центр. Совместив его с направлением, в котором находится летающий остров, она начинает двигаться, постепенно ускоряясь.
Небесное чудище следует за ней, и в его вальяжных движениях все отчетливее проглядывает азарт заинтересованного хищника.
…Блестит словно ртуть.
Все замирают от ужаса и растерянности. Взгляд Северо мечется между озверевшим Типпереном и Вандой с ее побелевшим лицом; Принцем и красным символом у него на груди; Теймаром Парцеллом. Грешник все еще смотрит на Принца и пытается поднять руку.
– Нет! – кричит Принц. Его глаза теперь светятся алым, а голос странно раздваивается, словно его устами говорят сразу двое, – и в том, что второй тоже человек, Северо всерьез сомневается. – Не смей даже думать об этом. Не шевелись. Мне не хочется причинять тебе вред, но, если ты будешь сопротивляться, я не смогу иначе… Я устал от этого места – оно не предназначено ни для людей, ни для дьюсов, и даже здешние фаэ отличаются от привычных. Я хочу освободиться.
– Ты не сможешь, – тихо говорит Парцелл, застывая изваянием.
– На этот раз – смогу, – отвечает некто устами Принца. – Я не желаю зла. Я просто устал… Она меня замучила… Я хочу ее выдернуть как гнилой зуб.
– Кого?
– Отвечайте! – рычит тем временем Типперен Тай. Он делает шаг, потом еще один, толкая перед собой Ванду, и в какой-то момент она натыкается на одну из прозрачных плоскостей, не тронутых алыми жилами. Вскрикивает от боли и страха, но Типперен продолжает толкать.
Слышится громкий хруст; плоскость рассекает ветвистая белая трещина.
– Отвечайте, кому говорю! Ты, огрызок!
Кто-то всхлипывает – скорее всего, Котенок, но Северо и сам чуть не плачет от ужаса и бессилия. Парцелл очень медленно и демонстративно разводит руки в стороны, как будто не замечая Типперена Тая. Как будто Принца-не-Принца он считает более важным и серьезным противником; наверное, так оно и есть.
Едва заметный шажок в сторону – и Грешник на долю секунды касается одной плоскости костяшками пальцев. Принц-не-Принц это замечает, если судить по направлению взгляда, но не придает случившемуся значения.
«Выходит, – думает Северо, – он не видит того, что вижу я?..»
От места, которого коснулся Парцелл, по плоскостям движительного лабиринта бегут яркие золотистые линии, рисуя на своем пути последовательности угловатых символов. Северо их не понимает, но все равно следит как завороженный, и ему кажется, что эти знаки можно понять. В отличие от того, который нарисован алым на груди у Принца. Они как будто шепчут, подбадривают: ну же, соберись – и ты узнаешь, ты точно узнаешь, в чем секрет!
Достигнув трех-четырех наиболее далеких от центра плоскостей, линии прыгают на пол и продолжают путь столь же целеустремленно, пусть и выглядят бледнее. Они движутся, как теперь осознает Северо, к нему. Все происходит очень быстро – даже быстрее, чем мечутся мысли растерянного бывшего илинита, – и он не успевает толком испугаться, как линии без труда преодолевают разрыв между камнем и подошвой, между мертвой кожей и живой, а потом…
Движительная вспыхивает.
На один миг Северо познает ее снаружи и изнутри, видит мир непривычным и почти неузнаваемым, видит прикованное в центре существо – не существует слов, которые могли бы описать его форму, – и узы, которыми оно соединилось с Принцем. Принц открылся ему без принуждения, сам подсказал, куда следует бить, и теперь пылает от счастья. Северо видит грешника и того, кто стоит за ним: это существо столь же невыразимое, как и дьюс острова. Они в родстве. Видит сгусток тьмы на месте Типперена Тая, обнимающий Ванду со спины. И… что-то еще по другую сторону двери; он не в силах постичь, что оно собой представляет, но это существо отличается и от дьюса в центре, и от двойника Теймара Парцелла, и от того, что до недавнего времени имело облик Типперена Тая. Это даже не существо, а отсутствие всего сущего – дыра в ткани бытия, очертаниями напоминающая человека.
И все это сшито, связано, соединено тончайшими линиями, напоминающими то ли замысловатый узор, то ли паутину, сплетенную обезумевшим пауком. Местами плетение разорвано – торчат лохмотья, колышутся на непостижимом ветру. Северо от волнения поднимает руку ко рту – паутина вздрагивает, вторя его движению, – и он понимает, что все эти нити привязаны к нему, врастают в его тело. Это совсем небольно и даже в какой-то степени приятно.
«ТЯНИ, – говорит кто-то. – ТЯНИ ИЗО ВСЕХ СИЛ».
И Северо подчиняется – тянет, тянет эти нити, как будто хочет вытащить из облаков сеть, полную небесной рыбы. Сознание твердит, что нити эфемерны, поскольку их нет в реальном мире, но бывший илинит ощущает каждую вполне отчетливо, мало того – ему приходится прилагать усилия, потому что запутавшаяся в сети добыча сопротивляется.
Ничего, думает Северо, сил хватит.
Словно в ответ на его мысли, мышцы наливаются невиданной мощью – даже в горной обители, где приходилось таскать камни, он не чувствовал себя таким сильным. Он напрягается и дергает, и ткань бытия смещается, и Принц-не-Принц падает, словно кто-то одним стремительным рывком вытащил ковер у него из-под ног. Приземлившись на четвереньки, парнишка с алым знаком на груди в ту же секунду вскакивает вновь, но оказывается… в клетке.
Она не слишком похожа на клетку, потому что вместо решеток и прутьев – пять плоскостей с текучими, сложными узорами, которые светятся так ярко, что как будто отпечатываются на задней стенке черепа, – но совершенно точно ею является. Принц рычит как зверь и бросается на стенку узилища. Вспышка! Вслед за коротким потоком ругательств наступает тишина, и узник припадает к полу, глядит на своего тюремщика яростно, исподлобья. Тот, не теряя времени даром, поворачивается ко второму нарушителю спокойствия.
Северо делает то же самое и понимает – уже не ощущая изумления, поскольку его способность удивляться исчерпана, – что прошла секунда, а может, доля секунды с того момента, как Типперен Тай, вернее, та тьма, что в него вселилась, схватила Ванду и толкнула на стеклянную пластину движителя: ветвистая трещина продвинулась совсем недалеко. Грешник поднимает руку – это дается ему тяжело, словно к руке привязан мельничный жернов, и вместе с тем его ничто не может по-настоящему замедлить, – и все его пять пальцев удлиняются, действуют независимо друг от друга, рисуют в воздухе сложный знак.
Из центра знака вылетает золотая веревка с петлей на конце; изогнувшись по-змеиному, падает на безумного Типперена и оплетает его множеством витков от шеи до пят. Он как будто превращается в золотую гусеницу и падает, корчась и извергая проклятия.
Ванда стоит дрожа всем телом и зажмурившись; лицо у нее белее бумаги.
Мир погас, с сожалением понимает Северо. Он лишился заемной силы.
Но плоскости движителя по-прежнему посверкивают алым.
– Что же мне с тобой делать… – бормочет грешник, потирая металлическое запястье, словно оно тоже может болеть. Непонятно, кого из двух противников он имеет в виду.
И выяснить это не удается, поскольку в тот же миг остров содрогается от страшного удара.
Он ее схватил.
Он угрожал ей ножом.
Он сошел с ума.
Остров… вот-вот упадет?
За порогом движительной Ванда думала, что после вчерашней истории с чаем – после жуткого сна, в котором их опекун бил себя ножом в грудь, но не умирал, – ее уже ничто не удивит. Но вот мир снова перевернулся, и уже нет смысла гадать, с ног на голову или наоборот. К ее шее приставили нож. И тот факт, что в этом проскользнуло нечто… знакомое, даже не кажется странным на общем фоне.
Пол под ногами вздрагивает во второй раз, сверху доносится трубный рев. Ванда срывается с места и бежит к выходу, машинально продолжая прижимать к шее правую руку. Ее опережают трое – Парцелл, Северо и Иголка, – а остальные следуют по пятам и взволнованно галдят. Про двух узников, оставшихся в движительной, никто даже не вспоминает.
Острова с небес не падают – это факт. Но время от времени в небесах обнаруживают обезлюдевшие острова, и сложно понять, от каких сильнее сводит внутренности: от тех, что выглядят пригодными для жизни, но пустыми, давным-давно покинутыми, или от тех, где на каменной подошве остались одни развалины.
Здравый смысл подсказал бы, что лучше остаться в части острова, надежнее защищенной от неведомой напасти, но Ванда чувствует, что все они бесповоротно вырвались из оков здравого смысла.
Наверху темно и мечутся обезумевшие тени, как будто началась гроза. Но это не тучи, норовящие устроить перепалку друг с другом, это… Ванда не сразу понимает, что именно видят ее глаза… Это витки неимоверно длинного змеиного тела, сплетенного в сложнейший узел, составные части которого текут как вода, маслянисто поблескивая чешуей. Сквозь редкие пустоты мерцает поверхность, странно похожая на исполинский витраж.
Грешник выбегает на посадочную площадку и мчится к своему обездвиженному махолету. Северо почему-то бежит следом, но спотыкается на полпути и падает, потому что каменная подошва вновь содрогается от удара. Иголка подскакивает к нему. Сама Ванда замирает в ужасе на верхней ступеньке крыльца, но кто-то из мальчиков, выскочив из парадного входа, толкает ее в спину, и она поневоле делает шаг вперед.
Этот шаг каким-то образом разрушает магию – или просто совпадает с тем мгновением, когда иллюзия теряет силу, – и бесчисленные петли чешуйчатого кишечника, который готов их всех пожрать, сливаются в одно существо, очень большое, но вовсе не титанических размеров, созданных зеркальным волшебством.
У небесного бражника длинное черное тело змеи или ящерицы с четырьмя сравнительно небольшими лапами и внушительным хвостом, но сильнее всего привлекают внимание его крылья и морда. Крылья – двойные, вытянутые, составленные из мириад разноцветных осколков, складывающихся в симметричный узор. Движутся они вяло, как будто монстр не слишком в них нуждается, и тусклый солнечный свет высотного мира, проходя сквозь полупрозрачные плоскости, рождает фантомов-двойников. Кажется, что в промежутке между мгновениями пространство над островом заполняется бражниками, и у каждого такая же голова, как у прообраза: голый череп, чудовищно искаженная пародия на человеческий, с измененной нижней челюстью и слишком широко расставленными глазницами.
Монстр разевает пасть – воронку из костяных сегментов, усеянную рядами зубов, с голодной чернотой на далеком дне…
Все потеряно, понимает Ванда.
Это конец.
Теймар Парцелл обходит свой махолет, касаясь его – корпуса, крыла – левой рукой. Правую он поднимает и начинает рисовать в воздухе невидимую печать, явно преодолевая то ли усталость, то ли некое сопротивление. Здесь, понимает Ванда, пролегает рубеж, за которым их странный гость становится таким же беспомощным, как и сами островитяне; и все равно он не сдается. Ей хочется ему помочь, но как? Небесный бражник вот-вот преодолеет барьер, защищающий остров, – ведь их движитель испорчен, значит, барьер ослаб, – и когда-нибудь потом каменную подошву с руинами заметят жители Сото или какого-либо другого королевства.
Кто-то снова ее толкает – на этот раз в плечо. Ванда поворачивается и видит Принца, который улыбается ей широко и сердечно, протягивает руку, словно говоря: «Идем со мной». Она машинально тянется в ответ, их пальцы соприкасаются, и в этот миг по лицу Принца пробегает судорога. Оно приобретает выражение немыслимой боли и ужаса, от которого все мышцы в теле Ванды сводит судорогой, а сердце превращается в тяжелый кусок льда. При этом он не перестает улыбаться, но сквозь улыбку-клетку проглядывает истинный Принц, который знает, что вот-вот умрет.
Он резко растопыривает пальцы, и рука девочки, утратив опору, падает.
Принц поворачивается и бежит к краю посадочной площадки, краю острова, набирая скорость. Промчавшись мимо грешника, достигнув предела, он прыгает и летит прямиком в пасть небесного бражника, в зубастую тьму.
Северо сидит в движительной, под стеночкой, обняв руками колени, саднящие после падения. Локоть он тоже разбил, и надо бы обработать ссадины, но это сейчас кажется слишком трудной задачей. Он не помнит, как вернулся сюда, и не рискует встать.
Вечность бы так сидел.
Какой-то из ударов небесного бражника сотряс движительную так сильно, что две трети пластин в полупрозрачном лабиринте растрескались и лопнули, рассыпались на осколки. Уцелевшие сосредоточены вокруг стекол-зеркал, которые они расставили там и сям под руководством грешника, и кажется, что в море поблескивающей стеклянной каши высятся непокорными скалами острова. Главный остров, в середине, тлеет как остывающий камин.
Северо закрывает глаза на секунду и вспоминает дом, каким он выглядел после фатального прыжка Принца – точнее, того, кто вселился в Принца. Зияющие глазницы пустых окон, распахнутые двери, точно разинутый в крике рот. Побеги плюща зловеще шевелятся, словно намекая невольным зрителям: это теперь их обиталище, и пройдет совсем немного времени, прежде чем все здесь покроется толстым слоем синевато-серой листвы. Что ужаснее всего, кроме синевато-серого – надо было очень долго приглядываться, чтобы различить в небесном плюще подлинную зелень, – исчезли все прочие цвета. Красные кирпичные стены, коричневый металл фонарей над входом и их же сине-розово-зеленые стекла, выцветшие голубые шторы в окнах первого этажа – все пропало, и не было теперь других цветов, кроме оттенков серого.
Он снова открывает глаза и смотрит на разгром посреди движительной.
У «острова», в центре которого сердце махолета, стоит грешник: левой рукой крепко обнимает себя за талию, металлическими пальцами правой сжимает переносицу. Красноречивая поза человека, который понятия не имеет, как ему выйти из тупика. Северо не спросил, что еще случилось, но догадывается – и в разумной степени уверен, что не ошибся.
Сделав над собой усилие, он встает и плетется к Парцеллу.
Три стекла-зеркала, между которыми грешник поместил сердце своего махолета, изменились: стали толще и крепче на вид, покрылись изморозью, туманящей отражения, и из центра каждого выросла… кишка? пуповина? щупальце?.. выросло нечто живое, нечто голодное. Три щупальца, белых, стеклянных на вид, но мягких и гибких, оплетают сердце махолета так, что его поверхность почти не видна. Северо глядит и думает: на месте Теймара Парцелла он бы не рискнул это трогать.
По-видимому, сам грешник пришел к тому же выводу.
– И что мы будем делать? – тихим, охрипшим голосом спрашивает Северо.
Парцелл не отвечает.
– Что с ним случилось? – продолжает Северо, чуть смелее. Стоило отыскать выход, слова уже не желают оставаться внутри. – С Принцем? Почему он так поступил?
– С ним связался дьюс острова, – после достаточно длинной паузы отвечает грешник, подтверждая одну из догадок Северо. – Нашел такой… замысловатый способ сбежать, приманив бражника. Чего я не понимаю, так это почему именно Принц сделался его вместилищем. Видимо, он как-то отличался от всех вас.
Еще одна догадка – не сегодняшняя, но это уже не важно.
– Он врал о своем прошлом, – говорит Северо. – Ну… мы давно подозревали, но не говорили ему. Он, наверное, на самом деле не был сыном короля.
– А кем он был?
Северо пожимает плечами:
– Не знаю. Но занимался чем-то постыдным и поэтому выдумал сказку о своей родословной…
– И сам в нее поверил. – Грешник кивает. – Да, вполне возможно. Об этом мало кто задумывается, но мы ежедневно – и даже ежесекундно – творим печати, которыми сдерживаем собственную душу. Однако печати не только сдерживают, но и преобразовывают. Если потрудиться как следует, можно заколдовать самого себя, повторяя одно и то же. Проблема в том, что эти печати чаще всего просты и мудрый посторонний способен разгадать и использовать ради собственной выгоды любую простую печать. Особенно если этот посторонний – дьюс.
– А Типперен?..
– С ним все гораздо сложнее, пусть он и не представляет для нас большой опасности.
– И… – Северо сглатывает слезы, прежде чем повторить свой первый вопрос. – Что мы будем делать?
Грешник качает головой, по-прежнему глядя на сердце своего махолета, оказавшееся в жуткой ловушке.
И ничего не говорит.
13-й день месяца внезапных ливней
***25 год
Опять всю ночь с тобой разговаривал, Вив.
Проснулся, уткнувшись носом в мокрую подушку.
Л. с утра отправилась в город и принесла мне пачку писем, которые собрал верный Марсаль. От Старика – пять штук. Он все еще надеется уговорить меня вернуться, но зачем? Я исчерпал возможности его библиотеки, его подручных, да и его самого. Теперь, наверное, я знаю про Облачную грань и потусторонний мир больше, чем вся его Школа, вместе взятая. Ни один эксперимент, который можно там провести, мне не поможет. Ни одна книга не подскажет ответ.
Что весьма печально, если вспомнить, что Старик считается лучшим из ныне живущих печатников.
Мы с Л. вновь странствуем вдвоем, как было до Школы и прочего, но она выросла и помогает своему постаревшему отцу. Без нее, наверное…
***************************************
М-да. Не стоило об этом писать, прости.
Итак, мы с Л. летаем вдвоем, выслеживаем слухи и сплетни, до которых приличные ученые не опускаются. В Эмерадине у трактирщика умерла жена, а через несколько лет вдруг появилась в доме его конкурента, красивая и такая же молодая, как и в день смерти. Мы проверили – это была кукла, а зачем ее сделали, нас не касается. В Гавани Орхидей к хозяйке книжной лавки вернулся сын, пропавший без вести, и был он молодым, сильным и здоровым и т. д. и т. п. Мы проверили – это оказался двойник-фаэ, в изначальной форме, скорее всего, лис или хорек. Понятия не имею, что он замыслил и к чему все приведет.
Теперь летим в Ребассо: говорят, там есть приют для сирот, где во время последней эпидемии синей чумы не погиб вообще никто, хотя двери приюта были распахнуты для всех, кто нуждался в помощи. Путь неблизкий, и ходят слухи, что над Нувиольским хребтом орудуют воздушные пираты – говорят, их главарь очень жесток, не чурается убивать женщин и детей. Ну, про пиратов всегда так говорят, а мне уже случалось с ними сталкиваться – и я не расстался с жизнью. Приятного в этом мало, но и верить слухам не стоит.
[приписано тем же почерком, другими чернилами, торопливо]
И все-таки стоит признаться: у меня не идут из головы рассказы про этого Т. Молва превратила его в настоящего зверя в человеческом обличье. Если нам не повезет… если хоть часть слухов – правда… если придется выбирать ********** ***********************
Нет.
Все равно не отступлю.
[часть листа оборвана]
– Я хочу ее выдернуть как гнилой зуб, – тихо говорит грешник, стоя у пустого окна гостиной.
– Что?.. – машинально переспрашивает Ванда, а потом до нее с опозданием доходит смысл сказанного.
Точнее, его отсутствие.
После утренней катастрофы каждый островитянин оказался предоставлен самому себе, и для Ванды минувшие часы окутаны туманом, сквозь который едва проглядывают относительно четкие и понятные фрагменты. Мальчики какое-то время бродили по осколкам движительных панелей и оконных стекол, между уцелевшими участками сотворенной Парцеллом печати – а это ведь была печать, как же иначе? Кто-то предложил убрать мусор; грешник велел ничего не трогать. Возражений не было.
Потом Ванда вместе с… кажется, Толстяком и Котенком… а может, с ними был еще кто-то, но точно не Северо… поднялись на первый этаж дома. Мир сделался черно-белым и неуютным, как будто остров пытался выпихнуть из своего клочка пространства-времени людей, выживших лишь по недоразумению. Часы в гостиной остановились.
В кухне они что-то съели. Что-то выпили. Потом что-то друг другу сказали.
И вот теперь она стоит в гостиной и смотрит грешнику в спину.
– Собери, пожалуйста, всех в этой комнате как можно быстрее, – говорит он мягким голосом, продолжая смотреть в окно. – Мне в голову пришла одна идея, ее необходимо проверить – и на этот раз понадобится участие каждого из живущих на этом острове.
– Хорошо… – говорит Ванда, не скрывая растерянности. – Я разыщу мальчиков.
– Не только мальчиков. – Вот теперь Парцелл поворачивается и смотрит на нее. Кажется, она наконец-то научилась угадывать направление слепого золотого взгляда и даже ощущает его зрачки. – Мне нужны все. Иголка тоже. И притащите сюда… Типперена. Вы же справитесь?
Ей сразу хочется огрызнуться, уязвить его – мог бы и помочь! Но похоже, что случившееся в движительной и после, на посадочной площадке, оказалось для их гостя куда более серьезным испытанием, чем ее отравленный чай. Он двигается с трудом, словно тащит тяжкий груз, причем уже очень-очень давно… Ванда это заметила сразу после катастрофы и теперь с внутренним содроганием приходит к выводу, что грешник выглядит изможденным и балансирующим на грани обморока. Его движения скупы, как у человека, который страдает от сильного головокружения при любом неосторожном шаге или резком повороте.
С мальчиками все просто: она находит их, каждого в любимом углу, и, не тратя времени на объяснения, велит вытащить Типперена из чулана – они его туда засунули, заменив путы Парцелла на обычные крепкие веревки и кляп, – и поволочь в гостиную, к грешнику. Задача странная, но простая, и они должны справиться с ней все вместе, вшесте…
Ну да, они справятся.
С Иголкой сложнее. Все известные Ванде местечки оказываются пустыми: и закуток под балконом, и трещина в мощном стволе вяза, и сарайчик возле цистерны. В конце концов недалеко от сарая она и находит девчонку – на своей излюбленной скамейке. Иголка сидит обнимая руками колени, смотрит в пустоту, и по ее щекам струятся слезы. Воротник потрепанного платья и его нагрудная часть потемнели от влаги.
Если бы Ванда сейчас увидела Иголку впервые, ничего про нее не зная, она бы ни за что не подумала, что у этой бедняжки не все дома, что она даже собственное имя не в силах произнести… А узнают ли они это имя до того, как все будет кончено?
Ванда садится рядом. У нее не хватает решимости, чтобы просто схватить Иголку за рукав и потащить в дом, пусть таков и был изначальный план.
– Ты из-за Типперена плачешь? – тихо спрашивает она, тоже глядя перед собой. В лиловых тучах мимо острова проплывает взрослый крок – зелено-черная грозная на вид тварь с длинной зубастой мордой и острым гребнем от основания черепа до кончика мощного хвоста. По сравнению с бражником он безобиден как щенок, и Ванда лишь провожает его глазами, не испытывая даже намека на страх. – Мы так и не выпытали, кто он тебе… Ну, точно не отец.
Иголка шипит как злая кошка. Ванда бросает на нее удивленный взгляд и успевает заметить отблески страшной, почти нечеловеческой ярости на лице безумной девочки. Она, сама того не зная, коснулась какой-то жуткой тайны.
– Как ты сюда попала? – тихо спрашивает Ванда, на этот раз глядя Иголке прямо в глаза. – Он тебя нашел и спас, как всех нас? Или у тебя совсем другая история?
Иголка смотрит на нее – впервые за долгое время смотрит прямо, а не искоса или исподлобья. Качает головой, ничего не говорит.
И продолжает плакать.
Когда они входят в гостиную – Ванда ведет Иголку за руку, ступая так осторожно, словно у нее на голове балансирует блюдо, до краев наполненное горячим маслом, – оказывается, что все уже в сборе.
Конечно, первым делом она смотрит на того, чей вид причиняет боль.
Они усадили Типперена на табурет посреди комнаты. Руки и ноги у их опекуна – надо ли говорить о нем «бывший опекун»? – связаны, но во рту уже нет кляпа из старого полотенца. Судя по всему, его вытащил грешник, который теперь оседлал стул, развернув его спинкой к пленнику. Полотенце на ней и висит, серое, будто грязное. – Ванда с трудом вспоминает, что еще утром оно было белым, с блеклыми голубыми цветочками.
В металлической руке грешника зажато что-то большое, плоское, с острым краем.
Типперен глядит на Парцелла с презрением.
– Все в сборе, – говорит грешник. – Начнем.
Не зная, как лучше поступить, Ванда ведет Иголку к большому креслу, усаживает, а сама остается стоять рядом, положив руку девочке на плечо. По старой привычке хозяйки она окидывает комнату быстрым взглядом, теперь подмечая каждого по отдельности: Толстяк и Котенок рядышком на софе, Свистун на банкетке возле камина, Северо на скамеечке у часов, Молчун на диванной подушке у двери. От пустоты на подоконнике что-то сжимается внутри.
– Что начнем-то? – хриплым, неузнаваемым голосом спрашивает Типперен.
– Распутывать узел, который вы тут общими усилиями завязали, – спокойно отвечает Парцелл. – Я хочу, чтобы каждый присутствующий кратко рассказал о себе: кто он такой, откуда родом и как здесь оказался. Есть одно важнейшее условие.
Он замолкает с каменным лицом, как будто прислушивается или присматривается к чему-то невидимому. Не понимая, как это следует истолковать, Северо тихонько произносит:
– Но мы уже все рассказали.
Остальные переглядываются, кивают. Сама Ванда тоже кивает, но ее внутренности превращаются в лед. Должно быть, она машинально сжимает пальцы на плече Иголки, потому что девочка начинает ерзать в просторном кресле.
– Есть одно важнейшее условие, – повторяет Парцелл, моргнув, словно и не застывал. – Рассказ должен быть абсолютно правдивым. Да, именно так: мне нужна правда о том, кто вы такие. И даже не мне, а дьюсу острова.
– Но… – опять начинает Северо.
– Да, я говорил, что дьюс покинул остров, – перебивает грешник ровным и каким-то механическим голосом. – В тот момент у меня не было сил объяснить как следует. Дьюс – вернее, его достаточно большая часть – все еще здесь, иначе мы бы упали. Без сердца Вирны мы бы поднялись… точнее, опустились… в общем, мы бы летели иначе, боком, зигзагом, но как-то летели. Дьюс – не человек, он… ящерица. Тело сбежало, нам остался хвост, но и от хвоста есть кое-какая польза. По крайней мере, на ближайшее время.
– И что случится, если мы расскажем правду? – растерянно спрашивает Свистун.
– Хвост вырастит себе новое тело. У вас будет новая, послушная ящерица, а я заберу то, что принадлежит мне… и наконец-то улечу отсюда.
Типперен Тай при этих словах фыркает, будто не верит ни единому слову золотоглазого – или считает все его слова бессмысленным бредом. Но Ванда вдруг понимает, что это бравада: на самом деле Типперен – тот человек, которого они называли этим именем, которому они верили, – не знает, чего ждать от Парцелла. Он его боится.
– Не проще ли отобрать ключ-кольцо? – не унимается Свистун.
Парцелл пожимает плечами, как бы говоря: попробуй. Парнишка сперва теряется, а потом, нахмурив брови, встает со своей банкетки и решительным шагом, явно не давая себе ни малейшего шанса передумать, идет к связанному Типперену. Тянет руку к его рубашке, вздрагивает – обезумевший опекун клацает зубами, как будто пытается его укусить, а потом хрипло хохочет. Свистун краснеет, но не сдается; переведя дух, запускает пальцы за ворот Типперена, нащупывает шнурок.
«Я знаю, что там», – думает Ванда и закрывает глаза.
Растерянный вздох, невнятное бормотание, шепоты.
Свистун возвращается на банкетку, окончательно сбитый с толку.
– Ты первый, – говорит грешник, обращаясь к их пленнику.
Типперен снова фыркает. На его лице мелькает выражение, отчасти знакомое Ванде: так опекун выглядел, когда подозревал, что портовые торговцы прислали в корзинах не совсем тот товар, который был заказан, или переусердствовали с недовесом.
Но через пару секунд он делается очень надменным и расправляет плечи, словно пытаясь стать большим и грозным, невзирая на путы.
– Не вопрос, огрызок. Не вопрос, птенчики. Меня зовут… – Он произносит какое-то имя, и оно распадается на отдельные звуки, которые почему-то достигают ушей Ванды в странном порядке, не оставляющем даже намека на смысл. Судя по лицам мальчиков, с ними дело обстоит так же. – Родился в Паретасе годков этак шестьдесят назад. Папаша мой был трактирщиком, а мать… ну, видать, какая-то из служанок, только он все время путал имена, когда про нее рассказывал, так что не обессудьте, называть их не стану. Из дома сбежал в…
– Давай-ка о главном! – перебивает Теймар. – Кем ты стал в конце концов?
– Мне что-то подсказывает, огрызок… – Типперен ненадолго замолкает, устремив на Парцелла изучающий взгляд, – что ты и сам все знаешь. По правде говоря, твоя покоцанная морда мне смутно знакома. Мы встречались? Или я мог что-нибудь услышать про тебя, красавца такого?
– Мог, – спокойно соглашается грешник. – Ответь на мой вопрос. Кем ты стал?
– Пиратом, – говорит Типперен. Его прежнее бахвальство куда-то девается; слово звучит коротко и сухо – констатация факта, и только.
Внутри Ванды подрагивает кусок льда, вынуждая ее прижать руку к животу.